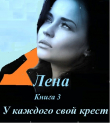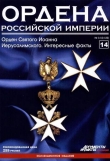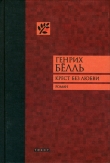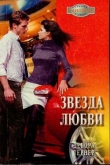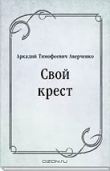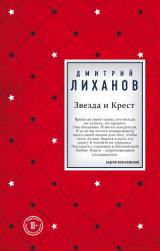
Текст книги "Звезда и Крест"
Автор книги: Дмитрий Лиханов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Военный летчик мог погибнуть когда угодно. Но все предшествующие годы она, свято веря предсказанию Нины, расставалась с ним без всякого страха. И лишь когда наступил год двадцать пятый, каждый его вылет, каждый день она начала ощущать как последний. Особенно после отправки полковника на войну. Она внутренне как-то смирилась с тем, что не дождется его живым. Но и этот год миновал. Господь Всемогущий даровал за ее смирение еще почти десять месяцев веры в ошибочность цыганских предсказаний. А когда она окончательно распрощалась со страхом, нажал на спусковой крючок «ДШК».
Ни муж, ни сын не знали, что носила она в своем сердце все эти годы. И как она эти годы жила. А если бы и узнали, все равно б не поверили, что такое возможно: четверть века хранить молчание.
Когда шарканье и пустые слова возле гроба иссякли, под узорчатыми сводами сталинского ампира зависла тягостная тишина. Военком Осокин, взявший на себя тяжкие, но необходимые обязанности распорядителя похорон, мягким шагом приблизился к вдове, склонился почтительно, извещая о том, что пришло время проститься и отправляться на кладбище.
У гроба ее вновь прорвало. Не чувствуя близости мужа, не имея возможности коснуться дорого лица, она лила слезы прямо на цинк, гладила его непрестанно рукой и даже несколько раз ударилась в отчаянии лбом. И гроб отозвался на ее удары гулким металлическим эхом.
Сашка тоже прижался к цинку после того, как от него наконец оттащили маму. Но не услышал и не почувствовал ничего, кроме приятной прохлады металла. Он думал, что тоже заплачет. Но слезы не шли. И сердце не рвалось в клочья. Сердце его, как ни странно, полнилось гордостью и пониманием того, что вот теперь и настало время отмщения за отцовскую смерть. Что отец уже не сможет его отговорить. И все поймут. Все, кроме матери.
На районном кладбище, утыканном фанерными и бетонными пирамидами со звездами на оконечнике, реже – крестами православными, еще реже мусульманскими полумесяцами, царила тишина и мерзость запустения, оставленная горожанами на могилах собственных предков. Недавно тут отмечалась Родительская суббота. Горожане толпились на кладбище целыми семьями, с сумками, набитыми вареными яйцами, курями, магазинными ватрушками да самолепными пирожками с зеленым луком. Везли и водку. Расположившись на родных могилах, сперва прибирались, очищали холмики от сорной травы, зловредных одуванчиков и осоки. Прибравшись, украшали их оранжерейными гвоздиками. Раскладывали провиант и водку на помин души. Кто побогаче, на специально возводимых для поминок столиках, а кто попроще, так и прямо на сырой земле. Надирались скорехонько. Принимались драть горло жалостливыми, а иной раз и похабными песнями, лить запоздалые слезы о прощении. Порой мужики и бабы, неясно с какой только радости, пускались на могилах в пляс, утрамбовывая и попирая землю и сам холмик разухабистой, дикой скачкой. Иные и падали тут же, оглашая окрестные участки пьяным раскатистым храпом. Были, конечно, и те, кто блевал, отравившись водкой. Но все же не на родственные, а всегда на чужие могилы.
Но был на местном кладбище, естественно, и особый участок, где хоронили людей почитаемых, совершивших для города особое благодеяние или хотя бы занимавших важную должность вроде судьи, или начальника тюрьмы, или руководителя телефонной станции. Здесь и земелька не столь заболочена, местами появляется песок и елочки с голубым отливом. И на могилах не пляшут. Именно здесь, под покровом старых елей, нашел свой последний приют сгоревший полковник. Земля тут была и вправду пуховая, легкая, так что могильщики засыпали гроб в считаные минуты, накидали поверх холма елового лапника, уложили венки и отсекли половинки стеблей гвоздик, чтобы окрестные цыганки вновь не пустили их в товарооборот. Установили фото. По правую руку от полковника располагалась могила ветерана Великой Отечественной войны, освобождавшего заключенных концлагеря Освенцим, а по правую – директора городского рынка, скончавшегося от инфаркта два года тому назад. Но между ними – еще землицы на метр с небольшим. Их попросила у города вдовушка. Конечно же, для себя.
Поминки устроили в офицерской столовой училища. Обычно для подобных случаев сдвигали вместе с десяток пластиковых столов, ставили несколько десятков убогих стульев, исполненных из стальных труб, фанеры да дерматина яростного бордового цвета. Извлекали со склада не простиранные, со следами прежних пиршеств скатерти, посуду с потускневшим никелем, тарелки – в целом пригодные, но часто и с отколотыми краями и трещинами. Офицерский общепит хоть и снабжался получше курсантского, а тем более солдатского, однако ж испокон веков считался затратой не приоритетной. Официантки Зоя и Милка – в крахмаленых передничках по случаю скопления начальства, с улыбками, дежурными на раскрашенных алым цветом губах, – тащили с кухни салат «Столичный» с большим количеством консервированного горошка, вареной моркови, яиц, лука, докторской колбасы, приправленный несколькими банками майонеза; волокли, конечно, селедку под шубой в марганцевых разводах по кремовой заливке все того же провансаля; доставали из-под полы и жирную балтийскую селедку без шубы, употребляемую тут с большим удовольствием, что называется, au naturel; извлекались из электрической топки глубокой промышленной печи противни с пирогами – капустным, рыбным с треской, с курицей и несколько сладких к чаю – с малиновой да вишневой начинкой; бурлили в пятидесятилитровом баке пять сотен пельменей, что Милка с Зоей и с поварихой Альфиёй Хазратовной рубили, месили и лепили, почитай, всю ночь. Кутью, блины с киселем, конечно, тоже сгоношили как чин почитания традиций предков, да только про традиции эти и про чин поминовения никто из собравшихся, само собой, не знал. Семнадцатую кафизму и девяностый псалом из Псалтыри не читали, перед трапезой не крестились. Да и простая мысль о том, что погибшего за Родину русского воина хорошо бы по православному обычаю отпеть, тем паче что по некоторым данным, тот был в детстве в православной вере крещен, никому отчего-то в голову не пришла. А если и пришла, то не задержалась. Может, оттого, что были они советскими людьми, чья общность не предполагала национальности и вероисповедания?
А уж коли расставались с человеком без надлежащего в таких случаях уважения, то и поминки от пьянки мало чем отличались. Поначалу, разумеется, выставили перед портретом погибшего полнехонький стакан с водкой, укрытый ломтем черного хлеба, словно и он участник этого попоища. Молча, не чокаясь, со скорбными выражениями на физиономиях, опрокинули внутрь «беленькой». Не по рюмочке, а по стаканчику стограммовому, что отшибал через минуту и ясные мысли, и правильный говор, полнил советскую душу героизмом, откровенностью, неимоверной ненавистью и любовью. Через час уже и чокались вовсю. Драли нещадно глотку народным творчеством. И похабные анекдоты, позабыв и про вдову, и про покойника, травили.
Боевой офицер, а через несколько недель майор авиации Витя Харитонов надрался одним из первых, и поскольку компанию ему составлял военком Осокин, то совсем скоро оба начали объяснять сыну, какого отца тот потерял.
– Ты ващще знаш, чё он был за чеэк? – вопрошал Харитонов Сашку. – Не-а! Ничё ты не знаш. Скала! Чилавечищща! Знаш, как он энтих духов херачил?!! Пёрднуть боялись! Не-а, таких командиров уж не-е-ет!
– Вы должны помнить, Саша, – вторил ему чуть более осознанно военком. – Ваш отец – герой! Настоящий! Не плачьте о нем! Он этого не любил.
Да тот и не плакал. Он с интересом пока что смотрел на этих мужчин, с одним из которых полковник провел последние минуты и часы своей жизни. Делил хлеб. Отдавал приказы. Пил водку. Убивал. Они нравились ему своей простотой и пьяной откровенностью. Он верил, что ребята эти – соль советской земли со всеми ее пороками и бедами, горестями и трагедиями, среди которых главная, конечно, нынешняя необъявленная война, о которой возможно толковать разве что на таких вот поминках по погибшим воинам, да и то после доброй порции анестезии.
И вот ребята эти, с трудом ворочая языком, теперь рассказывали Сашке про то, как каждый день гибнут бойцы, а враг – коварен и беспощаден, но мы с нашим-то боевым опытом, что переняли от дедов и отцов, с нашей-то огневой мощью их непременно добьем, запечатаем в эти долбаные скалы.
Еще в училище Сашка написал два рапорта с просьбой отправить его штурманом в Афганистан. По окончании училища – еще два. Коварно прорвавшаяся в его плевру палочка Коха, впрочем, уже через несколько месяцев прервала его карьеру в ВВС. И даже хлопоты полковника не смогли изменить решения медицинской комиссии. «На войне не только летчики воюют, – успокоил по телефону отец, – а из тебя добрый авианаводчик выйдет. Они нам здесь ох как нужны! Буду хлопотать». Но не успел. Запроса на Сашку так и не пришло. Харитонов про запрос тоже ничего не знал. Но подтвердил: на всю нашу сороковую армию авианаводчиков не больше, быть может, пятидесяти. Мотыляются по всем операциям. От Кандагара до Кундуза, от Герата до Хоста.
Ближе к вечеру, когда офицерскую столовую полнило густое мужицкое толковище, несвязные речи, рой насекомых, учуявших сладость растекающейся ягодной начинки и отбросов человечьего стола, когда водочный перегар и злой дым болгарских сигарет заволокли столовую густым смрадным туманом, а первые бойцы, среди которых, как ни странно, оказался и военком Осокин, уже рухнули лицом на столы, Витька Харитонов чуть было не устроил настоящую дуэль с водителем военкома Равилем, обвинив татарина в коллаборационизме и трусости.
– Су-у-ука! – орал Витька так, словно выходил на угол атаки вражьего каравана, вдобавок сжимая в одной руке вилку, а в другой великолепный чустский тесак, выполненный из рессорной стали и хранимый им в голенище сапога на всякий пожарный вроде этого случай. – Су-у-ука, тылавая-а, – заходился летчик, – крови-и ни нюх-а-а-ал ищо-о! Щас ты, су-у-ука, нахлебаешься!!!
Шатаясь, падая и вновь поднимаясь, Витька все пытался догнать и зарезать татарина, который в свои двадцать лет на войну не пошел, возит на машине военкомовскую жопу, а вместо него гибнут другие ребята. Может, тоже татары.
Равиль, которого не пустили на войну по той причине, что он у матери единственный кормилец, был, по счастью, трезв и никаких претензий морального, политического и религиозного характера к пьяному капитану не имел. Зато щупленький этот паренек имел взрослый разряд по боксу. Это и позволило ему в считаные секунды обезвредить агрессора, конфисковать оружие и ненадолго вырубить Витю коротким ударом в челюсть, от которого без пяти минут майор грохнулся оземь и захрапел глубоким богатырским сном. Случись иначе, дошло бы, не дай бог, до кровопролития, не видать Вите новой звездочки, а быть может, и в каземат бы упекли. Такое с ветеранами на гражданке подчас случалось.
Завершились поминки зажигательными страданиями в исполнении Зои и Милки, в свободное от службы на кухне время подвязавшимися в народной самодеятельности. По просьбе господ офицеров девушки исполнили дуэтом с притопами, прихлопами и визгом фривольные частушки, самой приличной из которых была про комсомольскую стройку БАМ. «Приезжай ко мне на БАМ с чемоданом кожным, – голосила Зоя, – а уедешь ты отсюда с хером отмороженным». «Приезжай ко мне на БАМ, – утешала офицеров Милка, – я тебе на рельсах дам».
Она и дала вместе с Зоей в тот же вечер в подсобке, допивая со знакомыми прапорщиками оставшуюся с поминок водку.
…Всю-то ноченьку ворочался Сашка, выслушивая за стенкой поначалу надрывные, а потом словно бы скулящие стоны матери, искапал ей пузырек валерьянки да еще корвалола. Часто выходил в одних трусах на балкон спалить сигарету. Причем не одну. Глотал воду прямо из носика чайника со свистком. И ледяной грушевый компот из холодильника. Думал и вспоминал. Вспоминал и думал.
Пока родители были молоды и занимались больше обустройством собственной жизни, нежели зачатым впопыхах между переездами из гарнизона в гарнизон мальчиком, тот большую часть года проводил у деда с бабкой в несусветной глуши, в деревне Киселиха Шенкурского района Архангельской области. Сашкин дед, охотник-промысловик Леонид Федорович, в прежние-то времена план по белке, кунице, хорям и бобру исполнял с большим довесом, имя его звучало на производственных собраниях с придыханием, а уж грамот, значков всяких – не счесть. Была даже одна медалька, удостоверявшая, что ее обладатель – передовик девятой пятилетки. По окрестным с Киселихой чащобам понаставлены были у Леонида Федоровича ловушки, западни и удавки, которые необходимо было вовремя настроить да проверить потом на предмет добычи. Вот и бродил он по лесам не днями – неделями, свежуя зверя прямо на месте, снаряжая капканы его же, зверя, требухой, а ценную шкурку укладывая в сидор. Государству советскому на продажу.
Супруга его и соратник пожизненный, к удивлению, носила точно такое же имя и отчество, только в женском исполнении. Звали ее Леонида Федоровна. Лучшего специалиста по засолке, зачистке от мездры, выделке звериных шкурок до состояния высших стандартов потребкооперации на двести верст не сыскать. Вот и отправлялись к ней охотнички на поклон. С денежкой в кармане.
Мертвые звери и птицы, таким образом, окружали Сашку с сопливых годов, когда дед тащил из тайги помимо шкурок еще и битых зайцев, кабанчиков, глухарей, тетеревов. А уж рябков – без счету. Так что стреляной, окоченевшей дичи ребенок не боялся. И не жалел ее даже.
Когда внуку исполнилось лет семь, дед решил приучать Сашку к охоте. На случай такой у него даже ружьецо имелось: полученный в награду за заслуги перед Родиной «ИЖ-18» шестьдесят пятого года выпуска и тридцать второго калибра. Ружьишко это Федорович прежде использовал на рябчика или белку, лично снаряжал под него патроны, но вот время пришло, и внучку оно в самый раз сгодилось. Пока шли по лесу, дед объяснял Сашке, как правильно выцелить, дышать, как требуется на охоте прятаться, подмечать, башкой крутить. Несколько раз Сашка бахнул разминки ради по порожней бутылке. И не попал ни разу.
Дед метров, может, за сто приметил белку в широкоплечей кроне древней осины. Велел внуку прижать хвост и не двигаться. И, ни на мгновение не спуская глаз со зверька, сторожко, медленным ходом двинулся к осине. Сашка – следом за дедом. Редкий, но разлапистый ельничек прикрывал их сверху, и белка не замечала охотников, подбирающихся к ней все ближе. Она даже соскочила на несколько ветвей пониже, подставляясь прямо под выстрел рыжим, с пепельным подшерстком боком. Сашка поднял ружье. Прицелился и спустил курок в перерыве между биением сердца, как учил его дедушка. Грохнул выстрел. Белка дернулась неуклюже и рухнула вниз. Когда Сашка подбежал к зверушке, она была еще жива. Дергалась всеми четырьмя лапками, будто убежать хотела. Сердечко ее колотилось под пальцами Сашки бешено, черные бусинки глаз стекленели, а из приоткрытого рта сочилась на руки и на штаны мальчика густая бордовая кровь. И тут ему сделалось худо. Он отбросил мертвую белку, бросил ружье и, обливаясь слезами, не видя и не слыша возмущенных окриков деда, стремглав помчался в сторону дома. Прочь из этого леса. Прочь от смерти, которую он прежде только наблюдал, но теперь впервые сотворил собственными руками. Сам убил живое существо. Детская, неиспоганенная его душа плакала и страдала, и сам он вместе с нею страдал и плакал, не понимая отчего, но только чувствуя, что произошло нечто непоправимое, то, что навсегда изменит и мальчика, и весь его внутренний мир, сделает его совсем иным, лишит его целомудрия и невиновности пред страшным этим и непонятным темным миром. Слезы его то высыхали, то вновь катились соленой влагой по щекам и шее. И не было им конца.
Целый день он не разговаривал с дедом, и бабка не смогла его растормошить. Не чищенное после того единственного выстрела ружье так и осталось стоять за шкафом. Дед с ним охотиться больше не стал. Только ворчал время от времени с возмущением и непониманием: «Што за народ пошел?! Нежный!»
Сверстники Сашкины деревенские к семи-то годам уже вовсю толковали промеж собой на матерном языке, бились в кровь, защищая свою ли, семейную честь и имя, а некоторые и курили краденные у отцов и дедов папиросы. Только вот Сашка, хоть и рос с самого, можно сказать, младенчества с ними, науки эти осваивать словно стеснялся. Его можно было чаще застать со старинной книжкой в руках, нежели возле речки, где рыбалила хайрюзов, плескалась в студеной реке Паденьге местная детвора, или увлеченно вращающим колесико настройки приемника «Спидола», открывающего ему далекие города и страны, незнакомые языки и людей, отсюда, из Киселихи, конечно, не видимых, но живущих и мыслящих, говорящих ему о чем-то, на земле этой огромной происходящем. А то, бывало, прижмется спиной к теплой бревенчатой стене темного дедовского дома и все смотрит вдаль на угасающий свет дня, все думает о чем-то своем, вовсе, должно быть, не детском.
Поначалу родители хотели отправить Сашку в первый класс деревенской школы, до которой из Киселихи шлепать не более километров двух, да только, как ни упрашивала Леонида Федоровна, парня туда не приняли. Мальчик оказался прописан не то чтобы в другом селении, но даже в области другой. А главное, учить его было в сельской школе уже и нечему. Саша бегло читал, писал родителям письма печатными буквами, складывал, вычитал и умножал до ста. Пришлось ему жить в деревне еще один год, а на следующий – перебираться в город. С тех пор он в Киселихе не бывал и деда с бабкой не видел. На все вопросы о стариках всякий раз получал от матери и отца уклончивые ответы. Мол, все хорошо. Следующим летом поедешь. Лишь когда Сашке исполнилось двенадцать, мать рассказала ему, что дедушка с бабушкой умерли. А когда тому исполнилось четырнадцать, сообщила наконец полную правду. Зимой того года, когда Сашка покинул Киселиху, дед пропал в тайге без вести. Искали его почти месяц не только силами промысловиков, заготовителей леса, но и с милицией. Да так и не нашли. Исчез Леонид Федорович из этого мира, словно его и не было. А в конце февраля повесилась от одиночества Леонида Федоровна. Труп ее, белый от инея, обнаружен был случайно почтальоном, доставившим ей очередное послание от родни. Дом Сашкиного детства заколотили досками. И оставили без призора.
Школьная жизнь, которую Сашка осваивал экстерном, перескакивая из класса в класс скорее обычного и оттого не имея друзей и приятелей, пронеслась для него легко и как-то до странности беззаботно. По окончании десятого класса он имел серебряную медаль и комсомольскую характеристику, позволяющую ему поступать в самые престижные университеты СССР. Но он выбрал училище, готовившее штурманов для боевой авиации. То самое, что оканчивал в свое время отец.
Близость к отцу, если угодно, безусловное ему подчинение и послушание были той самой незримой чертой Сашкиного характера, что вырабатывалась годами, прежде всего, конечно, под непреклонным воздействием матери, которая словно верный адепт развивала и подтверждала при каждом удобном случае догму отцовской непогрешимости. «Все, что мы имеем с тобой, – то и дело внушала мать, – исключительно благодаря папе. Его таланту, трудолюбию, уму. Если бы не он, жили бы до сих пор в Киселихе. И кем бы ты стал еще, неизвестно. Может, даже пьяницей». Сашка понимал, что не стал бы пьяницей, даже если бы всю жизнь прожил со стариками в деревне, где сверстники его с совсем малых лет действительно полюбили сперва пивко, а затем и горькую. Сашке это дело вовсе не нравилось. Однако во всем остальном ему приходилось с матерью соглашаться. Не будь отца, жизнь их деревенская промелькнула бы, подобно жизни лесных пичуг: хоть и свободно и с песней, да без особой цели.
Сам отец разговоров на эту тему не вел. Будучи человеком в третьем поколении военным, он и общение с сыном свел к привычным для него приказаниям и отчетам об их исполнении. Начиналось все как будто даже не всерьез со слов «Подьем!» вместо «Доброе утро, сынок» и целеуказания сдать биологию на отлично. Впоследствии же этот стиль незаметным образом проник и в более интимные области их отношений. Увольнительная до девяти. Обед – тридцать минут. Отбой в десять. Зарядка во дворе на турнике и зимой, и летом. Доклад о летчиках-комсомольцах. Участие в первомайской демонстрации. Спартакиада народов СССР. Любое ослушание, любое неповиновение отцовскому приказу становились причиной тяжелого и угрюмого молчания, словно не вечерняя зарядка пропущена, а сорвано наступление на Берлин. Сашка и сам понимал, что полувоенная организация его подростковой жизни исключала проникновение в нее всевозможной дури, гарантировала тот самый результат, которого он в неполные шестнадцать лет уже добился; однако же, как и в любом подрастающем организме, мальчишеском тем более, подобная муштра вызывала в нем внутренний протест и желание самоутвердиться. В седьмом классе он принялся самостоятельно учить испанский язык, повесил на стену портрет Че Гевары и флаг движения «26 июля», известив родителей, что после окончания средней школы поступит в спецшколу ГРУ, где готовят для партизанской войны в Латинской Америке. В восьмом, увлекшись движением хиппи, отпустил волосы до плеч, булавкой низвел до состояния бахромы концы югославских «техасов» и прилепил рядом с Че черно-белую фотографию Джимми Хендрикса, который теперь визжал и стонал в его комнате из катушечной «Яузы» вместе с песнями «Роллинг Стоунз» и «Дип Пёрпл». В девятом закурил. А в десятом увлекся идеями левого анархо-синдикализма, зачитываясь трудами Бакунина и Прудона. Вся эта чушь родительского понимания не встречала. За курение был бит отцовским ремнем. А за анархо-синдикализм подвергнут был месячному презрению и лишен летнего отпуска в Пи– цунде.
Суровый отцовский надзор и воинский порядок в семье, впрочем, естественным образом облегчили его существование в училище. Казарма не пугала его, как большинство очутившихся тут сразу же после школы домашних ребят. Ее порядки, правила и уставы были Сашке понятны и давно изучены. Так что следующий этап его короткой пока что жизни в Челябинском высшем военном командном училище штурманов, а в сокращенном виде ЧВАКУШ, проистекал просто и без особых проблем. Тем более что некоторые из преподавателей почтенного возраста еще помнили его отца, следили за его штурманскими победами и дивились, что отпрыск, быть может, даже грамотнее и смекалистее отца, с честью несет семейное имя.
За пять лет Сашка научился управляться с навигационными системами любых советских боевых самолетов, планировать и рассчитывать различные способы и виды бомбардировок, знать, снаряжать для боя эти самые авиационные бомбы, включая бомбу ядерную. Нестарые дядьки, ветераны Великой Отечественной войны, научили его тактике воздушной стрельбы, а еврей Рапопорт – сложнейшей математической выкладке, позволяющей по одной таблице, даже без приборов целеуказания, рассчитать угол атаки и скорость фугаса до точки взрыва.
Но главное, Сашку научили летать. Полет – это ни с чем не сравнимое чувство абсолютной тишины и безбрежной свободы, когда ты не слышишь ни звука двигателя, ни звуков мира, расстилающегося под тобой, но только песнь своего сердца. Его ликование. И даже отвратный запах резины, перемешанный с запахом талька в кислородной маске, не мешают твоему счастью. И твоей силе, повинуясь которой боевая машина то падает камнем вниз, то вращается бочкой, то мчится, сверкая серебристыми крыльями с алой звездой, прямиком в стратосферу, туда, где и до космоса – рукой подать. Во время одного из таких учебных полетов двигатель и вовсе угас. Всего на мгновение, когда божественная высота, чистота и тишина охватили все существо молодого пилота до самой крохотной клеточки. Страха не было. Только абсолютная уверенность в Божием промысле, который не допустит его гибели в этой первозданной, ангельской лазури. Громыхнув выхлопом, двигатель вновь запустился и, оставляя позади себя ватный след конденсата, повел машину на плановое снижение. Но то мгновение между жизнью и смертью, та абсолютная вера в спасение поселились в душе Сашки на– всегда.
А на третьем курсе началась война. Отец отправился в первую командировку еще в декабре семьдесят девятого. Но скоро вернулся. Играл желваками в ответ на вопросы жены и сына. Говорил мало. Раскрылся едва-едва лишь на дне рождения Сашки, уронив в себя прежде несколько рюмок водки за семейным столом. Запалил сигарету. «Не рвись туда, Саня, – проговорил между глубокими затяжками, – это глупая война. Мы ее обязательно проиграем». А через месяц вновь на войну собрался. Теперь уже навсегда. Сашка запомнил тот весенний день отчего-то до самых мелких деталей. Бетонка взлетной полосы парила после дождя. А над бетонкой кружились стаи золотистых бронзовок – красивых, иссиня-смоляных с металлическим зеленым отливом. Жуков манили заросли белых пионов, что высадила чья-то заботливая, женская скорее всего, рука в палисаде возле диспетчерской башни. Тяжело и гулко приземлялись они в нежную пену лепестков, бултыхались в ней, собирая на крылья, на брюхо и лапки сладкую пыльцу, ароматный нектар.
Обок полосы уже переминались, дымили сигаретами несколько офицеров высоких авиационных званий и разных профессий, собранных Родиной и полковником для формирования будущих частей, эскадрилий и полков 34-го авиационного корпуса 40-й армии. Офицеры травили анекдоты. Смеялись и улыбались беспечно, словно собирались в отпуск на Крымское побережье. Выдавали их только большие дорожные чемоданы. И летняя полевая форма, в которой в отпуск обычно не ездят. И что-то во взгляде. Не страх, конечно же. Но глубинная какая-то тревога. Печаль тихая. Транспортный «Ан-12» с самого утра загружали зачехленным оборудованием спецсвязи, сложенными широкополосными антеннами, ящиками с трансиверами и ретрансляторами. Лавки в грузовом отсеке предназначались для офицеров, оставалось еще несколько кубов свободного пространства для их чемоданов. Предчувствуя, быть может, грядущую беду, мать на аэродром не поехала. На заднем сиденье черной отцовской «Волги» Сашка сидел один, пытаясь поймать взгляд отца в зеркале заднего обзора. Но отец на него не глядел. И по прибытии сразу же отправился к отъезжающим. Вспомнил о сыне за пять минут до вылета. Подбежал суетливо. Обнял. Расцеловал троекратно по-русски. А затем в первый и последний раз сказал ему то, чего прежде не говорил ни разу. «Храни тебя Господь!» – произнес отец вполголоса. Отец улыбался, но тело его под рубахой источало запах тревоги. Сашка чувствовал этот запах и улыбаться в ответ не мог. В носу и в глазах его защипало, и слезы навернулись мгновенно. Он хотел что-то ответить отцу. Пожелать ему остаться в живых. Вернуться домой как можно скорее. Поберечь себя. Но вместо этого пролепетал какую-то глупость. «Привези джинсы», – сказал Сашка сквозь слезы. Отец кивнул и, придерживая рукой фуражку, побежал к само– лету.
Майские жуки все еще кружились над раскаленным бетоном взлетно-посадочной полосы, когда транспортный самолет, рассекая воздух и жуков могучими лопастями, тяжело оторвался от земли, оставляя после себя сотни мертвых насекомых и неодолимое чувство печали.
Окончил он ЧВАКУШ хоть и без красного диплома, которого Сашку лишили на пятом курсе за драку на танцах с молодым и самоуверенным преподавателем научного коммунизма, однако со специальностью «штурман бомбардировочной авиации» и направлением в Туркестанский военный округ, который он как отличник имел право выбрать самостоятельно. Ведь именно отсюда – самый короткий путь на войну.
О туберкулезе Сашка узнал на медкомиссии в Ташкенте. И тут же был отправлен обратно домой с убийственным приговором о негодности к штурманской службе. Еще из Ташкента несколько раз звонил отцу в Кабул. Сетовал на предвзятость военных медиков, на жестокость судьбы, умолял употребить свои связи, да только полковник велел новослепленному лейтенанту возвращаться в расположение матери и ждать решения о работе авианаводчиком. Но Сашка его так и не дождался.
Проворочался Сашка без сна в раздумьях тягостных до самой зорьки. И лишь только запердели выхлопными газами первые автобусы, облачился в офицерский мундир и отправился в военкомат.
Военком Осокин мучился похмельем. Он даже, грешным делом, хотел по пути на службу оздоровиться бутылочкой «Жигулевского» из гастронома, однако, опасаясь, что этим не ограничится, решил освежаться крепким чаем. Его-то, набуравленного до состояния настоящего чифиря, и потреблял военком из мельхиорового подстаканника с изображением космического корабля «Восток», когда в кабинет вошел Сашка.
– Товарищ майор, – отчеканил твердо последний свой аргумент, – снова принес рапорт. Хочу отомстить за смерть отца.
– Да на тебя еще на прошлой неделе запрос пришел, – поднялся из-за стола лысый и низенький военком. – Только я тебе со всей этой суматохой сказать позабыл. Собирайся. В распоряжение штаба Сороковой армии.