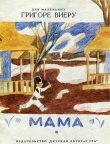Текст книги "Нора Галь: Воспоминания. Статьи. Стихи. Письма. Библиография."
Автор книги: Дмитрий Кузьмин
Соавторы: Нора Галь,Борис Володин,Юлиана Яхнина,Александра Раскина,Евгения Таратута,Эдварда Кузьмина,Раиса Облонская
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Нора Галь
Под звездой Сент-Экса
Да, именно так: вот уже больше полувека в моей жизни и работе светит звезда Антуана де Сент-Экзюпери.
Мне посчастливилось, я узнала это имя еще летом 1939 года, когда взяла в руки томик «Terre des Hommes», только что вышедший на французском языке, тогда я и не подозревала, что много позже переведу эту повесть на русский. Мне надо было написать о ней две-три странички для журнала «Интернациональная литература», который рассказывал советским читателям о книгах, изданных за рубежом.
Наверно, в ту пору у меня попросту не хватало жизненного опыта, чтобы вполне постичь и оценить все грани и философскую глубину этой небольшой книжки. Но она меня околдовала мгновенно. Прямо за душу брали и мужество летчика, и зоркость художника, и доброта, мудрость, высокая человечность Человека.
Тут началось гитлеровское вторжение во Францию, журнал стал рассказывать уже не о книгах страны – о ее трагедии, и рецензия моя не увидела света. Но «Планета людей» запомнилась с тех пор – и навсегда.
А двадцать лет спустя в доме моего давнего и лучшего друга – писательницы Фриды Вигдоровой[38]38
Вигдорова Фрида Абрамовна (1915-1965) – писатель, журналист. О своей дружбе с Вигдоровой и ее книгах Нора Галь пишет в письме школьному литературному клубу «Бригантина» г.Артемовска Луганской обл. (май 1975 г.): «На 2-й курс Литфака, где я училась, перевелась из Магнитогорска в январе 1935 года Фрида Вигдорова – и 30 лет, до самой ее смерти, мы были друзьями. Может быть, вы читали ее первую, еще вдвоем с Т.Печерниковой написанную книжку „Двенадцать отважных“ – о пионерах-подпольщиках села Покровского. Наверно, знаете вы „Повесть о Зое и Шуре“ – на переплете стоит имя их матери Л.Т.Космодемьянской и, боюсь, не все вы замечаете на обороте титульного листа слова: „Литературная запись Ф.Вигдоровой“. А ведь эти слова значат очень много! Чтобы родилась такая книга, мало записать подряд все, что вам рассказывают. Надо еще все это продумать, прочувствовать, построить, надо перечитать множество писем, тетрадей, документов, поговорить с десятками людей, которые знали героев, учили их, учились или воевали вместе с ними...
Фрида Вигдорова была очень хорошим и очень справедливым человеком. Поэтому ее по-настоящему любили ученики (в Магнитогорске она учила в начальной школе, а после института преподавала в старших классах, вот таким ребятам, как вы). Она стала прекрасным журналистом, всегда и во всем старалась добиться справедливости. И книги ее тоже добры и справедливы. Очень горько, что умерла она рано, не успела дописать свою последнюю книгу – об Учителе и его учениках. Первая ее отдельная книжка тоже была об учительнице и учениках, о ребятах военных лет, называлась она „Мой класс“. А потом появилась та трилогия (романы „Дорога в жизнь“, „Это мой дом“ и „Черниговка“, – Сост.), которую я вам посылаю. Это книга не документальная, но отчасти она продолжает „Педагогическую поэму“ А.С.Макаренко: ее главный герой – Семен Карабанов из „Поэмы“, в основе книги Ф.Вигдоровой дальнейшая судьба Семена и его жены – черниговки Гали.
Прочтите эти повести внимательно, вдумайтесь в характеры взрослых и ребят, даже самых маленьких. Думаю, здесь немало такого, что очень близко и вам, хотя от времени, событий и настроений, о которых идет речь, вас уже отделяют десятилетия.
Последние две повести Фриды Вигдоровой, которые вышли при ее жизни, „Семейное счастье“ и продолжение – „Любимая улица“, к сожалению, прислать вам не могу. Но от души советую – поищите в библиотеках! Хорошо, если вы найдете и сборники ее очерков и статей – „Дорогая редакция...“, „Минуты тишины“ и особенно „Кем вы ему приходитесь?“ Вы увидите, что не зря я называю эту писательницу хорошим и справедливым человеком.
Большое счастье, когда есть у тебя настоящие друзья. Наверно, я тоже счастливый человек, потому что всегда была богата настоящими друзьями – и одним из самых близких была Фрида Вигдорова. Надеюсь, что хотя бы некоторые из вас, прочитав ее книги, тоже найдут в ней друга. Ведь хорошая книга и читателя, если только он, неровен час, не очерствел душой, чем-то одаряет и делает лучше, а значит и счастливей.»
Ряд статей на нравственно-педагогические темы написан Вигдоровой и Норой Галь в соавторстве (см. библиографию).
Наиболее известная страница общественной деятельности Вигдоровой – ее участие в процессе Иосифа Бродского в 1964 г.: запись судебных процессов над поэтом (распространялась из рук в руки, заложив основу русского общественно-политического самиздата; опубликована дочерью Вигдоровой А.Раскиной: «Огонек», 1988, #49) и дальнейшая борьба за его освобождение, завершившаяся победой уже после ее смерти. Дилогия Вигдоровой (повести «Семейное счастье» и «Любимая улица») переизданы в 2002 г. московским издательством «Слово».
Подробно о Ф.А.Вигдоровой см.: Чуковская Л.К. Памяти Фриды. / Предисл. Е.Ефимова. // «Звезда», 1997, #1, с.102-144.
[Закрыть] – ко мне подбежала ее младшая дочь с тоненькой книжкой в руках:
– Смотрите, какая сказка!
Знакомая преподавательница принесла книжку, изданную у нас по-французски для студентов[39]39
Saint-Exupéry A. Le petit prince. / [Комм. и словарь И.Н.Соболевой и А.А.Соболева]. – М.: Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1958.
[Закрыть].
Так я познакомилась с Маленьким принцем.
Я умолила ненадолго оставить мне книжку – и залпом, не отрываясь, перевела ее. Перевела для себя, для самых близких друзей, вовсе не думая о печати.
Но Фрида Вигдорова предложила сказку редакциям журналов. Приняли ее не сразу, смущало, что непременно нужны хотя бы основные рисунки, а, скажем, «Новый мир» таких иллюстраций никогда не давал. Всё же в августе 1959-го со страниц журнала «Москва» Маленький принц впервые заговорил с нашими читателями по-русски[40]40
Еще несколько подробностей знакомства Норы Галь с «Маленьким принцем» – в письме М.И.Беккер (11.06.1976): «М/Принца я впервые прочла у Фридочки – жила у нее после воспаления легких с осложнением на сердце, она меня тогда забрала из моей чудовищной „Вороньей слободки“, спасая от инфаркта. Кто-то ей принес франц. текст. /.../ Я сошла на этой книжке с ума – за 4 дня, не отрываясь, перевела просто для Ф. и ее девочек, ни о какой печати не думая. /.../ Она сама обошла тогда, мне даже не говоря, все моск<овские> журналы – и все по первому заходу отказались! Потом уже взял Овалов в „Москву“, а прочие, говорят, кусали себе локти». О «знакомой преподавательнице» – И.И.Муравьевой – см. примечание к статье А.Раскиной.
Как вспоминает Р.Облонская, публикация «Маленького принца» в «Москве» стала возможна благодаря содействию Е.С.Ласкиной, работавшей тогда в журнале, и принципиальному решению заместителя главного редактора Льва Овалова (других издателей смущала не только и даже не столько необходимость печатать рисунки, часть которых, кстати сказать, в «Москве» опущена, сколько боязнь подвергнуться обвинениям в пропаганде «абстрактного гуманизма»). См.тж.: Кузьмин Д. Сент-Экзюпери в России. // Книжное обозрение, 1993, # 44 (5.XI.), с.8-9.
[Закрыть].
Но еще до того, как вышел из печати номер журнала, я убедилась: нельзя оставлять эту сказку только «для себя». От Фриды Вигдоровой о ней узнали в одной из московских детских библиотек, где много лет работал литературный кружок. И меня попросили прийти на собрание кружка.
Не забыть мне эту встречу. В небольшом помещении библиотеки собралась довольно пестрая аудитория: и девятилетние детишки, и подростки лет 15-16, и несколько взрослых – родители и молодой энтузиаст-руководитель кружка[41]41
В.И.Глоцер, впоследствии известный литературовед, специалист по ОБЕРИУ. На протяжении 20 лет (с нач. 50-х до нач. 70-х гг.) вел литературный кружок при детской б-ке им. М.В.Ломоносова; опыт этой работы использован в его книге «Дети пишут стихи» (1964, предисл. К Чуковского), а также составленном им сборнике детских стихов «Раннее солнце» (1964, предисл. С.Маршака).
[Закрыть]. Я ждала, что дети будут не слишком внимательны: почти все они в тот вечер должны были выступать сами, читать свои стихи или рассказы. Но как же я ошиблась!
Очень коротко я рассказала, кто написал сказку, и прочитала главку о встрече Маленького принца с Лисом. Слушали поистине затаив дыхание – у меня слабый голос, но мне ничуть не пришлось напрягаться. И потом ребята подходили ко мне и, забыв о собственных авторских волнениях, повторяли, как им понравилась сказка – такая хорошая, добрая! – и как хочется прочитать ее всю.
Это было начало.
Сказка шла вширь и вглубь, обращалась к людям всех возрастов, не только к читателям, но и к зрителям, и к слушателям. Любопытно, пожалуй, вспомнить вехи этого подлинно триумфального пути.
В 1960-м – «дорожная», «карманная» книжечка массовой библиотеки «Огонька» с немногими штриховыми копиями авторских рисунков (тираж 150 тысяч). И тогда же, сильно сокращенная в расчете на читателей семи-восьми лет, сказка появляется в иллюстрированном детском альманахе «Круглый год».
В 1961-м она звучит по радио в исполнении М.Бабановой и А.Консовского. Этот радиоспектакль снова и снова передают в последующие годы по просьбам слушателей, широко расходится долгоиграющая пластинка с записью.
В 1963-м «Молодая гвардия» выпустила первое отдельное издание сказки со всеми рисунками автора в красках (тираж 300 тысяч). В тот же год в Большом зале Всесоюзной библиотеки им.Ленина впервые исполнил «Маленького принца» артист Яков Смоленский.
В начале 1964-го «Художественная литература» (тиражом 100 тысяч) издала большой однотомник сочинений Сент-Экзюпери, сюда вошло почти все, что он написал, в том числе и «Маленький принц». И для этого издания мне предложили перевести заново «Terre des Hommes».
Это было трудно – и это было счастье!
Трудно потому, что повесть уже была знакома нашим читателям, вместе с «Ночным полетом» она вышла еще в 1957 году[42]42
Повесть Сент-Экзюпери «Terre des Hommes» была опубликована Гослитиздатом (под названием «Земля людей») в переводе Г.Велле – первооткрывателя произведений Сент-Экса для русского читателя. Велле подготовил также переводы «Маленького принца», «Военного летчика», ряда других произведений и предложил их для однотомника 1964 г. Однако он не был профессиональным литератором, и его работа не отвечала высоким требованиям, предъявляемым к переводу художественного текста. Редактор издания Б.С.Вайсман принял к публикации «Маленького принца» в переводе Норы Галь; в ответ на это Велле запретил использование своего перевода «Земли людей», и издательство заказало Норе Галь новый перевод (воспоминаниями об этом эпизоде поделился с нами покойный М.Н.Ваксмахер). Значительные фрагменты «Маленького принца» в переводе Велле были включены в виде цитат в подготовленную им книгу Марселя Мижо «Сент-Экзюпери» (М., 1963, «ЖЗЛ»); именно с переводом Велле (и с интерпретацией критика В.В.Смирновой) полемизирует ниже Нора Галь, настаивая на том, что Лис в «Маленьком принце» – это именно Лис, а не Лиса.
[Закрыть]. Но мне подумалось: есть у переводчика право по-своему понять и почувствовать книгу, даже если он и не первооткрыватель, – и открыть ее себе и другим заново. Воплотить подчас в каких-то чуть иных словах, чуть ином музыкальном и эмоциональном звучании, чем сделал до тебя другой. Выразить по-своему, как отозвалось именно у тебя в мыслях и в сердце. А читатель пусть сравнит эти два ощущения, два понимания, и возникнет как бы стереоскопическое зрение, в сравнении полней, богаче, многозвучней станет ощущение и восприятие. Да, было боязно – казалось, я вдвойне в ответе и перед любимой книгой и перед читателями. Но счастьем было погрузиться в эту очень дорогую сердцу работу.
(Позднее, в 1973 году, Молдавское книжное издательство без изменений перепечатало этот однотомник тиражом 200 тысяч – и разошелся он так быстро, что чуть ли не через полгода с тех же матриц напечатали еще сто тысяч!)
В 1965-м в «Комсомольской правде» выступил со статьей «Человек с планеты Земля» драматург Л.Малюгин (автор пьесы «Жизнь Сент-Экзюпери»). Начал он словами: «Вышел однотомник Антуана де Сент-Экзюпери. Не пытайтесь, дорогой читатель, искать его в магазинах – напрасные хлопоты. Попробуйте одолжить его у приятеля, если он оказался счастливее вас, или записывайтесь в очередь в библиотеке...»[43]43
«Комсомольская правда», 18.V.1965, с.3.
[Закрыть]
Чуть ли не каждый день на страницах газет и журналов – в статьях, очерках, беседах, в письмах юных и взрослых читателей – встречаешь не только признания в любви к Сент-Экзюпери, но и слова и мысли Сент-Экса, уже ставшие своими, уже неотделимые от души и сознания. Уже не цитируют, не ссылаются на автора, а повторяют как продуманное, прочувствованное, заветное – о том, что зорко одно лишь сердце, что каждый в ответе за всех, кого приручил, и еще многое, многое... Не диво, что социолог, философ в статье о дружбе, о человеческих отношениях дважды приводит слова Сент-Экса[44]44
И.С.Кон.
[Закрыть]. Но и дети, школьники глубоко чувствуют и понимают у него что-то очень важное, очень главное.
15-летняя Наташа прочитала сказку своей девятилетней сестренке: «Ей больше всего понравилось, как Маленький принц любил Розу. Значит, дети тоже понимают эту книгу по-своему и тянутся к прекрасному, а то, что еще не могут понять, заставляет их больше думать,» – пишет Наташа в школьном сочинении. И дальше: «... на последней странице нарисован самый обыкновенный уголок пустыни и написано: „Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на земле... Здесь Маленький принц впервые появился на Земле, а потом исчез.“ Я это понимаю так, что везде можно встретить людей, чем-то похожих на Маленького принца, надо только уметь видеть чистое и прекрасное в каждом человеке». Сказка эта, пишет в заключение Наташа, – «это то, что я искала, потому что она рождена самыми чистыми, добрыми и важными мыслями писателя. И потому она – как подарок сердцу».
Быть может, подумают – это лишь чувствительность 15-летней девочки? Но вот мальчишки, старшеклассники московских школ – народ весьма современный, насмешливый, чуждый всякой сентиментальности. И однако я знаю случаи, когда они плакали – плакали! – над «Маленьким принцем». Больше того, один десятиклассник сам признался в этом прилюдно, в классе, когда с ребятами беседовала по душам любимая молодая учительница (притом учительница не литературы, а физики). Он вслух рассказал об этих слезах, значит, не боялся, что его не поймут, высмеют – и в самом деле, никто не засмеялся!
Скажу по совести, случай этот поразил меня еще сильней, чем признания иных взрослых мужчин, фронтовиков, прошедших всю вторую мировую войну, – они тоже плакали над сказкой Сент-Экса и говорили об этом, не стыдясь своих слез.
И не диво, что так полюбившуюся сказку стремятся воплотить еще и в зримых образах, кто как умеет.
Год, помнится, 1963-й. Разыскала меня девушка, представилась юмористически, словами героя популярного фильма: Саша с Уралмаша. Она в Москве проездом и умоляет дать ей экземпляр «Маленького принца»: у них на Урале не достать, а она режиссер драмкружка, и они так мечтают, так мечтают поставить эту сказку на сцене заводского дворца культуры...
Телефонный звонок: зовут в районный дом пионеров, там у детей свой кукольный театр, руководит им бывшая актриса театра Сергея Образцова. Ребята без памяти влюбились в сказку, поставили ее – не приду ли посмотреть? Конечно, иду: нехитрые, но милые самодельные куклы и декорации, много наивного, но столько горячего увлечения, такая одержимость добрым духом сказки...
А в январе 1967-го – премьера «Маленького принца» в драматическом театре им. Станиславского в Москве. Поставила спектакль молодой режиссер Екатерина Еланская, дочь известной актрисы МХАТ. Спектакль интересный, подчас до дерзости современный, в чем-то, быть может, спорный. Но играют увлеченно, с любовью. Зрители волнуются, аплодируют, смеются – и спорят об увиденном, и долго потом вспоминают. В 1974-м этот спектакль записали еще и на пленку и уже не раз передавали по телевидению. Запись сокращенная, и не всё в ней, на мой взгляд, удачно, минутами я огорчаюсь... но вот что любопытно: огорчаются, спорят, волнуются и телезрители – одним нравится, другим совсем не нравится, но равнодушных нет! Потому что Маленький принц дорог всем – в любом воплощении, и если с каким-то воплощением не согласны, то возмущаются тоже от любви к сказке и ее автору!
Кстати, так было и с фильмом, который снял в 1966 году молодой литовский режиссер. Роль принца он дал прелестному шестилетнему малышу. Но фильм разочаровал не только меня, многое там оказалось далековато от Сент-Экса – и зрители это сразу ощутили и даже писали об этом письма, горячо вступаясь за мысли, чувства и поэзию Экзюпери, за все, что стало нам дорого[45]45
Фильм режиссера А.Жебрюнаса. О расхождении режиссерской трактовки с замыслом писателя см.: Александров Р. Пустыня без родников. // Советское кино, 20.VII.1968, с.3. В архиве Норы Галь сохранилось письмо Жебрюнасу, публикуемое в настоящем издании.
[Закрыть].
Ярко светит в нашей стране звезда Сент-Экса. Постоянно светит она и в моей судьбе. И еще раз мне вновь дано было счастье перевоплотить по-русски его высокие и человечные страницы – издательство «Прогресс» предложило мне для сборника «С Францией в сердце» (1973) заново перевести «Письмо заложнику».
До этого «Письмо» уже появлялось даже в двух русских переводах: в «Новом мире» (1962) и в однотомнике 1964 года[46]46
Переводы М.Баранович и Р.Грачева.
[Закрыть]. Но и тут, как с «Планетой людей», я не могла отказаться. Большая радость – работать над тем, что нужно и дорого всем, от мала до велика. Быть может, мое понимание, мое видение и для других повернет уже знакомые и любимые образы еще какой-то новой гранью, придаст им какие-то новые краски, быть может, кое-где я найду новые, более верные слова.
Найти слова...
Как выразить средствами своего языка все оттенки мысли, чувства, всю поэзию подлинника, все передать, ничего не утратить? Сколь ни глубоко этим проникаешься, твоя задача – задача переводчика – непроста. Нельзя же механически, подряд взамен каждого французского слова подставить «такое же» русское! Тут нужна не буквальная точность, но верность духу, полнота сопереживания, – чтобы все до капли, не расплескав по дороге, донести до читателя.
Да, переводить то, что любишь, большая радость. Но это и трудно, подчас головоломно. Поделюсь хоть немногим.
В речи француза причастия, деепричастия, отглагольные существительные – естественны, легки, изящны, в русском языке, особенно в живой речи, тем более в устах ребенка – совсем не так. Русские слова обычно длиннее, у причастий сложные, не всегда благозвучные (шипящие!) суффиксы, длинные окончания. И диковато, неправдоподобно звучали бы они в чудесной, поэтической сказке, получалось бы сухо, казенно. Поэтому в переводе я часто перестраиваю фразу, больше прибегаю к самой живой и динамичной части русской речи – глаголу.
С другой стороны, в русском тексте не нужны и только загромождали бы фразу вспомогательные глаголы – их я, разумеется, опускаю, это одно из первых, необходимейших правил нашего перевода: русская проза становится более ясной, гибкой, прозрачной, интонация – более непосредственной и достоверной.
Все эти приемы довольно простые, да и не приемы, в сущности: за годы работы с этим сживаешься и работаешь, как дышишь. Но вот задача посложнее. По-французски la fleur женского рода. А по-русски – мужского! А сказать раньше времени «роза» нельзя, ведь принц довольно долго не знал имени своего цветка. И не сразу нашлись для начала сказки подходящие слова – неведомая гостья, красавица...
Когда «Маленький принц» печатался у нас впервые, вышел жаркий спор в редакции: Лис в сказке или Лиса – опять-таки, женский род или мужской? Кое-кто считал, что лисица в сказке – соперница Розы.
Здесь спор уже не об одном слове, не о фразе, но о понимании всего образа. Даже больше, в известной мере – о понимании всей сказки: ее интонация, окраска, глубинный внутренний смысл – все менялось от этой «мелочи». А я убеждена: биографическая справка о роли женщин в жизни Сент-Экзюпери понять сказку не помогает и к делу не относится. Уж не говорю о том, что по-французски le renard мужского рода. Главное, в сказке Лис – прежде всего друг. Роза – любовь, Лис – дружба, и верный друг Лис учит Маленького принца верности, учит всегда чувствовать себя в ответе за любимую и за всех близких и любимых.
В театре все это отлично, тончайшей паузой передает играющий Лиса артист[47]47
Игорь Козлов в постановке Екатерины Еланской.
[Закрыть]: – Ты в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе... за твою Розу.
И короткое молчание это означает: да, и за меня, за друга, которому тоже нелегка будет разлука с тобою. Тон отнюдь не соперницы. А главное, пусть соперница сколь угодно благородна и самоотверженна, – такое понимание упростило бы, сузило, обеднило философский и человеческий смысл сказки. Все это мне удалось доказать уже при первой публикации.
Но «Маленький принц» издается опять и опять – и каждый раз я что-то правлю, меняю, доделываю. Всё снова и снова тянет искать еще более верное слово, еще полней передать искренний, проникновенный голос писателя, шлифовать что-то малое, микроскопическое, для читателя, быть может, совсем незаметное.
Ибо, как говорит у Сент-Экса мудрый Лис, «нет в мире совершенства»...[48]48
Абзацы о работе НГ над переводом «Маленького принца» в расширенном виде вошли в книгу «Слово живое и мертвое» (с.181-188 четвертого издания – М.: Книга, 1987).
[Закрыть]
А сказка живет.
И всё новые поколения читают ее. И читают по-своему, по-новому. Открытием и отрадой моих последних лет стало новое прочтение «Маленького принца» талантливым коллективом его верных друзей и рыцарей – Театральной Студийной Мастерской под руководством Леонида Рыжего. Как сумел молодой режиссер прочесть наизусть знакомую сказку глубже, чем мы читали ее многие годы? Увидеть и ее скрытую очень «взрослую» философию? Наполнить ее биением сегодняшнего дня? Спектакль стал открытием для самых бывалых знатоков и поклонников Сент-Экзюпери. Не останавливаясь на внешнем слое, молодой режиссер помогает зрителям проникнуть в самую сердцевину мыслей и тревог замечательного французского писателя, который стал для нас поистине своим. И думается, еще многим и многим поколениям и в нашей стране будет светить звезда Сент-Экса.
*******
Статья написана к 75-летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери по заказу журнала «Oeuvres et opinions», где и опубликована в #198 (июль 1975 г.) на французском языке («Sous l'étoile de Saint-Ex»). В мае 1991 года, за два месяца до кончины, Нора Галь пересмотрела и дополнила статью.
Помню
Чем для нас, студентов, а потом аспирантов-западников 30-х годов, был до войны журнал «Интернациональная литература»? Пожалуй, чем-то вроде пещеры из «Тысячи и одной ночи», полной сказочных сокровищ. Мы открывали для себя другие миры. Никаких тебе «Цементов» и «Гидроцентралей», поэтических рефренов на манер «грохают краны у котлована». Пусть не всегда полностью, пусть в отрывках мы узнавали Кафку, Джойса и Дос Пассоса. Колдуэлл и Стейнбек, Генрих и Томас Манны, Брехт и Фейхтвангер, Жюль Ромэн, Мартен дю Гар и Мальро – вот какими встречами мы обязаны журналу. И не только для нас, в общем-то желторотых, – для всех читающих людей величайшим потрясением было открытие Хемингуэя.
Нет, конечно, в Интерлите не обошлось без пафоса насчет мировой революции, лозунговой примитивности «пролетарских писателей всех стран». Но оказалось – можно погрузиться в неведомые нам пути и перепутья человеческой судьбы, в глубочайшие глуби души. Мы и не подозревали, что в наше время можно ТАК писать.
С каким же трепетом пришла я, начинающий критик, в эту редакцию летом 1937-го!
Бывают странные прихоти случая. На 10-12 лет раньше в тех же самых комнатах, на Кузнецком мосту почти у скрещения с Неглинной (солидный подъезд с фигурными колоннами черного мрамора)[49]49
Кузнецкий мост, д.12 (ныне в этом здании Государственная Публичная Научно-техническая б-ка).
[Закрыть], я с другими ребятами усердно выпускала стенную газету и сочиняла газету живую, под «красочным» названием «Серая блуза»: тогда здесь жил-был пионерский отряд #145.
А теперь в той довольно большой комнате сидели человек восемь – сразу несколько отделов редакции. Здесь я встретила настоящих своих учителей – людей высокоинтеллигентных, разносторонних, своеобразных, увлеченных.
В отделе критики надо мною и другими начинающими шефствовал чудесный человек, большой знаток французской литературы Борис Аронович Песис[50]50
Песис Б.А. (1901-1974) – критик и литературовед, автор нескольких книг и многих статей о французских писателях от Расина до Арагона. Жан-Ришар Блок считал его лучшим в России знатоком французской литературы.
[Закрыть]. В числе подшефных был и тогдашний аспирант курсом моложе нас – Борис Сучков, будущий главный редактор журнала.
С 1938 года на этих страницах я и начала рассказывать о французских книгах, у нас еще не переведенных. Увлекательно было накоротке не просто пересказать, дать какой-то анализ (разводить социологию я не любила, но по тем временам не всегда могла и умела этого избежать), <-> хотелось передать дух и воздух книги, ее аромат.
А первой работой была большая статья о тонком и сложном бельгийском писателе Франсе Элленсе[51]51
Элленс, Франц (1881-1972) – поэт и прозаик, классик бельгийской литературы. См. далее в статье.
[Закрыть]. К моему немалому удивлению, добрыми словами отозвался на нее сам маститый бельгиец[52]52
В архиве НГ сохранилась машинопись перевода письма Элленса на русский язык. В письме, датированном 20 августа 1938 г., Элленс пишет:
«Я получил #6 „Интернациональной литературы“, где напечатана статья, посвященная моему творчеству, и я тотчас же хочу Вам сообщить, какое удовольствие доставила мне эта статья. Она содержательна и не довольствуется тем, чтобы лишь слегка коснуться моего творчества; нет, ей удается проникнуть в него, уловить его основные черты и таким образом дать непредубежденному читателю правильное и полное представление о том, чего хотел писатель. Я хотел бы, чтобы Вы передали автору этого этюда Н.Галь, как я ей благодарен за то, что она сумела так ясно и так четко выделить три основные идеи или, если хотите, три темы моих книг: человек – жертва рока, великое разочарование ребенка перед жизнью и донкихотство или наивный непосредственный героизм.
Автор мог бы ограничиться кратким обзором главных моих произведений, изложить их сюжеты и всё, но он пошел дальше, что предполагает внимательное чтение. Редкий случай для критика, по крайней мере во Франции, где критик, увы, занимается только актуальным моментом или забавляется тем, что кружит вокруг да около книги, по той причине, что он ее не читал... Мне доставило удовольствие и то, что Н.Галь пишет о „Пороховом погребе“. Индивидуум, как бы он ни был нелюдим и боязлив, каким бы независимым он ни хотел быть, не может в наши дни оставаться безучастным к судьбе масс. В этом заключена проблема, которая встает перед самыми замкнутыми из нас.
Я счастлив, что мое творчество было так хорошо понято и постигнуто, и я благодарю автора за его труд.»
Видимо, молодые критики не были избалованы подобными отзывами: товарищ НГ по кафедре всемирной литературы Московского Государственного Педагогического Института Тамара Мотылева даже опубликовала об этом заметку под названием «Успех аспирантки Гальпериной» в институтской многотиражке «Педвузовец», # 33 (211) от 15.09.1938.
[Закрыть] в письме к тогдашнему главному редактору Т.А.Рокотову.
Началась война. На короткое время я очутилась в Казани. Там же ненадолго оказалась часть редакции. А возвратясь в Москву, я с августа 1942-го стала в отделе критики подмастерьем Б.А.Песиса.
К этому времени я успела оценить не только его эрудицию и доброжелательное внимание. Еще в самом начале на том месте, где висела когда-то пионерская стенгазета, я увидела другую – солидную, редакционную, а в ней... его, Бориса Ароновича, юмористические стихи! За более чем полувековой давностью стихи запамятовала, но помню легкость, юмор, и помню, в них впервые увидела «домашнее» название журнала – «Интерлит», как-то оно там рифмовалось.
Зато другая его шутка очень памятна.
Вернувшись из эвакуации, надо было обзавестись несчетными справками, одолеть несчетные бюрократические препоны, чтобы получить полагающиеся карточки чуть повышенного разряда. Надо ли объяснять, что такое продовольственная карточка? В таком положении нас оказалось трое. Кстати, на этом-то и началось мое доброе знакомство с талантливым и остроумным человеком – Надеждой Михайловной Жарковой, еще с 1937 года мы читали в Интерлите ее переводы – дневники Стендаля и Гонкуров, поэтичные миниатюры Жюля Ренара «Рассказы о моем крае».
Хлопотать о карточках для нас троих взялся энергичный товарищ, все уладилось. В редакции за нас порадовались, а Борис Аронович мигом выдал нашему заступнику благодарственное четверостишие:
Когда б в «Трех сестрах» был герой,
Вам равный силой олимпийской,
Не плакались бы три сестры наперебой,
А были бы давно с московскою пропиской.
Итак, снова я в знакомой комнате. В двух шагах от моего – стол Веры Максимовны Топер[53]53
Топер В.М. (1890-1964) – переводчик с английского, немецкого и французского языков (подробнее: КЛЭ, т.7, стлб.579), наставник и друг Норы Галь. Машинописные оригиналы многих переводов Норы Галь 50-60-х гг. содержат следы обмена творческим опытом с В.М.Топер. О мастерстве Топер-переводчика (на материале английской прозы) Нора Галь пишет в книге «Слово живое и мертвое» (4-е изд., 1987), с.204-221. Здесь же, в разделе «Поклон мастерам», Нора Галь говорит об искусстве других переводчиков-«кашкинцев».
[Закрыть]. Той самой, что в #1 журнала за 1935 год открыла русским читателям незабываемую «Фиесту» Хемингуэя. А в 1939-м, вместе с Евгенией Давыдовной Калашниковой, его «Пятую колонну». А Калашникова перевела еще и «Иметь и не иметь» (1938) и ошеломившее нас «Прощай, оружие» (1939). И Вера Максимовна, необыкновеннейший мастер, ведает отделом художественной прозы, и можно слушать, как она работает с другими переводчиками...
Здесь я впервые увидела и Наталью Альбертовну Волжину. Мы уже зачитывались в Интерлите «Гроздьями гнева» в ее переводе. Теперь готовился другой роман Стейнбека, «Луна зашла», – о фашистском нашествии и о гордом непокорстве малого, мирного, но вольнолюбивого народа. Обсуждали «Луну» все, кто сидел в комнате или заходил, – и «прозаики», и «поэты», и «критики», и, помнится, техред. Был в романе такой камень преткновения – персонаж, именуемый Leader. Это сегодня, ничтоже сумняшеся, не заботясь о русском языке, сыплют у нас всевозможными ленчами, брифингами, офисами и презентациями. А тогда никому не хотелось вводить в художественную прозу чужое слово лидер. Всей комнатой думали, гадали. Вождь, да еще с большой буквы, – о таком и помыслить было невозможно. Вожак? Вожатый? Не та смысловая окраска. И я вдруг из-за своего стола робко пискнула – а нельзя ли Предводитель?
Вера Максимовна поверх очков на меня поглядела... не забыть этот ее видящий насквозь, и добрый, и с юморком взгляд. И стала поглядывать чаще.
В Интерлите «Луна» так и не появилась. Готовя весенние номера, мы еще не знали, что с 1943 года журнала больше не будет. Только с 1955-го его продолжением станет «Иностранная литература», и потом ее украсит «Жемчужина» того же Стейнбека, поистине жемчужина художественного перевода, созданная той же Н.А.Волжиной.
А в 1942-м я уже не могла, как прежде, рассказывать читателям о новинках французской литературы. Из оккупированной Франции книги не доходили[54]54
В черновом варианте статьи предложение продолжается: «да и неясно было порой, кто из авторов как себя при Гитлере поведет. И я перешла на роль литправщика, стиль иных критиков проходилось понемножку вежливо и осторожно подшлифовывать. Но однажды Борис Аронович сказал: хватит чистить чужие рецензии. Раз мы получаем только англичан да американцев...» – и далее как в окончательном тексте.
[Закрыть]. И однажды Борис Аронович сказал: раз мы получаем только англичан да американцев, займитесь-ка английским! И дал новинку, изданный в самом начале 1942-го роман о войне – Невил Шют, «Крысолов».
– Попробуйте прочтите и отрецензируйте.
Легко сказать – прочтите! Об английском я понятия не имела. Но, работая по восемнадцать часов в сутки, что тогда было не в диковинку, и не вылезая из словаря, я за две недели эти 315 английских страниц прочла и перевела. Такое оказалось обучение языку.
С легкой руки Б.А. я, по специальности критик и литературовед, впервые прикоснулась к переводу[55]55
Строго говоря, первый переводческий опыт Норы Галь имел место еще раньше: в качестве подспорья для диссертации она в 1940 г. перевела целый ряд текстов А.Рембо (прежде всего не переводившиеся до тех пор на русский язык книги «Озарения» и «Сезон в аду»).
[Закрыть]. Так Интерлит круто повернул мою судьбу.
Конечно, ничего бы из этого не вышло, не поддержи меня другая добрая рука. К этому времени я уже не раз дежурила по ночам в редакции вдвоем с Верой Максимовной, как дежурили всюду в годы войны. О чем только мы в ту пору не переговорили... Понятно, не одни лишь журнальные материалы обсуждали. И если прежде я восхищалась ее мастерством переводчика, талантом редактора, теперь мне открылось, что значит личность мастера. Вера Максимовна была настоящим Учителем, Наставником необыкновенной душевной щедрости.
Прочитав мой перевод «Крысолова», В.М. посоветовала Гослитиздату его печатать. Помню свой испуг – вон сколько ошибок, сколько «птичек» на полях! В.М. не была редактором-переписчиком, не подсказывала и тем более не навязывала свои варианты, разве что наметит направление, а думать изволь сам. В ответ на мою панику она сказала коротко: английский – дело наживное, важно, что по-русски – можете.
Тогда «Крысолов» так и не был напечатан, убоялись развязки: как это старик англичанин, уведя семерых детишек от фашистских бомбежек на дорогах Франции, не оставил их под бомбами в Лондоне, а отправил за океан к дочери – жене богатого американца? Не принято было в столь выгодном свете представлять Америку. По милости такой вот логики добрый и мудрый странник-крысолов долгих сорок лет прозябал, забытый, у меня в шкафу – до публикации летом 1983-го в журнале «Урал».
До последнего своего дня буду благодарна судьбе, которая меня свела с прекрасными людьми – мастерами школы И.А.Кашкина. Чуть ли не наполовину их трудами и питался старый Интерлит, немало сделали они и для нынешней «Иностранной литературы». А поначалу нам, молодым, не уразуметь было, что значила для полноты открывающихся нам чудес работа переводчика, его мастерство. Читая созданное на чужих языках, мы вовсе не думали о тех, кто открыл нам, воссоздал по-русски эти новые миры.
Кашкинцы не чинились и не чванились, были заинтересованы и доброжелательны, всегда готовы подбодрить, видели в младших не завтрашних конкурентов, а наследников, которым надо помочь стать настоящими умельцами.
Не забыть эти встречи в Лесном городке – подмосковном поселке, в одном из бревенчатых издательских домиков, где в длинной и узкой полутемной комнате жила тогда с мужем Вера Максимовна, а в соседней, летом 1943-го еще пустовавшей, на полу на сене ночевала я. За полем – лес, там в первое лето еще стояла воинская часть, но на опушке можно было подобрать хворост, а то и засохшую березку или осинку. Мы таскали их на плечах через поле, топили печь, надо ж было и стряпать.[56]56
Следующий абзац в «Независимой газете» опущен.
[Закрыть]
Приезжала я часто. Паровые поезда ходили, помнится, только раза четыре в день и нередко лишь до предыдущей тогда станции – до Внукова. Дальше я шагала по шоссе, а однажды – сбоку, потому что шоссе намертво забито было армейскими машинами. Что там впереди застопорилось, мне, конечно, осталось неведомо, но помню багровое лицо какого-то большого командира, который крупно шагал вдоль колонны, истошным хриплым криком ее подталкивая. Такое то было время...
Не помню, что именно редактировала тогда В.М., может быть, я помогала ей с верстками либо подчитывала вслух при редактуре. Но многие годы в той «избе» в Лесном городке каждое лето, а часто и зимой, я получала самые наглядные, самые драгоценные уроки, не только профессиональные, но и жизненные.
Еще до конца войны в основном силами кашкинцев подготовлен был однотомник Бернарда Шоу. Время не очень-то благоприятствовало юмору, но юмора у переводчиков хватило и на великого остроумца. А еще готовился к печати очень слабый старый перевод «Графа Монте-Кристо», Вера Максимовна взяла меня на эту работу чуть ли не полноправным соредактором. Насколько возможно было, еще и в спешке, мы убрали грубые смысловые ошибки и самые страшные словесные ляпы, и в таком виде перевод перепечатывается почти полвека[57]57
В издании 1946 г. указано: «Перевод под редакцией Н.Галь и В.Топер» – такая формула использовалась в 40-70-е гг. для старых переводов, подвергшихся полной переработке. Однако, как пишет Нора Галь, «для переиздания в 50-х гг. нам не дали пересмотреть и еще раз поправить текст, как всегда со всякой своей работой делала ВМ и делаю я, и потому мы свои фамилии с титульного листа сняли» (Е.Комаровой, 20.04.1987). В некоторых последующих изданиях были восстановлены имена авторов старого перевода Л.Олавской и В.Строева.
[Закрыть]. Но В.М. учила еще одному: переписать плохой перевод невозможно. А заново эти 80 с хвостиком печатных листов едва ли кто-нибудь когда-нибудь переведет.[58]58
К изданию 1991 г. (Дюма А. Собр.соч. в 15 тт., тт.9-10. – М.: Правда, 1991. – Библиотека «Огонек») НГ заново пересмотрела роман, подвергнув его значительной правке; однако итог работы все-таки не удовлетворил НГ полностью, а потому она настояла на том, чтобы в выходных данных этого издания был указан особый псевдоним – «Г.Нетова».
[Закрыть]
Забегаю вперед: через полвека, в последнем издании своей книжки «Слово живое и мертвое», я смогла наконец хоть немного сказать о моих учителях, отдать им поклон и долг благодарности. И прежде всего с начала и до конца, выверяя с подлинником каждую строчку, перечитала «Фиесту» в переводе Веры Максимовны. Несомненно, для более поздних изданий она, строгий к себе мастер, что-то пересмотрела и поправила, но и с этого времени прошли десятки лет. Казалось бы, всякое искусство с годами идет вперед, могли бы и мы, ученики, в чем-то продвинуться дальше, – да и вправду в работах старых мастеров сегодня подчас замечаешь шероховатости. Но «Фиеста» и по сей день ни с чем не сравнима. В художника перевоплотился, его интонацией заговорил – художник. Ничто не упрощено, никакой отсебятины, воистину по-русски воссоздан настоящий Хемингуэй.
Давно уже не секрет, что и другие романы Хемингуэя, и его новеллы немало повлияли на нашу литературу, на многих одаренных и чутких наших авторов. И не меньше потрясла с большим опозданием напечатанная, надолго запрещенная[59]59
Следующие два слова в «Независимой газете» опущены.
[Закрыть] нашей палаческой цензурой книга «По ком звонит колокол» в переводе великолепной дружной «упряжки» – Н.Волжиной и Е.Калашниковой.
Кашкинцам всегда интересны были работы друг друга – обсуждали, советовались, зачастую и работали вдвоем, даже втроем. Трудный был быт, трудное время, особенно в дни войны. У Веры Максимовны оба сына на фронте, чего стоило ожидание писем... И однако хватало душевной щедрости – принять младших, поделиться не только переводческим – духовным опытом. Помню зимой работу при самодельной коптилке, помню ночевки на полу, позже – по добрососедской договоренности у кого-то из местных жителей. Не год и не два постоянно ездила я к Вере Максимовне – до весны 1957-го, когда ее семья из этой, как мы почти не в шутку говорили, курной избы переселилась наконец в человеческие условия – новый писательский дом у метро «Аэропорт». И здесь сходились те же люди, сохранился тот же очаг, у которого грелась и я.
Привечали в «избе» не только меня, но и моих подшефных, двадцатилетних студенток. Среди них была Р.Облонская. Много позже, в 1963-м, уже в «Иностранной литературе» впервые напечатан наш с нею перевод «Убить пересмешника...», одна из самых любимых наших работ со счастливой судьбой – эту книгу знают и полюбили читатели разных поколений. На страницах журнала появился мой перевод «Постороннего» А.Камю, «Начало пути» А.Силитоу в переводе Облонской. И все это – при поддержке наших учителей и прежде всего с благословения нашей прекрасной наставницы В.М.Топер.
Они вовсе не были добренькими. Вера Максимовна сказала: пока человек не испытает себя на классике, он еще не переводчик. И мне дали перевести несколько «Очерков Боза» для первого тома Собрания сочинений Диккенса, а потом поручили одну из «Рождественских повестей». Вот когда я струсила всерьез: моим редактором оказалась О.П.Холмская.
Смотрит Ольга Петровна мою рукопись. Конечно, замечает огрехи, конечно, критикует. Но явно довольна каждой удачей, находкой, и одобряет в двух местах непростую, не вдруг найденную игру слов (а без такой игры и Диккенс не Диккенс). А в третьем месте говорит мягко: тут не очень удалось, лучше обойтись, сыграете где-нибудь еще, что-нибудь да придумается. Вся работа с нею была уроком подлинной интеллигентности, ведь я знала – язычок у нее острый, случалось ей изящно съехидничать и при мне, и на мой счет тоже. Но – только не когда она оказалась моим редактором.
И так же спокойно деликатны и доброжелательны были, при немалой разнице в характерах, другие кашкинцы – Евгения Давыдовна Калашникова, Нина Леонидовна Дарузес, Мария Павловна Богословская, Мария Федоровна Лорие, на самых ранних порах взявшая меня «напарницей» в перевод «Дженни Герхардт» Драйзера. А как внимательно прислушивалась Наталья Альбертовна Волжина к немногим робким моим замечаниям, когда я, еще совсем «зеленая», оказалась редактором сборника, куда входили и ее переводы[60]60
Нора Галь редактировала сборник «Рассказы американских писателей» (М.: ГИХЛ, 1954), в который вошли два рассказа в пер. Н.А.Волжиной («Человек, который совратил Гедлиберг» М.Твена и «Такова жизнь» А.Мальца).
[Закрыть].