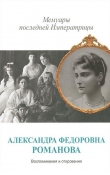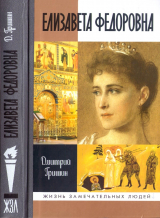
Текст книги "Елизавета Федоровна"
Автор книги: Дмитрий Гришин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Елизавета Фёдоровна



Татьяне Ивановне Гришиной
с безмерной благодарностью
ПРЕДИСЛОВИЕ
Ты теперь на Святой Земле, жертва мира,
который слишком мрачен для твоего света,
но вместе с тем одержана полная победа,
ибо ничто не сможет заслонить память о тебе.
Они смогли расправиться лишь с твоей
земной красотой, но память о твоём очаровании,
доброте, любви будет жить с нами всегда,
подобно звезде в ночи.
Мария, королева Румынии
Эта история не может не потрясать. Своей драматургией, своим невероятным трагизмом и в то же время какой-то светлой, очищающей душу красотой. История принявшей боль и чаяния своего народа сестры последней российской императрицы. История прекрасной женщины, творившей добро и жестоко убитой. История такого масштаба, с таким количеством ярких персонажей и определяющих эпоху событий, что для её полного и всестороннего изложения потребовалось бы перо гения, дерзнувшего взяться за эпопею.
Ему пришлось бы описывать жизнь Российской империи на рубеже XIX—XX веков, неспешно ведя читателя из царских дворцов в приюты и больницы для бедных, из полных неги усадеб в аскетические монастырские кельи. Он переносился бы в гущу праздников, сменявшихся будничной работой, видел бы достижения и пока нерешённые проблемы, проникал бы в логова всевозможных заговорщиков, а потом наблюдал бы, как гибнут невинные жертвы, как рушится веками создававшаяся страна. И только тогда его главная героиня, Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, предстала бы в той атмосфере, что окружала её жизнь и предопределила её мученическую смерть. Только тогда стали бы не просто видны, но и всецело понятны, ощутимы её свершения и её подвиг.
Книга, которая перед вами, вовсе не имеет столь грандиозных задач. Её цель – всесторонне показать личность Великой княгини на основе имеющихся документов и поведать о ней языком фактов, проверенных и научно подтверждённых, хорошо известных и новых, открытых совсем недавно. Но разве, спросит иной читатель, всего того, что говорилось об этом раньше, недостаточно? Разве вышедшие прежде и выходящие сейчас публикации не раскрыли всей полноты образа?
В самом деле, о высокой благодетельнице и основательнице Марфо-Мариинской обители милосердия написано немало. Сегодня она является одной из самых известных представительниц Императорского Дома Романовых, служит ярким образцом благотворительности и, конечно, глубоко почитается в лике святых. Но вместе с тем её реальная фигура до сих пор остаётся почти незнакомой для абсолютного большинства людей. И для тех, кто едва слышал о ней, и для тех, кто много читал о её жизни, безусловно, привлекающей широкое внимание.
Как же так? Ведь об этой женщине рассказано в стольких книгах. К тому же про неё сняты фильмы и поставлены пьесы, ей посвящаются выставки и научные форумы, её черты продолжают вдохновлять художников и скульпторов. Всё верно. Однако вопрос о том, какой же в действительности была Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, так и не прояснился в должной мере. Парадоксально? Нет, просто здесь вступают в силу определённые факторы и обстоятельства, которые, видимо, неизбежны и которые требуют комментариев до того, как мы начнём своё повествование.
В ноябре 1981 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви заграницей прославил Елизавету Фёдоровну вместе с Царской семьёй и другими новомучениками в лике святых. Событие стало эпохальным, знаковым. Оно открыло дорогу к необходимому покаянию, давая возможность для осмысления того, что случилось с Россией, для её духовного возрождения. И на этом пути образу Великой княгини Елизаветы предстояло стать одним из главных ориентиров. Не ошибся, написавший о ней ещё в середине двадцатых годов XX века архиепископ Анастасий (Грибановский), живший тогда в эмиграции: «Вместе со всеми другими страдальцами за Русскую землю она явилась одновременно и искуплением прежней России и основанием грядущей, которая воздвигнется на костях новых мучеников. Такие образы имеют непреходящее значение: их удел вечная память и на земле и на небе. Не напрасно народный голос ещё при жизни нарёк её святой».
В 1992 году Елизавета Фёдоровна была канонизирована в России. Её жизнь и подвиг начали постепенно раскрываться на страницах книг, издававшихся в нашей стране, хотя «первой ласточкой» оказалась работа, созданная несколько раньше за границей (в 1988 году) уроженкой семьи эмигрантов Любовью Петровной Миллер. Этот серьёзный труд, основанный на мемуарах современников Великой княгини и на её письмах в Англию, имеет популярность и до сих пор. Однако в последовавшей затем литературе по данному вопросу начала прослеживаться одна характерная черта – о Великой княгине писали, прежде всего, как о святой, делая упор на её подвижничество.
Разумеется, такой подход не только правомерен, но и в некоторых случаях необходим. Вместе с тем правила и каноны «житийных» текстов иногда приписывают Елизавете Фёдоровне какую-то изначальную предопределённость святости, утверждая, что чуть ли не с самого раннего детства она проявляла черты будущего избранничества, а потом тяготилась светской жизнью, постоянно ища в сфере духовности выход из чуждого ей положения. Реальные же факты говорят совсем о другом. Но в них нет ни малейшего принижения её образа – путь к Небесному венцу бывает разным, а время и обстоятельства вступления на него не меняют самой сути произошедшего.
Путь – слово ключевое. Приехав в Россию девятнадцатилетней девушкой, гессенская принцесса Элла, ставшая здесь Великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, не просто попала на русский императорский олимп и не просто увидела повседневную жизнь обычного народа. Она восторженно приняла первое и постаралась понять второе, стремясь найти своё место в каждой из этих сфер. Её ждало много открытий, поскольку полученное дома – неплохое, но всё же недостаточное – образование вначале явно ограничивало её кругозор, ей не хватало даже самых общих знаний. Так что Россия сделалась для принцессы Эллы настоящим жизненным университетом. Здесь же, на своей новой родине Елизавета Фёдоровна вплотную соприкоснулась с православием, которое приняла всей душой и в свете которого переосмыслила многие ценности.
О ярком пути немецкой девушки, ставшей истинно русской женщиной и патриоткой, о её духовном преображении и рассказывает данная книга. Но сразу оговоримся – основываясь лишь на проверенных фактах, мы оставим за строкой некоторые весьма частые утверждения, относящиеся скорее к области преданий. Их появление – естественный результат того почитания и той любви, что проявляются народом по отношению к святым. И это само по себе прекрасно. Однако, берясь за «мирское» жизнеописание, необходимо придерживаться более надёжных источников, а они, в свою очередь, способны поведать о Елизавете Фёдоровне немало интересного и даже удивительного.
Личность Великой княгини раскрывают её письма, многие из которых сейчас опубликованы, воспоминания близких к ней лиц, описания мест, где она жила, предметы, которые ей принадлежали, её любимые произведения искусства... Знакомясь с мыслями, переживаниями, интересами и увлечениями героини, наблюдая за её работой и присматриваясь к окружавшим её людям, можно составить правдивый портрет Елизаветы Фёдоровны, говорящий о ней лучше любого изображения и красноречивее любой легенды. Вот только он будет по меньшей мере неполным, а то и принципиально неверным, если должным образом не представить на нём фигуру Великого князя Сергея Александровича.
Сегодня об этом человеке сложной и драматической судьбы говорится уже много и, главное, правдиво, хотя истина порой с трудом пробивается и поныне. Приверженец твёрдых политических принципов, высококультурный и глубоко верующий, он был жестоко оболган как при жизни, так и посмертно. Его не поняли многие современники, видевшие в нём «ретрограда», и, конечно, по сию пору часто записывают в «реакционеры». Лишь сейчас реальный облик Сергея Александровича начал вырисовываться на страницах истории, постепенно открывая духовное богатство героя. Но почему-то до сих пор даже для многих почитателей Елизаветы Фёдоровны он остаётся в лучшем случае эпизодическим или второстепенным персонажем.
Любимый, обожаемый супруг, Великий князь Сергей был для неё всем. Образцом, наставником, заботливым мужем, ближайшим другом, проводником в неведомые раньше области науки, литературы, искусства. Без тесной связи с ним, без его определяющей роли невозможно полностью понять и осмыслить жизнь Елизаветы Фёдоровны. Он сформировал её как личность, подарил ей земные радости, а трагически уйдя из жизни, во многом предопределил её дальнейший путь. Именно он, незабвенный Сергей, стал в своё время тем светильником веры, что зажёг в её собственной душе пламя мощного православного духа, разгоравшегося затем всё сильнее и ярче.
Елизавета Фёдоровна прожила в России тридцать три года. Символичная цифра – срок Земной Жизни Христа. За это время на её долю выпало немало событий – счастливых, печальных, страшных. Судьба делала резкие повороты, ставила труднейшие задачи. И выдержать все испытания, не сомневаясь в торжестве добра, мог лишь человек, имеющий твёрдую опору и обладающий волевым характером, стойкостью, жизнелюбием.
Великая княгиня любила жизнь. Поначалу любила светский блеск, красивые вещи и весёлые забавы. Любила природу, цветы, тихие домашние вечера, общение с родными и друзьями. Любила живопись, музыку, театр, хорошие книги, умные беседы. Она была очень подвижной, следила за своей физической формой, за внешностью. На окружающих Елизавета Фёдоровна производила впечатление нежной, хрупкой женщины, однако внутри неё скрывалась очень сильная натура, неожиданно проявлявшаяся в чрезвычайных обстоятельствах. Когда требовалось защитить или поддержать мужа, когда возникала серьёзная угроза безопасности страны, когда приходилось противостоять собственным несчастьям. Она могла быть настойчивой там, где иные давно опустили бы руки, к ней приходило мужество там, где дрогнули бы и смельчаки. Меняясь с годами, расставаясь с одними представлениями о жизни и обогащаясь другими, Елизавета Фёдоровна оставалась неизменной в главном – в своей вере, постоянно укреплявшейся, дарившей силы и ведущей вперёд до самого конца, до самопожертвования.
Она всегда любила людей, с детства усвоив долг помощи ближним. В России перед ней открылось широкое поле для благотворительности, и Елизавета Фёдоровна трудилась на нём с полной самоотдачей. По подсчётам первопроходца в этом вопросе Людмилы Борисовны Максимовой, к 1916 году Великая княгиня была председателем и попечителем более чем в 150 организациях и благотворительных обществах. Дорога любви и сострадания привела её к созданию своего главного детища, Марфо-Мариинской обители, уникального примера заботы о страждущих.
Отрадно, что в наше время жизненный подвиг Великой княгини Елизаветы не только привлекает всё большее внимание, но и служит образцом. Её любовь к Богу, к России, к народу вызывает преклонение. Ей посвящаются храмы, ей устанавливаются памятники и мемориальные знаки. Её служение добру вдохновляет на создание новых благотворительных, социальных и просветительских учреждений. И не ослабевает желание подробнее знакомиться с её судьбой, с её удивительной личностью, пока так и не разгаданной до конца.
Эта книга расскажет о восхитительной женщине, чьё имя благословляли ещё при жизни. Мы постараемся поведать о ней без прикрас, представив живым и разносторонним человеком в конкретных обстоятельствах времени и места. Мы приоткроем дверь в давно ушедший, но по-прежнему такой притягательный мир. Мир, в котором жила и трудилась, любила и страдала, нашла счастье и обрела бессмертие Великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
Часть первая

ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ
1. ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЛОГ
Стук молотка прервал тягостную тишину Осборн-Хауса. В одной из комнат этой приморской королевской резиденции спешно сколачивали алтарь для предстоявшей брачной церемонии, и уже сам факт подобных приготовлений многим казался невероятным. Ведь последние полгода вся Британия была погружена в глубокий траур по мужу королевы Виктории, принцу-консорту Альберту.
Страна искренне скорбела. Молилась, вспоминала о заслугах принца, превозносила его имя и охотно включалась в создание его культа. В едином порыве подданные королевы не скупились, приобретая чёрные ткани, траурные креповые повязки на рукава и чёрные страусовые перья для дамских шляпок. По улицам Лондона разъезжали кареты, запряжённые лошадьми под фиолетовыми попонами и с чёрными плюмажами на головах. Тяжесть утраты придавила, казалось, всех. Некоторые даже всерьёз возмущались тем, что в соседней Европе кто-то ещё может веселиться, когда в Англии такое горе. И, конечно, все волновались за состояние Её Величества. Как она, что с ней?
Газеты сообщали, что «королева мужественно переносит постигшее её несчастье, и общее состояние её здоровья не вызывает опасений». В действительности же Виктория долго находилась в полной прострации, её разум отказывался принимать случившееся, а когда осознание беды всё-таки приходило, королеве казалось, что она вот-вот сойдёт с ума. Погруженная в себя, она порой целыми днями ни с кем не разговаривала. Часами сидела в одиночестве, но никто не догадывался, что в это время она общалась со своим дорогим мужем, который продолжал незримо присутствовать рядом. Он перешёл в другой мир, но не покинул её. Только это придавало королеве сил, только это заставляло её жить дальше.
Через его личные вещи, через его портреты и фотографии, развешанные повсюду, Виктория ощущала с ним постоянный контакт. Через воспоминания о былом счастье пыталась добраться до нового смысла своего существования. «Его желания, его планы, его мнения по всем вопросам отныне будут для меня законом, – сообщала королева своему дяде, бельгийскому королю Леопольду. – Никакая сила в мире не сможет заставить меня отказаться от того, что он решил или пожелал».
Вскоре после похорон принца, на которых, согласно традиции, она не присутствовала, Виктория вместе с семьёй переехала в Осборн-Хаус, любимое детище Альберта, созданное его стараниями на острове Уайт. Здесь всё напоминало о нём, «обожаемом ангеле», отчего становилось ещё тяжелее, и наступившее Рождество королева не смогла встречать, как праздник. Первый день наступившего нового, 1862 года она посвятила выбору портретного рисунка для будущей статуи мужа, а 10 февраля, в двадцать вторую годовщину их свадьбы, целиком погрузилась в молитвы. Теперь это была одна из священных дат.
Посетителей, кроме близких друзей покойного принца, в Осборне не принимали. Люди передвигались по дому на цыпочках и разговаривали шёпотом. Бывший приют радости и веселья превратился в царство чёрных теней, и казалось, этому уже не будет конца. В мае у Виктории хватило сил на поездку в шотландский замок-резиденцию Балморал, но нахлынувшие там воспоминания окончательно её подкосили, так что от возвращения в Осборн никто не ждал никаких перемен к лучшему.
И тут выяснилось, что часто звучавшие в последнее время слова королевы о скорой свадьбе её второй дочери не были результатом помутнения рассудка. Свадьбу принцессы Алисы назначил на 1 июля сам незабвенный Альберт, а значит, так тому и быть! Только пройти она должна, разумеется, в самом узком семейном кругу и непременно в Осборне. В имении, приобретённом как раз благодаря рождению Алисы, когда появление третьего ребёнка заставило родителей подумать о собственном укромном уголке для нормальной человеческой жизни. Без протокольных церемоний, без посторонних взглядов.
Альберту здесь нравилось всё – парк, полого спускавшийся к пляжу, вид на Те-Солент, напоминающий Неаполитанский залив, удобное железнодорожное сообщение, мягкий климат и частое солнце. Не понравился только дом, слишком маленький для королевского семейства. Вместе с архитектором Т. Киббитом принц разработал проект нового замка в стиле английской эклектики с преобладающими мотивами Ренессанса. В итоге получился изящный дворец, оснащённый всеми современными удобствами и обставленный мебелью красного дерева. Здесь были красивые галереи, гостиные, оформленные в итальянском вкусе, дверные проёмы, увенчанные буквами V и А, ниши с бюстами английских герцогов и терраса, с которой можно было наблюдать за манёврами королевского флота. В саду появились декоративные бассейны, наподобие тех, что окружали дворец Медичи во Флоренции.
В этом уютном домашнем «гнёздышке» и должен был совершиться обряд, которого так ждал создатель дома и который ему не суждено было увидеть. Тяжелее всего в таких обстоятельствах приходилось невесте. Алиса глубоко переживала семейное горе, смерть горячо любимого отца стала для неё ужасным ударом. Но она любила и своего жениха и, стремясь обрести в нём супруга, надеялась поскорее найти долгожданную прочную опору. В будущей собственной семье ей виделось надёжное убежище от бед и невзгод окружающего мира. Но пока смешение противоречивых чувств возникало в её душе всякий раз, когда она видела своё белое подвенечное платье, сшитое по фасону, одобренному отцом. А стук молотка в банкетном зале, где завершались приготовления к свадьбе, заставлял учащённее стучать её страдающее сердце.
Совсем недавно, 25 апреля, Алисе исполнилось девятнадцать лет. До сих пор милая, хотя и не обладавшая особой красотой девушка была почти незаметна при дворе. Родители долго считали её маленькой, до четырнадцати лет не сажали за свой стол и ещё дольше не брали с собой на континент, отчего принцесса вовсе не расстраивалась. Она не любила большое общество, всегда стараясь затеряться в людской толпе. Очень рано в ней проявились задатки серьёзного ума. Отец разработал для детей особую программу обучения, суть которой состояла в приоритете семейных ценностей, призванных стать опорой монаршего авторитета. Алиса вместе с сёстрами изучала иностранные языки, ведение домашнего хозяйства, приготовление пищи, рукоделие и даже плотницкое дело. Как и другие королевские дети, она носила повседневную одежду средних классов, её общая со старшей сестрой спальня скудно отапливалась. Везде главенствовали практичность и целесообразность. Самостоятельность особо не приветствовалась.
Однако вскоре родители заметили, что Алиса отличается сильными экзальтированными чувствами, что у неё непростой и временами взрывной характер и, кроме того, она бывает весьма остра на язык. Отец очень любил её. Правда, первенство в его сердце принадлежало старшей дочери, Вики, но от его глаз не укрылось то, что веселушка Фатима (домашнее прозвище Алисы) обладает какой-то особенной добротой, какой-то повышенной чуткостью к чужой беде. К тому же девочка активно тянулась к простым людям. Однажды в Виндзорской капелле она перебежала на скамьи рядовых прихожан, чтобы слушать мессу среди обычного люда. А в замке Балморал принцесса навещала дома обслуживающего персонала, стараясь узнать, чем живут простые подданные. Понятное, но несколько странное желание...
Когда наступил тот злосчастный 1861 год и первой бедой для королевской семьи стала кончина герцогини Кентской, матери Виктории, Альберт именно Алису попросил утешить бедную маму. Тогда он и сам чувствовал себя очень плохо, страдая от болей в желудке, а после того, как слёг, Алиса окружила его заботой и вниманием. Но принц ещё надеялся принять участие в предстоящем семейном празднике. Ведь у Алисы был теперь жених.
Задачу подыскать ей будущего мужа в своё время поставили перед Вики. Старшая сестра, недавно ставшая супругой наследника прусского престола, активно взялась за дело. Первая кандидатура, которую она подобрала, – принц Оранский, будущий король Голландии. Перспектива стать голландской королевой выглядела весьма заманчиво, но Алисе совсем не понравился предложенный кавалер с жёлтыми, как лимон, зубами. Следующими претендентами стали два гессенских принца, Людвиг и Генрих, приглашённые в Виндзор под предлогом посещения знаменитых аскотских скачек. Принцессе сразу приглянулся старший из них, Людвиг, приятный и скромный молодой человек с весьма симпатичной внешностью. И пока одни из зрителей внимательно следили за лошадьми и наездниками, боровшимися за Королевский кубок, а другие с неменьшим интересом оценивали наряды светских дам, Алиса и Людвиг бросали друг на друга многозначительные взгляды. Перед отъездом принц попросил у девушки фотографию на память, и та её охотно подарила, стараясь всеми силами выразить свою заинтересованность.
Людвиг очень понравился и Альберту. Виктория же некоторое время колебалась. Всё-таки Гессен-Дармштадтское герцогство представляло собой настоящее захолустье даже по меркам лоскутной Германии. Но немецкий принц был таким обворожительным, таким приятным. Он так мило краснел при каждом упоминании об Алисе, что королева окончательно перестала сомневаться в будущем счастье своей дочери. Вскоре вместе с мужем и Алисой она отправилась в Кобург, на родину Альберта, заехав по дороге в Дармштадт, где принцесса смогла вновь увидеться и пообщаться с Людвигом. Следующей весной молодые люди обручились.
Планы едва не перечеркнула смерть Альберта, наступившая 14 декабря 1861 года. Но королева стала непоколебимой во всём, что касалось желаний дорогого мужа, и о переносе брачной церемонии не могло быть и речи. 1 июля Алиса и Людвиг предстали перед алтарём, возведённым в банкетном зале Осборн-Хауса. В торжестве ничего не напоминало свадьбу королевской дочери. Алиса прекрасно помнила, как четыре года назад выходила замуж её сестра Вики – кортеж из тридцати карет, семнадцать представителей правящих домов Германии, роскошный бал в Букингемском дворце, где кружилась и сверкала целая тысяча приглашённых гостей, торжественная служба в Сент-Джеймсской церкви, богатейшее приданое... Да, всего этого она была лишена, но ведь счастье заключается совсем в другом.
Подружки невесты с трудом пытались изобразить подобие улыбок. Со всех сторон периодически раздавались тяжкие вздохи. Королева появилась в чёрном вдовьем наряде и почти сразу опустилась в кресло. Стоять она не могла. Рядом с ней расположились два её сына – Эдуард, принц Уэльский, старавшийся сохранять спокойствие, и Альфред, не сдерживающий слёз во время всего обряда. Алиса вошла под руку со своим дядей, Эрнестом Саксен-Кобургским, исполнявшим обязанность отца невесты. Смущённый жених боялся поднять глаза.
Алтарь располагался под большой картиной Ф. Винтерхальтера, изображавшей королевское семейство. На холсте у ног счастливых родителей, Виктории и Альберта, возились и играли четверо их детей. Идиллия... Невозвратное прошлое... Духовные песнопения окончательно сломали выдержку королевы, и она разразилась громкими рыданиями. Позднее Виктория скажет, что день этой странной церемонии, напоминавшей скорее похороны, чем свадьбу, стал для неё одним из самых печальных в жизни. Впрочем, ни она, да и никто другой из присутствовавших не могли себе и представить, каким поистине зловещим предзнаменованием в судьбе Алисы и её потомства обернутся те мрачные обстоятельства.
«Праздничный» обед прошёл в присутствии лишь молодожёнов, королевы и её младшей дочери Беатрисы. Людвиг удостоился высшей английской награды, ордена Подвязки. Алиса получила в подарок от матери Библию, золотой браслет с бриллиантами и жемчугом и приданое в размере 30 тысяч фунтов, с трудом выбитых через премьер-министра. Вечером она сказала, что, став женой Людвига, чувствует себя гордой и счастливой. «Словно кинжал вонзился в моё сердце», – прокомментирует Виктория эти слова в письме старшей дочери.
Медовый месяц, длившийся всего неделю, новобрачные провели неподалёку, на том же острове Уайт, после чего отправились в Дармштадт, столицу маленького немецкого герцогства, где отныне им предстояло строить семейную жизнь. От самой границы Германии их тепло приветствовали местные жители, а встреча, устроенная в Дармштадте, превзошла все ожидания – такого энтузиазма и такого радушия в свой адрес Алиса ещё никогда не видела. Затем начались будни, резко изменившие картину. Людвиг вернулся к военной службе, а его жена начала обживаться в новой обстановке. Вскоре она заметила, что, несмотря на первоначальный восторг, жители Дармштадта относятся к ней весьма настороженно. На своей новой родине Алиса сразу сделалась чужой. Англичанка! Окружающие проявляли недоверие к принцессе из такой далёкой, непривычной и непонятной для них страны, иногда ворчали и на все лады коверкали её странное имя.
Напряжение усугублялось тем, что из Лондона приходили настойчивые требования создать для дочери королевы подобающие условия проживания. Но у дяди Людвига, Великого герцога Людвига III, не было достаточных средств на такие расходы. И его племянник поселился вместе с женой в старом родительском доме, в особняке принца Карла. Неуютный и выходящий окнами на шумную улицу, он совсем не подходил для создания семейного «гнёздышка», и Алиса была очень рада уехать накануне первых родов в Англию под предлогом участия в свадьбе своего старшего брата, принца Уэльского. Там, в Виндзорском замке, 5 апреля 1863 года появилась на свет её дочь, названная в честь венценосной бабушки Викторией. Девочка родилась в Пасхальное воскресенье, что добавило радости и дало надежду на окончательное завершение всех недавних горестей, омрачивших начало самостоятельного жизненного пути Алисы.
Теперь вопрос о собственном доме для молодой герцогской семьи встал особенно остро. Алисе ничего не оставалось делать, как пожертвовать почти всем приданым для возведения в Дармштадте нового дворца, строительство которого продлится два года. За основу проекта был взят любимый принцессой замок в Осборне, дом её счастливого детства, дом её светлых воспоминаний. Пока же прибавление семейства стало поводом для вынужденного подарка Великого герцога. Людвиг III уступил племяннику Кранихштайн, один из своих охотничьих домов в шести километрах от города. Скромное поместье, громко именуемое замком, Алиса перестроит по собственному вкусу, получив в итоге долгожданный уголок для тихой семейной жизни. Отныне тёплое время года семья молодого герцога будет проводить именно здесь.
Дом ещё только обустраивался, когда хозяевам пришлось принимать гостей самого высокого уровня. В Дармштадт вместе с женой и младшими детьми приехал российский император Александр II. В этом не было ничего удивительного – императрица Мария Александровна была урождённой гессенской принцессой и часто навещала свою родину. Людвиг III и принц Карл доводились ей родными братьями, с которыми она всегда была рада встретиться. На сей раз императрица решила посетить и племянника, чтобы познакомиться с его собственной семьёй, для чего Царская семья направилась в Кранихштайн, где в связи с этим поднялась настоящая суета. Герцогиня, всегда помнившая о том, что она дочь английской королевы, не хотела ударить в грязь лицом и хлопотала изо всех сил. Со слов мужа, побывавшего в Москве на коронации Александра II, она знала о неслыханной роскоши, окружавшей русского царя, и о строжайшем этикете, налагавшемся его присутствием. Тут было от чего волноваться. Но, к удивлению хозяев, высочайшие гости оказались очень милыми и любезными людьми. Вместо чопорности они проявляли доброту и непринуждённость, вместо азиатского варварства – большой интеллект и тонкий вкус. А какие обаятельные у них дети! Умные, прекрасно воспитанные. Особенно восхищал Сергей, в котором даже крошка Виктория почувствовала что-то хорошее и притягательное. Она постоянно улыбалась этому мальчику, просилась к нему и не желала с ним расставаться.
Существует предание, что Алиса, находившаяся тогда на последних месяцах новой беременности, дала послушать Сергею, как внутри неё бьётся сердечко ожидаемого ребёнка. Трогательная история. И если она правдива, то Великий князь таким необычным способом «познакомился» (кто бы мог подумать!) со своей будущей женой ещё до её рождения!
Полностью очаровав герцога и герцогиню, которая, к неудовольствию матери, забросала её восторженными отзывами о русских гостях, Царская Фамилия вернулась в Дармштадт. Однако приближение холодов заставило императрицу покинуть отчий дом и переселиться в более тёплые края на юге Франции. Алиса же, наоборот, вернулась в городской особняк, готовясь ко вторым родам. Вся семья ожидала рождения мальчика, желанного наследника.
Поздним вечером 31 октября у герцогини появились боли, перешедшие к утру в схватки. В половине девятого она родила девочку. Роды прошли на удивление легко, а малышка выглядела крепкой и здоровой. Обряд крещения совершили в доме принца Карла, где была домашняя крестильня. Нарекли новорождённую Елизаветой Александрой Луизой Алисой.
Прокомментируем такое решение подробнее, ведь имя человека может стать значимым и даже определяющим в его судьбе. Выбор здесь, как правило, не бывает случайным. Так, своё собственное имя Алиса дала дочери намеренно. Оно должно было стать привычным и наконец-то правильно произносимым жителями Гессена. Его же среди прочих она даст и четвёртой дочери, Алики (будущей императрице Александре Фёдоровне). Другие имена, и раньше, и позднее, герцогиня подбирала детям согласно традиции, по которой представители младшего поколения назывались в семье в честь старших родственников. Так поступала её мать, так поступала и Алиса. На первом месте здесь стояло имя английской королевы, так что Викториями стали три дочери гессенской герцогини – старшая, четвёртая (она же Алиса) и самая младшая (она же Мария). Большое значение придавалось именам сестёр, то есть тётушек дочерей Алисы. Так, полное имя Алики включало их сразу три – Елена, Луиза и Беатриса. Имя тёти Луизы досталось и Елизавете, а позднее ещё Ирене. Вдобавок Елизавета получила имя «новой» тётушки, только что вошедшей в королевскую семью принцессы Уэльской Александры, жены дяди Эдуарда.
Наконец мы подошли к первому и самому главному из её имён. Елизавета... Уже давно принято считать, что девочку назвали так в честь прославленной немецкой святой Елизаветы Тюрингской. Действительно, жившая в XIII веке Елизавета Тюрингская (или Тюрингенская, а также Венгерская) глубоко почиталась даже в лютеранской Германии, не признававшей культа святых. И особенно в Гессене, где считалась одной из основательниц правящей династии. Герцогиня Алиса нашла в ней пример отзывчивости к чужой беде и образец самопожертвования ради простых людей. Любовь к этой святой она со временем зажжёт и в сердце дочери, получившей такое же имя. Однако маленькую Елизавету, скорее всего, нарекли так совсем по другой причине. Это было имя её немецкой бабушки, матери отца, урождённой принцессы Прусской. Оно уже использовалось при наречении старшей дочери Алисы, которая, прежде всего, была Викторией (в честь английской бабушки), во-вторых, Альбертиной (в честь незабвенного дедушки) и в-третьих, Елизаветой (в честь бабушки немецкой). Теперь (и это было логично) имя свекрови Алиса поставила на первое место.