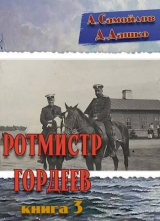
Текст книги "Ротмистр Гордеев 3 (СИ)"
Автор книги: Дмитрий Дашко
Соавторы: Александр Самойлов
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Рядовые бросаются выполнять приказ. Выпад первого я успевают парировать шашкой. Сталь сталкивается со сталью с такой силой, что высекаются искры. А вот выпад второго я не успеваю отбить вакидзаси. Штык с хрустом входит мне в левое бедро. Кажется, что он скрежещет по кости. Выдернуть штык солдат не успевает, бью его шашкой по левой руке, отсекая кисть.
Японец тонко верещит, роняя винтовку и вздымая к небу обрубок с хлещущей кровью. Скоробут, тем временем, расправляется с другим противником. Кузьма втыкает свой штык в грудь противника. На его счастье жало попадет удачно – не сгибаясь. Похоже, у японца задето легкое – он хрипит, на губах пузырится розовая пена.
– Shi ne, inu![4]– ревет тайи и пытается достать саблей Сокробута.
Скоробут успевает отскочить назад, но запинается о тело несчастного Фрейзена и падает на дно окопа.
Тайи с ревом ярости заносит свой палаш, чтобы пронзить моего верного ординарца. Забыв о раненой ноге, делаю выпад, пытаясь достать японского офицера своей шашкой.
И раненая левая подводит, подгибается, а мой клинок вместо того, чтобы войти в бок противнику, лишь распарывает ему мундир и слегка прорезает кожу. Но, благодаря мне и секундной заминке тайи, Кузьма, успевает откатиться в сторону от удара палашом неприятеля.
Противник разворачивается ко мне. Его клинок со свистом, словно блестящая молния проносится перед мои лицом. Кожей чувствую рассекаемый палашом японца воздух. А палаш, совершив пируэт в умелых руках японского капитана обрушивается на меня сверху.
Успеваю подставить свой вакидзаси. Левую руку почти отсушило от мощного удара противника.
Капитан ругается по-японски сквозь сжатые зубы и отводит свой клинок для удара мне в грудь.
Резкий свист с неба. Ни с чем не перепутать летящий снаряд. Это наконец-то бьют наши батареи по окопам. Грохот взрыва. В меня летят комья земли, упругий воздух бросает меня на стену окопа. И темнота…
[1] 'Путь длинною в 680 ри
(Мы проделали), отплыв от побережья Нагато
Уже 2 года (прошло), и когда
Мы представляем горы далекой родины
Чужое небо облачно,
А небо страны восходящего солнца ясно.
Если подумать о ее благе,
Человеческое тело эфемернее росы…'
Гвардейцы Есимиче поют известную гунка (военную песню) времен японо-китайской войны 1894–1895 года «Гэйсен».
[2] Небо сегодня ясное
(И в нем) выделяется высокая гора Фудзи.
Даже если белый снег на ее вершине растает,
Слава мужей, совершивших подвиг,
Долго не потускнеет! (яп.)
[3] Убейте их! (яп.)
[4] Сдохни, собака! (яп.)
Глава 8
Страшная боль вонзается в голову как сверло, погружается в мозг, буквально разрывает на части. И вроде бы не слабак, привык многое переносить, сжав зубы, но воля превращается в студень, рот раскрывается сам собой и издаёт долгий протяжный стон.
И вместе с ним приходит пробуждение.
Первое, что бросается в глаза – потолок… Белёный по старинке, явно метёлкой, я отчётливо вижу её следы. А вот всё остальное как будто в дыму: очертания предметов и людей плывут, невозможно сфокусироваться.
– Очнулся, голубчик! Слава тебе, господи! – бормочет кто-то рядом и сразу же громко зовёт:
– Сестричка, сюда. Больной очнулся!
Голос у него оказывается пронзительным и вызывает у меня очередной приступ. Обхватываю голову руками, давлю виски как арбуз – может так полегчает?
– Тише ты! Не видишь: мается бедолага! – до ушей доносится вкрадчивый женский шёпот.
Стоп! А ведь я уже где-то слышал её. И как будто бы при схожих обстоятельствах… Или это обман слуха?.
Сквозь пелену и туман проступает женский образ… Совсем ещё молодая, если разобраться, даже девушка – девчонка в белом одеянии… Большой крест цвета крови на белой старомодной косынке.
Не может быть! Дежавю и только!
Если мозг не играет со мной злую шутку, именно эта медсестричка была первым человеком, которого я увидел, когда оказался в другом мире. Игра судьбы да и только… Кому рассказать – не поверят.
А может ничего такого на самом деле не было, я долго лежал в отключке, слышал вокруг себя голоса и нафантазировал себе бог весть что… Всех этих демонов: крылатых, многоруких… Оборотней, вампиров… Ну и прочую нечисть, включая наших родных домовых отечественного разлива.
И если это так – то…,мне будет ужасно скучно, без моего Скоробута, без братцев Лукашиных, даже без одноглазого Лиха – Лявона Горощени будет как-то не так. Неужто это фантазии воспалённого воображения?
– Больно, родненький? – участливо спрашивает девушка, поправляя на мне казённое одеяло. – Потерпи чуток, сейчас тебе станет лучше.
Она очень мила, у неё участливое выражение лица, от всего её облика исходят уют и доброта, а в голосе звучит неподдельная нежность и забота. Девушка касается моего лба, я начинаю чувствовать приятную прохладу её ладоней, и эта прохлада волнами распространяется по всему телу, притупляя муки.
– Вы… В-вы… б-бер-региня? – вырывается у меня.
Не знаю почему, но мне с большим трудом удаётся выговорить эту фразу. Ни язык, ни губы, меня толком не слушаются.
– А вы только сейчас догадались? – усмехается она. – Конечно, я берегиня. Потому и работаю в госпитале. А ещё я очень хорошо знаю вашу невесту.
– К-к-к-какую невесту⁈ – с третьей попытки выговариваю я.
– Как какую! Вы шутите⁈ – деланно возмущается она, хотя я вижу, что на самом деле в её глазах прячутся озорные смешинки.
Тут медсестра оборачивается, замечает кого-то и теперь уже не может сдержать настоящей улыбки:
– Впрочем, вот и она. Вы ведь её не забыли⁈
– С-с-соня! – не сразу, но мне всё-таки удаётся перебороть проклятое заикание. – Вы?
– Здравствуй! – Соня склоняется надо мной, целует в лоб как ребёнка, хотя и точно знаю: ей, как и мне, хочется большего…
Я буквально тянусь к ней и душой и телом, а она готова ответить взаимностью. Мешают разве что неподходящее время и место… Ну и, пожалуй, моё состояние. Я не просто ослаб, у меня нет сил даже чтобы говорить, а руки падают безвольными плетьми. В общем, герой-любовник из меня так себе.
Она отстраняется.
– Я пришла сюда сразу как только узнала, что ты очнулся.
– К-к-к…
– Как я могла узнать?
– Д-д-да…
– Не забывай, я всё-таки берегиня!
Понятней от этого не стало, а вопросов у меня только прибавилось. Откуда взялось заикание, могу догадаться – это один из самых распространённых симптомов контузии. А меня крепко приложило тогда взрывной волной во время схватки с японским офицером. Нет, теперь я готов поставить сто к одному – ничего мне не пригрезилось, было всё!
– К-к-как ост-тальные! – невозможно описать каких усилий над собой мне стоил этот коротенький вопрос.
Реакции Сони и медсестры мне сразу не нравится. Они пытаются от меня это скрыть, но я достаточно долго прожил на том и этом свете, чтобы понять: меня жалеют и делают всё, чтобы я не волноваться.
Набираю полную грудь воздуха, чтобы громко высказать своё возмущение. В конце концов даже в госпитале я остаюсь офицером и отвечаю за своих людей. Я просто обязан знать, что с ними. Даже если это горькая правда.
– Тебе надо отдохнуть и набраться сил! – внезапно произносит Соня.
Она запускает руки в мои волосы, аккуратно шевелит пальчиками. Её прикосновения вызывают сладкую и приятную вибрацию, по телу бегут электрические импульсы, они расслабляют меня, вызывают негу, я готов мурлыкать как кот, которого чешут за ушком, забываю на секунду обо всём и вся.
– Спи, мой хороший! – говорит Соня, и я опять проваливаюсь в сон.
Могу лишь гадать, сколько тянется это очередное забвение. Вроде бы за окнами палаты всё ещё светло, но кто даст мне гарантию, что я не провалялся целые сутки. Одно радует – не было сновидений.
– Что ж вы так неаккуратны, голубчик! – качает головой высокая нескладная мужская фигура. – Давно ли были у меня в «гостях» и опять вдруг пожаловали! Неужто так понравилось?
Он подмигивает.
– С-с-сер-г-г-гей…
– Всё верно, Сергей Иванович Обнорский, ваш, так сказать, эскулап! – смеётся он. – Вижу, что узнали.
Киваю в ответ. Ну да, в прошлый раз он тоже меня лечил. Судя по результату, довольно удачно.
– Сможете присесть?
Сил в теле не прибавилось, но кое-как с его помощью принимаю сидячее положение. Голова с непривычки кружится, но всё равно – так значительно лучше, чем делать любимое занятие некоторых бодибилдеров – «лёж лёжа».
Начинается рутинный медицинский осмотр, в рамках которого мне, как и хорошему коню, смотрят даже в зубы.
– Что ж… Недурно, недурно, – изрекает в итоге врач. – Вы сравнительно легко отделались, господин ротмистр. Через пару недель обязательно поставлю вас на ноги. Будете петь и танцевать!
– А г-г-г-г…
– Говорить?
– Д-да!
– Тут всё индивидуально, но, опыт мне подсказывает: ваше заикание не останется с вами на всю жизнь. Обязательно пройдёт и, возможно, даже раньше, чем вы думаете! Вечером ещё раз приду вас проведаю… И да… Я, конечно, категорически против, но завтра у вас будет много гостей. На мой взгляд, даже слишком много!
Обнорский уходит. Я вновь падаю на подушку.
Время завтрака. Его мне приносит Соня.
И она же начинает кормить меня как ребёнка с ложечки.
– За папу – за маму…
Меня очевидно держат на какой-то диете, поэтому вся пища абсолютно безвкусная. И выглядит она так, словно её уже раз ели.
Впрочем, в окопах не привыкать питаться всякой дрянью, поэтому я не ропщу, а послушно открываю рот, чтобы принять очередную порцию пищи. Только компот заставляет меня примириться с этим обедом. Он одновременно сладок и кисловат, точно такой же когда-то варила мама. Моя настоящая мама, которая осталась где-то там, где старлей Лёха Шейнин пал смертью храбрых. Или пропал без вести… Даже не знаю, какую бумагу ей прислали.
– Николя… Тебя плохо? – тревожится Соня.
Поджимаю губы и отрицательно машу головой. Никому, даже Соне, совсем не обязательно знать, какие кошки скребут сейчас у меня на душе.
– Ты меня обманываешь, Коля! – тоном учительницы произносит берегиня. – Я же вижу: с тобой что-то не так! Неприятные воспоминания? Я права?
– Я в п-п-полном п-порядке!
– Не надо, – просит она.
На её лице печаль.
– Знаешь, иногда мне кажется, что ты – совсем не тот Коля, которого я знала с детства. Ты словно другой человек!
– В-война…
– Конечно, война меняет людей. Но ты изменился до неузнаваемости! – Она вытирает мои губы мокрым полотенцем, снова целует и опять, увы, в щёку. – Тебе надо поспать.
Я не спорю, послушно поворачиваюсь на правый бок и закрываю глаза.
Доктор говорит, что завтра у меня будет много гостей. Кто-то из них обязательно скажет, что с моим эскадроном.
Режим в госпитале соблюдается безукоризненно. После завтрака меня будят, чтобы поставить пару уколов. Замечаю, что колет меня в мягкое место не медсестра, а Соня – девушка словно прописалась в больничке. Дальше сон, обед, опять сон, полдник, посещение Сергея Ивановича, ужин и сон, но уже до утра.
Несмотря на однообразность и скучность, время пролетает незаметно.
На следующий день я чувствую, что мне намного лучше: ещё не бодрый огурчик, но уже вполне себе корнишон.
А вот и обещанные гости.
– Николай Михалыч! – Николов садится на некрашеный грубый табурет. – Рад видеть вас в добром здравии!
На широкие плечи контрразведчика накинут свежий белый халат.
– З-з-з…
– Не напрягайтесь! – успокаивает он. – Я в курсе о вашей маленькой проблеме. Ничего страшного, тем более говорить в основном буду я.
Благодарно опускаю подбородок. Люблю понятливых людей.
Контрразведчик кладёт на прикроватную тумбочку небольшой свёрток.
– Это вам гостинцы… От меня и не только.
– С-спасибо!
Он усмехается.
Я внимательно смотрю на него, ожидая вестей.
– Итак, начнём с главного. Вас наверняка интересует, кому в итоге досталась позиция, так удачно захваченная вашим отрядом.
Киваю. Ещё бы меня это не интересовало! По сути я поставил всё на тот прорыв и пошёл ва-банк.
– У меня хорошие новости: позиция осталась за нами. Наша артиллерия удачно накрыла японцев, они не выдержали и побежали… Маленькая, но такая важная для нас победа на этом участке фронта! Тем более в последние дни викторий у нас, скажу откровенно, было немного, – довольно произносит он.
Облегчённо выдыхаю. Значит, всё было не зря!
– Правда, не все сразу оценили этот результат по достоинству, – продолжает Николов.
В ответ на мой недоуменный взгляд, он поясняет:
– Начнём с того, что Куропатки просто возжелал отдать вас под суд, но сначала его остановило ваше ранение. Потом вступился наместник Алексеев. Адмирал горой встал за вас. Ну и скажу по секрету: у вас, Николай Михайлович, нашлось много других защитников: Ванновский, комбриг и комполка. Ну и ваш покорный слуга, – лукаво подмигивает он.
Благодарно киваю в ответ, в горле слегка першит от избытка чувств. Как это здорово, когда в тебя верят!
– Так что выхода у Куропаткина не было. В итоге он сменил гнев на милость. Теперь вы официально герой, господин ротмистр. Приоткрою вам маленький секрет: ваш подвиг оценили по достоинству, вас ждёт высокая награда!
Он словно читает мои мысли:
– Конечно-конечно! Вы служите не ради чинов и наград, но согласитесь – любой поступок, тем более – поступок героический, не должен остаться незамеченным. И это будет лишь маленькая толика справедливости в отношении вас и ваших людей…
– М-м-мои л-лю-д-ди….
Николов на секунду замирает.
– Ваш лечащий врач прочитал мне целую лекцию перед тем, как разрешил навестить. Мне категорически не советовали касаться этой темы, но… Я уверен: вы обязаны знать.
– Г-говорите! – умоляюще произношу я.
– Вашего эскадрона больше нет, – решается Николов. – Нет, его не расформировали… Он погиб! Погиб, героически сражаясь с японцами. Большинство солдат и офицеров пали на поле брани. Немногочисленные выжившие лежат сейчас вместе с вами в госпитале. Нет ни одного, кого бы не зацепило пулей или осколком, причём не по одному разу.
Меня с ног до головы охватывает ледяным холодом, в глазах мутнеет. Нет ничего хуже для офицера, чем потерять своих людей, тем более сразу почти всех. И это страшная, непереносимая мука.
Рука тянется к воротнику исподней рубахи, начинает его терзать. Я покрываюсь потом, не могу дышать. Это не паническая атака, что-то другое, я знаю, но мне откровенно хреново.
– Д-душно!
– Я открою! – Николов встаёт и открывает окно.
Вместе с ним в палату врывается дыхание ветра. Мне становится чуточку легче.
Отпускаю воротник. Медленно и сосредоточенно дышу, отгоняя тоску прочь.
– Простите, что принёс вам недобрые вести, – вздыхает контрразведчик.
Он старается не смотреть мне в глаза.
– Вашей вины в этом нет! – неожиданно чисто и без запинки говорю я.
Куда только делось проклятое заикание! Неужели избавился?
Оно как будто услышало меня и тут же вернулось, когда я попытался объясниться:
– Эт-т-то пр-пр-прок-клятая в-война!
Контрразведчик понимающе вздыхает.
– Война… Будь она неладна! Но вы ведь не собираетесь сдаваться, Николай Михалович⁈ – Николов окидывает меня испытывающим взглядом.
– Я р-р-руский оф-ф-фицер! Р-руские н-н-не сдаются!
– Именно это я и хотел от вас услышать, ротмистр, – уважительно произносит контрразведчик. – Да, прежний состав вашего эскадрона погиб, вечная память героям! Но начальство приняло решение признать эксперимент удачным и продолжить его. Так что всё только начинается, Николай Михайлович. Поскорее идите на поправку и набирайте новых людей. С самого верху поступило распоряжение оказывать вам всяческое содействие.
Он вскидывает руку вверх:
– Мы ещё повоюем!
– П-повоюем! – соглашаюсь я.
Покоя мне не будет, пока не отомщу за всех и за каждого. Если б только дали добро, умчался бы прямо сейчас на фронт. И плевать, что башка гудит как чугунный колокол.
– Мне пора! – Николов пожимает мне руку и направляется к выходу.
Господи, как я ему завидую, когда он покидает палату. Как бы я хотел оказаться сейчас на его месте, бить японца и мстить за ребят! Моих ребят, пусть некоторые из них годились мне в отцы.
Второй гость просачивается в палату сразу после полуденного сна. У него крупная седая голова, мясистый, изъеденный оспинками нос, бородка клинышком, серые глаза смотрят на мир сквозь толстые стёкла пенсе. На вид ему слегка за сорок, на нём приличный тёмный костюм-тройка, сорочка и тщательно подобранный галстук.
Он втягивает ноздрями пропахший карболкой воздух, недовольно морщится, но, завидев меня, улыбается.
– Господин Гордеев?
– С-с к-к-кем имею ч-честь?
Вместо ответа он протягивает мне визитку. Если верить тому, что в ней написано, меня посетил журналист – некто Яков Семёнович Соколово-Струнин.
В руке у посетителя появляются блокнот и карандашик.
Возвращаю визитку.
– К-ка-акое изд-дание пр-представляете?
– Я сотрудничаю сразу с несколькими газетами и журналами, – улыбается Соколово-Струнин. – В настоящий момент нахожусь в командировке от «Русской Свободы».
Название газеты мне ничего не говорит, как и фамилия его обладателя. Правда, что-то меня конкретно напрягает. Насколько мне известно, слово «свобода» не особо в ходу у власть предержащих.
– Господин Гордеев, не стану ходить вокруг да около. Не возражаете дать интервью для нашего издания?
– П-почему в-вы в-выб-брали меня?
– Ну как же! Ваше имя сейчас у всех на слуху! Разумеется, «Русская Свобода» не могла пройти мимо…
– П-п-простите… Г-где п-п-печатается в-ваша газета?
– Наша типография находится в Лондоне, но, не обману вас, если скажу – нас читает вся прогрессивно мыслящая Россия! – самодовольно ухмыляется он.
Значит, Лондон… Ассоциации, прямо скажу, нехорошие. Первым на ум приходит Герцен, которого разбудили декабристы…
– Я понимаю, вы ранены, но врач сказал, что у меня есть десять минут. Целых десять минут.
– С-спрашив-вайте! – сдаюсь я.
Может, просто зря себя накрутил. Мало ли какие газеты печатаются сейчас за бугром. Дома почти все гайки закручены.
– Кто победит в войне? – выпаливает первый вопрос Соколово-Струнин.
Ответ на него мне известен. Причём, слишком хорошо известен. Хотя, я делаю всё, чтобы этого не произошло.
Сказать этому Соколово-Струнину правду? Интуиция мне подсказывает: а ведь он обрадуется. Нутром чую: известие о поражении России примет как благую весть.
А вот хренушки!
– М-мы!
– Мы – то есть Россия? – уточняет он.
– К-кон-нечно!
– Вы в этом уверены.
Короткий кивок.
– Хорошо, – вкрадчиво продолжает он. – Допустим, вы твёрдо верите в нашу победу, хотя факты… Факты говорят обратное. Порт-Артур взят в осаду, практически по всему фронту наша армия пятится как рак… Даже здесь единственное светлое пятно – удержанные вашим отрядом вражеские позиции. Пиррова победа! – почти выкрикивает он.
Говорю не своими, но такими правильными словами, которые придумают позже.
– В-раг б-будет раз-збит! П-победа будет з-за нами!
– Чушь! – почти кричит он. – Какая чушь! Мы столкнулись с технологически развитым противником! Нам противостоит по-настоящему обученное и оснащённое войско, по сути европейская армия, пусть и состоящая из солдат с жёлтым цветом кожи! Вы всерьёз полагаете, что наш русский Ванька способен что-то противопоставить её железному натиску⁈ Скажу больше: на мой и не только мой взгляд, будет даже лучше, если Россия… чёрная, страшная, погрязшая в самодержавном распутстве и пьянстве Россия проиграет. Отсталая, дикая, варварская страна наконец-то поймёт, что не с её-то рылом соваться в мировой калашный ряд и пытаться вершить политику! И тогда, мы пройдём через самоочищение! Смоем с себя всю эту дикость и азиатчину, вольёмся в братскую семью европейских наций и…
Договорить Соколово-Струнин не успевает.
Правда, для этого мне пришлось подскочить с койки и как следует дать от всей моей варварски-азиатской души ему в большой широкий, но такой не умный лоб.
Журналист валится на пол как подкошенный.
– Интервью закончено… – говорю я и возвращаюсь назад, на больничную кровать.
Кулак слегка побаливает. Кажется, я немного не рассчитал и слегка повредил себе костяшки.
Ничего, до свадьбы заживёт.
Глава 9
– Что ж вы творите, Николай Михалыч? – в голосе Ванновского упрек, но в глазах пляшут чертики. – Прессу обижать нехорошо. А вы на человека с кулаками… Ай-яй-яй! Не подобает вести себя так русскому офицеру!
Вздыхаю и угрюмо заглядываю сбитые костяшки на правой ладони. Я и в свое-то время и в своем мире не особо любил этих акул пера. Хотя почти и не пересекался с их братией, но посудите сами, заголовок – сплошное «про Ерему» – ничего общего к бойкий «про Фому», а начнешь вчитываться в сам материал – ничего общего с заголовком, вообще о другом. Лишь бы набить цену своим писулькам, повысить рейтинг и читаемость. И эта любовь выворачивать перед публикой грязное белье живых и мертвых знаменитостей. Хотя, были и среди этой пены и накипи нормальные журналисты, хваткие, правдивые. Взять того же Гиляровского… Только Гиляровский один, а шелкопёров, вроде того, кто попал мне под руку, подавляющая масса.
– Д-ж-дерьмо ваш Соколово-С-с-трунин, п-п-поет и п-пляшет под брит-т-танскую дудку и на британские баб-б-бки…
Упс! А это – залёт! Прикусываю язык «бабки»: здесь и сейчас это – «старушки божий одуванчик», а не финансовые средства.
– Бабки? – Ванновский смотрит непонимающе.
– Э-э…
Что-то надо срочно придумать… но что? Никогда б не подумал, что от заикания может быть польза – позволяет тянуть время.
– Сергей П-п-петрович, это д-д-дядюшка мой по-о-окойный…
Боже, что я несу⁈
– с-с-сотенные так н-называл…
– «Катеньки»?
– Н-н-ну, да. Там же п-портрет Ек-катерины Великой, а она б-бабушка аж д-двух имп-п-ператоров – «царская б-бабка».
– Большой оригинал был ваш покойный дядюшка, – Ванновский усмехается – похоже, мое скомканное объяснение он принял.
– Пресса бывает разная, – продолжает Сергей Петрович дипломатично, – вы и американцев видели, и британцев, в бане с ними парились и водку пили.
– Так то д-дипломатия… – пыхчу я недовольно.
– С господином Гиляровским вы вообще сражались бок о бок. Наслышан я о его подвигах. С ним-то у вас любовь и согласие.
– В-владимир Ал-дексеевич, д-д-другое д-дело. Он – с-свой. А эт-тот…
– Тоже свой. Такой же подданный Российской империи, как и мы с вами. К тому же ему покровительствует великий князь Владимир Александрович…
Оп-па, на… Этого еще не хватало.
– Вы же, Николай Михалыч, человек, вроде выдержанный, а тут у вас, как тормоза на паровозе отказали. Что на вас нашло?
А действительно, что на меня нашло, чтобы я в такой ярости набросился на сугубо гражданского человека, да еще и с кулаками?
Ну, и что, что он уверен в нашем поражении в войне? В моей-то истории все так и случилось. Россия проиграла.
И не только потому что Британия заняла сторону японцев, были и внутренние причины, которые страну к поражению: экономические, социальные и военные. Хотеть победы своей стране и видеть при этом ее недостатки и проблемы – разве так уж несовместимо?
Покаянно развожу руками перед Сергеем Петровичем.
– В-виноват. К-контузия…
– Этой версии и придерживайтесь, ротмистр. И я так начальству доложу, – Ванновский подмигивает, хлопает меня дружески по плечу. – Да, я тут вам… гостинчик.
Он кладет на тумбочку увесистый бумажный сверток, надежно перевязанный шпагатом. Внутри что-то явственно булькает.
– Поправляйтесь, Николай Михалыч. Честь имею.
– Б-благодарю в-вас!
Ванновский покидает палату.
Аккуратно разворачиваю сверток. Бутылка шустовского, консервированные фрукты производства Северо-Американский Соединенных Штатов, пара плиток швейцарского горького шоколада. Надо же – «Nestle»…[1]
Дверь еле слышно скрипит. Поднимаю голову – в щели сверкает любопытный глаз.
– К-кто там п-прячется? З-заходи, не б-бойся.
В палату пробирается целая делегация: хромой, кривой и прочие увечные: Скоробут, Буденный, оба Лукашина и Жалдырин. Скоробут на костылях, Жалдырин с замотанной бинтами головой, Тимофей с правой рукой на перевязи, Буденный – с пиратской повязкой поперёк усатой физиономии, прикрывающий левый глаз. Один Иван Лукашин без видимых внешних повреждений. Ну, да известно, же, что на оборотнях обычные раны, причинённые не серебряным оружием, заживают на раз.
– Б-братцы!!!
Обнимаю своих бойцов.
– Что с г-глазом, С-семен?
– А нет больше глаза, вашбродь, – смеётся Будённый. – Но, ничего, так даже сподручнее целиться.
– Не п-переживай, С-семен Михалыч, Ку-утузов вон, т-тоже без глаза, а д-до фельдмаршала дос-служился.
– Скажете тоже… – Буденный смущенно крутит ус.
– Д-да уж поверь м-моему слову. А что с ос-стальными, где еще уцелевшие?
Бойцы переглядываются. Кузьма смущённо чешет затылок.
– А нет, Николай Михалыч, более уцелевших…
– К-как нет? – в глазах предательски щиплет. – А Ц-ц-цирус?
– Истек кровью поручик, еще до прихода санитаров, – вступает в разговор Жалдырин.
Тяжесть наваливается на сердце.
– С-савельич?
– Уложил вокруг себя два десятка япошек наш унтер, крушил их винтовкой, словно булавой, когда патроны все вышли, – Кузьма неожиданно шмыгает носом, – Снарядом их накрыло. Так все перемешало, что, когда хоронили… в общем, не смогли разобрать, где Савельич, а где его супротивники. В закрытом гробу схоронили.
Скоробут осеняет себя странным жестом: мизинец и указательный пальцы выставлены вперед, средний и безымянный согнуты к ладони и удерживаются большим пальцем – наша нечисть использует его там, где обычный человек перекрестился бы[2].
Я и Буденный крестимся, остальные повторяют жест моего ординарца.
Вздыхаю.
– Н-негусто нас ос-сталось от ц-целого э-эс-скадрона… особ-бого на-азначения.
– Еще Горощеня, – вступает в беседу старший Лукашин.
– А ч-чего он не с в-вами?
– Лежит он. Не встает. В сознание не приходит. Но живой. Доктора бьются, чтобы в сознание привести, да покамест без толку.
– Лад-дно, б-братцы, к-кости есть, а м-мясо нарастет. По-осуду н-найдёте?
Чтобы русский солдат да не нашел посуду, ежели представляется случай выпить? Да в госпитале?
Буденный исчезает на пару минут и возвращается, позвякивая чем-то таинственно в карманах коротковатого ему госпитального халата. Жестом фокусника извлекает из карманом пробирки.
– Вот… Только придется в руках их держать. Не поставить треклятые склянки.
Откупориваю подарок полковника Ванновского. Разливаю по склянкам. Протягиваю шоколад бойцам.
– Ломайте, б-братцы.
Первую пьем в молчании за помин и упокой. Вторую – за скорейшее выздоровление и возвращение в строй. Третью – за победу.
Да много ли того коньяка было на пятерых выздоравливающих лбов⁈
Мы как раз закусываем за последней пробиркой, когда в палату заглядывает Обнорский. Госпитальный эскулап только руками всплескивает.
– Господа, да что ж это такое⁈ Мало того, что нарушение дисциплины, так еще и всех строжайших врачебных предписаний! Пьянству в палате не место.
– Не к-кипятитесь, С-сергей Ив-ваныч, – стараюсь добавить в голос максимум доброжелательности и радушия, – А-алк-коголь, к-как говорится, в-в небольших д-дозах не только в-вреден, но и по-полезен. Вот, с-с-скажем коньяк – н-нормализует арте-териальное давление. К тому же, н-нельзя было не по-помянуть п-павших товарищей н-наших.
Обнорский смягчается.
– Ну, разве что помянуть павших за Отечество и Государя… Но, впредь, прошу не нарушать. К тому же, лично вам, Николай Михалыч, даже коньяк не слишком полезен при последствиях очередной вашей контузии.
Покаянно развожу руками.
Бойцы мои, смущенно покашливая, тянутся к выходу из палаты. Обнорский смотрит на часы.
– До обеда пара часов, господин ротмистр, постарайтесь поспать. Я бы дал вам снотворного, да боюсь, в сочетании с шустовским, действие может быть непредсказуемым. Так что сами виноваты. Спать, есть, лечиться – вот ваша боевая задача на ближайшее время. Считайте, это приказ.
– С-слушаюсь!
Обнорский покидает палату.
Ну, приказ, так приказ. Заваливаюсь на госпитальную койку. Сквозь тощеватый матрас чувствуются жесткие металлические конструкции.
Подсовываю под ухо такую же тощую, как матрас, подушку. Закрываю глаза.
От выпитого коньяка в теле приятная истома.
За окном шумит дождь. Барабанит капелью-шрапнелью по стеклу и подоконнику. Мерный шум убаюкивает.
Дождь это хорошо – дороги развезет, японцам будет сложно подвозить припасы и подкрепления. В мокрых окопах не согреться. Толком не приготовить горячую пищу. Все сырое и даже мокрое. Мерзко и противно. Грязь пудовыми веригами налипает на сапогах. Хочется домой, а не воевать.
Маньчжурская осень потихоньку показывает свои острые зубки. Наступать в такую погоду не принято. Впрочем, все вышеперечисленное касается и русской армии. Веки тяжелеют, наливаются свинцом. Мерный шум дождя, словно рокот далеких тамтамов…
…Рокот далеких тамтамов… или шум тропического дождя. Барабанят капли по выцветшему под жарким южноафриканским солнцем почти добела брезенту. И тут же их перекрывают хлесткие звуки ударов и не менее хлесткие ругательства на африкаанс.
Нет, голландского бурского я не знаю, но тональность криков не оставляет никаких сомнений.
Открываю глаза – дальше поспать все-равно уже не удастся. Откидываю прочь одеяло и быстро одеваюсь, отвожу в сторону полог палатки – так и есть под дождем Михель ван Хаас, двадцатипятилетний бур с окладистой бородой лупцует, что есть силы какого-то чернокожего кафра.
Тот лишь испуганно вращает белыми зрачками и верещит тонким голосом:
– Baas ! Baas ! [3]
Негр вжимает голову в плечи, сквозь старое ветхое одеяло, служащее ему одеждой, проглядывает жилистое и мускулистое бронзовое тело. Лицо кафра все в кровоподтеках и синяках, от страха стало совсем желто-бурым, как кожа на его ладонях.
– Михель! – рявкаю из палатки. – Ты же насмерть его забьешь? Чем тебе опять досадил твой слуга?
Бур оборачивается, оставляя на время бедного кафра в покое, но не выпуская его из рук.
– Слуга? Неужели ты не видишь, что это не мой Узикулуме. Это британский шпион.
– С чего ты взял?– удивляюсь я.
Кафр неожиданно вырывается из рук бура и бросается в мою сторону. Вцепляясь мне в колени, он, словно в лихорадке стучит зубами и только мог, что гортанно выкрикивать свое неизменное ' Baas ! Baas !'
Белки его глаз почти закатились. Зрелище неприятное и омерзительное. От тела кафра буквально разит чем-то кислым и острым – страхом, ужасом и болью.
Михель отрывает его от меня.
– Говори, alia Krachta [4], были у тебя какие бумаги или нет? – Бур ревёт раненым медведем и бьет, что есть силы, негра в живот.
От удара кафр только кряхтит сильнее прежнего и закатывает глаза.
– Михель! – матерюсь по-русски от души, – ты из него душу выбьешь, а ответа не добьешься! И вообще – что здесь происходит?
– Я этого мерзавца накрыл в краале [5], он там, похоже, на ночь решил устроиться. Ясен же пень, что британский лазутчик! Ни одного местного бюргера не смог назвать по имени. И ведь, ничего при нем, кроме этой палки!
Михель протягивает мне палку.
Посох – не посох. Верчу в руках.








