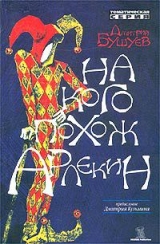
Текст книги "На кого похож арлекин"
Автор книги: Дмитрий Бушуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Сексуальный левша Найтов, сколько же мути и гадости накопилось в твоей душе! Как в этом мутном аквариуме еще дышат экзотические рыбки любви и вдохновения, радужные цихлиды с озера Нъяса, данио-рерио, меланхоличные сомики, полосатые барбусы и другие воплощения твоих чувств? Хранит жемчужину мидия? Жемчужину для Дениса. Есть такая черная, скатная жемчужина под сердцем, как роковой тромб в артерии, это нежнейшая смерть приняла твой образ. Смерть – лунный мальчик в бескозырке, трахнутый в школьном туалете. Нисколько не удивляюсь – твоя дьявольская привлекательность распалит фантазии самого холодного ублюдка. Со мной случалось хуже и чаще, особенно в эпоху дионисического пьянства; даже от стихов, написанных мной в то время, разит красным вином.
Еще год назад, в алкогольном угаре, с нереализованной сексуальной энергией я барахтался в вагоне-ресторане безумного поезда «Москва-Ленинград». Но разве может вынести пытку замкнутого пространства парень, который хочет секса каждые пять минут? Я методично напивался под стук колес, официант в грязном белом фартуке удивлялся моей небывалой толерантности к водке, едва успевая подносить холодные графины, резиновые ромштексы и вялые салаты; казалось, мой рюмочный галоп уже сравнялся с ритмом колес, когда мутными глазами я рассмотрел интересную кавказскую компанию, состоящую из «трех витязей в тигровых шкурах». Витязи пили более красиво, с глупыми парадоксами южных тостов, и один из парней был просто неотразим – лет восемнадцать, черная смородина глаз, голливудская фигура, узкие бедра, иногда смотрит в мою сторону. Я пью уже неспешно, размяк, раскраснелся и пристально изучаю своего витязя. Едва ли не начал мастурбировать под скатерть. Наша перестрелка взглядами как будто участилась, и когда я в четвертый раз стал заказывать двести грамм, мое величество было великодушно приглашено к южному столу. Этого и следовало ожидать. Я вел себя развязно, стрелял блядскими глазами, лез целоваться к восточному принцу. По законам Кавказа такой джигит как я обычно получает кинжал – сначала в задницу, потом под сердце, но со мной поступили более гуманно. О большем я и не мечтал: ночь с тремя настоящими мужчинами, правда, в пассивной моей ипостаси (что случается крайне редко). Мы пили в купе, меня трахали, я сосал и опять пил, потом меня опять трахали – я сажусь на хороший член и подпрыгиваю под стук колес, одновременно засасывая крепкий и теплый хуй. Мне это занятие нравилось. Я безумствовал, просил еще и еще, пока окончательно не заебал своих спутников и не выдоил все их южное семя. Когда они уже засыпали от напитков и изнеможения, я стал будить четвертого их соседа на верхней полке – испуганного мужика средних лет, спрятавшего портфель под подушкой. Этот командировочный отбивался от моих приставаний руками и ногами, бормоча: «В первый раз такое безобразие вижу. Отстань от меня, Христа ради:» Хорошо выебанный, вымокший, пьяный и счастливый, в кровавых трусах я дополз до своего вагона, а под утро упал со второй полки на пластиковый столик, сломав два левых ребра: Нестерпимое солнце на утреннем перроне, головная боль. Я не состоянии сделать ни малейший жест без боли. Кавказский принц кивнул на прощание с презрительной усмешкой. Я мысленно послал его на хуй, сел в такси и доехал до госпиталя: Месяц в гипсовом корсете, зоопарк под окнами, где кованые ограды и бассейн с карликовыми бегемотами. Друг Андрей, к которому я приехал на медовую неделю после знакомства по переписке, навещал меня в госпитале. Мы пили сухое вино в вечернем больничном саду и закусывали кислыми антоновскими яблоками, подслащенными нашими поцелуями. Я писал тогда стихи второй книги, шатался по музеям после выписки и положил три желтых розы на могилу Канта. Кажется, цвели вишни. Трофейный Кенигсберг, трофейное мое время, поиски знаменитой янтарной комнаты в калининградских шахтах. Но истинное сокровище не сокрыть в подземельях, и я тоже искал свою янтарную комнату, полную золотистого света, бабочек и осени, где синие конверты моих неполученных писем лежат на янтарном столе, где не высыхают чернила, а розы всегда свежи, рубины и бриллианты сверкают на их тонких пальцах, где меланхолический «Ролекс» на моем запястье отсчитывает время в обратную сторону и ржавый «Ундервут» отбивает бесконечную повесть о странной любви – то ли садомазохистские этюды первой влюбленности еврейского глазастого юноши в застенчивого гестаповца, то ли о пианисте в горящем Берлине, но это уже другая история: Я ищу свою янтарную комнату и лояльно благодарен арлекинам за то, что много интересного навечно останется в янтаре моего времени.
Нашего времени.
* * *
Ясный, простой ответ пришел незадолго до Нового года – ты совершеннее меня. Ты совершеннее меня! Ты лучше, проще. Ты настоящий, а я искусственный, сделанный, проштампованный, предсказуемый в каждом жесте и запрограммированный. Распрограммируйся, Найтов! Господи, распрограммируй же меня! Денис, я хочу быть с тобой или быть хотя бы твоим совершенным зеркалом. Я хочу раствориться в каждой клеточке твоей ДНК. Ты значительно прекрасен и идеален, я молчу в восхищении, я боюсь твоей чистой красоты, почти нечеловеческой – точнее, настолько человеческой, когда человеческое становится ангельским. Мог ли какой-нибудь новгородский подросток века семнадцатого молиться до семяизвержения, вглядываясь в византийские глаза Божьей Матери? Поэтому мне кажется порой оскорбительным даже дотрагиваться до тебя. Я сотворил культ. Сотворил кумира? Но мой кумир создан по образу и подобию Божьему. Более того, Господь сотворил всех с равными усилиями, но на Дениса Он, без сомнения, потратил немного больше времени – человечек вышел бесподобный: А моя душа? Спрятана в компьютере, как в скворечнике, и иногда я чувствовал себя перед тобой пустой театральной тумбой с многообещающими яркими афишами. Звонкая пустота внутри, которая хранит эхо твоего имени. Эхо имени, только эхо имени в холодной, черной бесконечности и искра моего сознания в музыке любимых звуков: Денис. Может быть, это совсем не худший вариант вечности. Это даже не имя, а безымянная музыка или звуки, закодировавшие другое, настоящее имя: Впрочем, кто же знает имя розы: Детские припухшие губы – лепестки этой розы; речная свежесть, малахит, молодой влажный виноград – зелень глаз твоих, тело маленького олененка, смешная суетливость, заячья улыбка с ямочками на покрасневших щеках. Я люблю тебя.
Импровизированные встречи в бункере участились, мы не могли утолиться друг другом, я слышал только тебя, я жил только тобой. Моя прекрасная самодостаточная замкнутость, рассеянность любви и добровольное заточение в твоем мире притупили мою бдительность, я совсем забыл, что любовь моя «незаконна, богопротивна, грязна и извращена». Как-то очень давно один из сексопатологов посоветовал мне «воспитывать чувства, найти силы преодолеть порок, мужественно посмотреть на мир (!)» – я воспользовался последним советом и мужественно послал на хуй тупого шамана, едва не начавшего копаться в моей душе: Идеально, если бы люди посадили меня с Денисом в золотую клетку с пышным альковом, баловали бы нас, приносили десерты и игрушки, но в какой стране живут такие доброжелатели?
Я люблю предновогодние хлопоты. Мы бродим вечером по городу, рассматриваем витрины. Я купил искусственную пушистую елочку и гирлянду, ты выбирал игрушки – три фиолетовых шара, один розовый и один зеленый, два сердца, паровоз, золотая рыбка, якорь, два позолоченных яблока. Мне нравились эти дубли, так молодой отец покупает близнецам одинаковую одежду. Тут же беру с тебя обещание, что ты поможешь мне наряжать елку, чтобы, по доброй примете, мы не расставались в следующем году. Мы купили механического немецкого Санта-Клауса, у которого было не совсем в порядке с координацией движений; вдобавок ко всему, это дорогое порождение чьей-то больной фантазии безумно вращало глазами, повергая в шок моего кота – кот по-боксерски отбивался от иностранного злого дедушки правой лапой, урчал и поднимал дыбом наэлектризованную шерсть, резко отпрыгивая от игрушки в сторону как польский чертенок. Это было смешно наблюдать, и мы нарочно провоцировали бедного Мура.
Приближалось Рождество. Ветер играл гирляндами над старинным кованым мостом, плыли огни по реке. Щемящая тоска по детству всегда посещает меня накануне нового года – снег пахнет мандаринами, я жду чуда, волшебства, звоню астрологам, гадаю на рунах. А вечером подъезжают к моему дому чудесные роллс-ройсы, выпрыгивают арлекины с бенгальскими огнями, хлопушками, подарками, а за ними – куклы в слегка пожелтевшей парче, скелетон в цилиндре и с сигарой, пират с какаду на плече, еще арлекины, еще хлопушки, какой-то розовощекий толстяк в клетчатом пиджаке и с патефоном, кудрявый юнга в парусиновых шортах, две портовые проститутки с розанами в волосах, мальчик с простреленным виском, еще два мальчика в розовых туниках и с заостренными ушками, стройный гренадер в обгоревшем мундире, Петр Ильич Чайковский со склянкой холеры, старушка с видеокамерой, поэт Кузмин, негритянка в плюмаже, Джайлз Даффи, Мишка Пашков и еще какая-то шушера с визгом и хохотом, с шампанским и водкой, со свистками, трещетками и губными гармошками: Яркий эпизод детства: на школьном новогоднем празднике клоун в белых перчатках посадил третьеклассника Найтова к себе на колени и поцеловал! Ликуя, я подбежал к матери: «Мамочка, мамочка, меня клоун поцеловал!» Но мама брезгливо стерла с моей щеки его губную помаду. Мамин платок был надушен духами «Красная Москва»: Этот странный клоун подарил мне куклу арлекина, сшитую из разноцветных лоскутков, и я с ней долго не расставался, потому что верил, что она приносит мне удачу. Сакральный объект я таскал с собой повсюду, прятал под подушку, брал с собой на университетские экзамены. Сейчас этот арлекин проживает под крышкой пианино, надежно спрятанный от клыков и когтей хищного Мура.
Дух Рождества царил во всем. Дети играли с бенгальскими огнями. Снежинки из фольги на окнах, серпантин в троллейбусе, пахнет шоколадом и мандаринами, свечами и ладаном. Румяные мальчишки кидались крепкими снежками, и я завидовал мальчишескому братству – школьному, семейному или дворовому, я пил и не мог утолиться терпким коктейлем мальчишества. Не могу себе простить, что я был так застенчив в отрочестве и юности – сколько упущенных возможностей! Да мальчишки падали бы к моим ногам спелыми грушами, если бы я не был так приторно скромен и не сидел бы на розовых облаках с ромашками, как мальчик-колокольчик. Колокольчик был у меня между ног. Сейчас это просто колокол, который бьет набат и не дает мне покоя. А что было сексуального в третьекласснике Андрее Найтове с липкими руками и гнойной ваткой в ухе? Он носил круглые очки, от него пахло мочой и молоком: Бледненький, глазастый трупик с криптархизмом, с поразительной жестокостью убивает всех жуков и бабочек на своем пути, топает ножками и сердито грозит голубям, бросает палки в бездомных собак: А иногда – божественный ребенок. Но, сучонок, повесить бы тебя в подвале, предварительно разворотив маленькую задницу. Может быть, я давно уже повесил тебя, малыш, в подвале своего подсознания, где горят синие лампы и кирпичи выкрашены красным, где болтаются на крючьях арлекины и едет по рельсам зубоврачебное кресло с плачущим мальчиком; там так много утлых комнат и ржавых механизмов с колюще-режущими предметами, там развешаны красные знамена, серпы и молоты, пионерские горны: Там голые мальчишки в красных галстуках пристегивают пионерские значки с девизом «Всегда готов!» прямо к воспаленным соскам, там пьяные мясники расчленяют мороженые слоновые туши, там бьют по лицу железными перчатками и пропускают сквозь прямую кишку змею, там хор глазастых отроков поет страшные песни (Боже мой, почему у них такие злые голоса?): Я часто проваливался в это подполье, особенно после классических девяти дней запоя. Запой с погружением. Я не без интереса ходил с фонариком и со связкой ключей в своих подвалах. Детские комплексы? Просто пустота, не заполненная любовью, тут же обживается монстрами. Да, мне не хватало любви. Было много русского солнца и света, но мало любви.
Страшно признаться, но я не люблю своих родителей, а мать просто ненавижу. Мне безумно жаль ее, но удушливые приступы жалости сменяются ненавистью. Она слишком серьезно принимает жизнь, у нее напрочь отсутствует чувство юмора. Она слишком любила меня, и я знаю, как ей было больно, когда я наконец-то перерезал пуповину и стал жить сам по себе, но я еще долго чувствовал ее телепатические приказы вернуться в родительский дом. Нет, спасибо, я знаю, что такое «мамина любовь» и я хорошо знаком со многими престарелыми мальчиками, матери которых превратили их в тряпичных кукол. Юноша, как можно скорее оставь отца и мать не жалея, ибо ничего в этом мире мы не оставляем навсегда, правда? Оставь родителей хотя бы для того, чтобы сохранить с ними добрые отношения. Это просто поразительно, как моя мать манипулировала мной, тайно читала мой дневник и письма, черновики стихов и даже втайне поощряла мой навязчивый онанизм, всегда оставляя на прикроватной тумбочке чистый носовой платок. Сейчас я понимаю, зачем она это делала. Друзья, родные и знакомые вдалбливали: «Береги свою маму, Андрюшенька, она у тебя святой человек». Возможно, иногда и пылал огонь Божий в этом чертовом копыте, но чтобы любить ее, мне прежде всего нужно было быть самим собой, но именно этого она и боялась, привязывая меня к себе ветхими узами. Мне отвратительны жертвенность и надрыв материнской любви, этот духовный инцест с телепатическими приказами доминирующей мамочки. Отстань от меня, мама, отвяжись, я давно уже не твой, спасибо за все, но у меня, в конце концов, должна быть своя жизнь, относительно которой есть у Господа великолепный план. Никакие силы не разрушат программу Найтова, и миссия моя удивительна! Кстати, наши прабабушки подносили своих младенцев к образу Богородицы с клятвой: «Тебе, Владычица, поручаю чада своего». Вот и я присягну Матери Божьей, а не неврастеничной ведьме.
…Ослепительный свет миллиона радуг вспыхивает в чистом небе после дождя, и я вспоминаю всю свою арлекинскую жизнь. И, может быть, закрою лицо ладонями от жгучего стыда. Теплый ветерок повеет, и, упав в осеннюю траву, я почувствую великое сиротство, и земля пахнет живой землей, и живое небо хранит новое небо, и облака свежи и белоснежны как рубашка дирижера. Матерь Божья, прости меня. Ад следовал за мной, я порождал чудовищ, глуша тоску в пьяном буйстве. Материнская любовь начинена астральным ядом – жаль, что я поздно это понял:
Мать иногда приезжала ко мне, неудержимо стареющая, хрупкая, все больше походившая на моложавую старушку. Приступы жалости к ней я принимал за любовь. В последний год своей жизни она зачастила ко мне, сидела на кухне, как-то тягостно молчала, пряча под столом морщинистые руки. Иногда ее дыхание пахло дешевым портвейном. Мы чувствовали вину друг перед другом, но давно уже не были близки и откровенны. Еще подростком я признался ей в своей гомосексуальности, она восприняла это депрессивно и с надрывом и потом долго не могла поверить в это, повторяя: «Будем надеяться, это пройдет, сынок». Мама с дьявольским чутьем отличала моих любовников от просто знакомых, приглашала на дом каких-то анонимных психиатров и сексопатологов, которых я выставлял за дверь, и, если был пьян, устраивал очередной скандал с битьем зеркал и стекол. Несколько раз приезжала неотложка, и я уже привык заглатывать резиновый шланг после передозировки очередного снадобья; несколько раз она вызывала милицию, но сдавать меня в отделение в последний момент категорически отказывалась. Шла домашняя война, и она воевала со мной, не открывала дверь моим мальчикам, не передавала телефонные просьбы о встрече: Последняя картинка: мы идем с ней по осенней аллее, солнце бьет сквозь своды листвы, пятнистые контрастные тени прыгают на белых плитах. Мать по-старушечьи шаркает стоптанными подошвами «удобных» туфель. Я покупал ей много туфель и одежды, но она чудила, предпочитая носить свои серые, какие-то вечные туфли на низком каблуке с подложенными водяными супинаторами, старую черную кофту крупной вязки и клетчатую юбку. Однажды я едва не расплакался, увидев ее в этом одеянии, но разревелся по-настоящему, когда увидел грубо заштопанный на голени чулок. Я в который раз отругал ее за эту странную привязанность к ветхости, но она совершенно не понимала моего негодования, глупо хлопала глазами и поджимала высохшие губы: Мы шли по солнечной осенней аллее, я куда-то торопился и едва сдерживал раздражение медлительностью маминой походки. Она семенила, шаркала, не поспевала за мной и виновато улыбалась, точно говоря: «Ну прости меня, сынок, ну не могу я быстрее». Она всю жизнь виновато улыбалась и не поспевала. Почему-то запомнился этот эпизод. Прости меня, мама, я был самым неблагодарным сыном на земле. У Рафика, кстати, были похожие проблемы в отношениях с матерью, но об этом я расскажу позднее.
Порой я проецировал образ своей матери на маму Дениса, уже заочно проникаясь жалостью к овдовевшей и, как мне почему-то казалось, диковатой женщине. Это были компенсированные чувства, ведь моя покойница явно недополучала проявлений сыновьей любви в этой жизни. И в один из дней мне пришлось познакомиться с моей второй змеей – это произошло не по моей внутренней потребности (которая, впрочем, присутствовала, но была слишком неприхотлива). Призрак цветущей красавицы в чем-то воздушном, как с полотна Рокотова, посетил меня. Но только призрак. Если бы я был так же напичкан транквилизаторами, как и эта хрупкая Незнакомка, я обязательно принял бы ее за Прекрасную Даму, дышащую духами и туманами. Дигидролизованный кодеин, который она стала принимать после смерти мужа, делал ее безэмоциональной, заторможенной механической куклой. Сверкая фальшивыми бриллиантами в ушах, она вплыла в мой кабинет литературы, и портреты русских классиков как-то помрачнели. Грозовые тучи нависли надо мной, и когда она вымолвила: «Здравствуйте, я мама Дениса Белкина,» – я готов был провалиться в гиену огненную и схватился за край учительского стола как за абстрактный поплавок. Она внимательно посмотрела в мои собачьи глаза. Я как будто все понял и закрыл лицо ладонями. Она нервно крутила колечко с топазом на безымянном пальце, и я понял, что мне пришел полный, окончательный, огромный, скандальный, такой долгожданный и законный ПИЗДЕЦ. Я, кажется, даже прошептал беззвучно побледневшими губами: «Ну все, сдаюсь. Пиздец». Был такой мальчик. Созвездие – Аквариус, возраст – четырнадцать. Страшной, роковой красоты мальчишка. Очень русский, очень живой. И еще, товарищ сержант, мой звереныш был фантастически чувственен: Я смотрел на ее покрасневшие обветренные руки, которые мне вдруг захотелось целовать, просить прощения и благодарить за великолепного сына, за мою самую грустную радость на свете, за звездную бездну, отразившуюся во мне. Казалось, за спиной уже просквозил ангел Возмездия, и я внутренне был готов к самому экспрессивному проявлению материнской ревности и негодования, когда арлекинский инстинкт подсказал, что что-то не то в этой ситуации, что от нее льется свет любви и добра, а не злобы и ненависти. Кодеиновая вдова оттаяла на мгновение, и белоснежный голубь мира с оливковой ветвью пролетел между нами, когда она тихо произнесла: «Я пришла поблагодарить вас, Андрей Владимирович». Она смущенно улыбнулась. Фальшивые алмазы задрожали. Но я смутился еще больше, содрогнувшись и все еще не веря своим ушам. «Андрей Владимирович, мне вас просто Господь послал, – она замолчала на секунду. – Вот уже скоро год, как умер мой муж. Мальчик был так привязан к отцу, так тяжело это переживает, несмотря на помощь психотерапевта: Вначале был просто тихий. Беспросветный ужас и горечь. И слезы и проблемы, проблемы: Я ходила как призрак, и денег только-только на жизнь: Хотя, по правде сказать, жизнь-то давно уже закончилась, началось выживание: Но Денис: Денис как-то заново родился после встречи с вами, ожил. Вы просто его кумир, только о вас и говорит. Оценки, смотрю, лучше стали: И вообще, он как-то повзрослел в последнее время, странно так повзрослел. Пусть это и глупо звучит, но вы словно отца ему заменили: Собственно, я пришла с дерзновенной, может быть, просьбой, но, пожалуйста, Андрей Владимирович, не обходите Дениса своим вниманием, я так вам благодарна, так благодарна:»
Наверное, все низшие миры услышали музыку моего ликования, и арлекины затанцевали на учительском столе, что из поплавка превратился в пьедестал. Непредвиденны замысловатые сюжеты моего фатума, и если бы я был участковым врачом своей милейшей наркоманки, то подарил бы ей гигантский флакон кодеина с розовым бантиком и похоронным венком. Зеленый свет, Найтов! Я уже забронировал все уикенды с Денисом на несколько лет вперед, заказал все мороженое, все теннисные мячи и бассейны, все конфеты и хлопушки, все фильмы: А может быть, мне стоит жениться на вдове и усыновить Дениса?.. Когда я рассказал об этой сумасшедшей идее бельчонку, прибежавшему ко мне в тот же вечер, он расхохотался, запрыгнул ко мне на колени, обнял и прошептал на ухо: «Не теряй времени, папаша!»
Мы не теряли времени, но время теряло нас. Время застывало как смола, и люди были его пленниками. Мы как будто ускользали от этого терпкого клея, медленно текущего по нашим следам, мы бежали вперед не оглядываясь: Сейчас, по прошествии нескольких лет, я хожу как иностранец в музее янтарных кубов, забальзамировавших моих знакомых. Вот Алиса в траурном платье с кельтской тяжелой брошью (экспонат иллюминирован синей галогеновой лампой), вот милая Гелка с фингалом, в моих джинсах и рубашке, завязанной на животе и едва прикрывающей детские груди (экспонат после реставрации, иллюминирован красным), а вот футболист Егор в боксерских трусах, с желтой кувшинкой в руке; танцор Эдик в костюме Ромео, отец Арсений с грустными-прегрустными глазами, нейрохирург Бертенев с цепью и наручниками, в строительной каске почему-то; а это очарованный Бертик с оранжевым ирокезом и в круглых очках Джона Леннона; справа мой мэтр Юрий Левитанский с вересовской трубкой и в своей знаменитой потертой кожанке (простите за эту компанию, Юрий Давыдович); Рафик великолепен, с ижевской двустволкой наперевес, в рваных джинсах; и мама моя в несуразных туфлях, маленькая, согбенная, извиняющаяся (прости меня, мама); породистый Карен и другие обитатели зоопарка. И много-много еще янтарных глыб в длинных осенних галереях, подсвеченных тем волжским пожаром. Веселые арлекины скользят на роликовых досках по вощеному паркету, стараясь маневрировать и не сбивать расставленные на полу узкие бокалы с шампанским. Какая странная геометрия. Жаль только, что фотографировать запрещено.
* * *
Твои поцелуи улетели капустницами-бабочками к монастырским развалинам, к сгоревшим русским усадьбам, к отсыревшим заборам и тополям с горелыми скворечниками, к двум русским гимназистам, целующимся в беседке чердынцевского поместья. А от созвездия Либра до созвездия Аквариус миллионы световых лет. Бог даст, когда-нибудь свидимся.
Твое время стало моим, и стоит перед глазами мальчик с портфелем в новогодней пурге. Мы возвращаемся домой со свертками и коробками. Ты с мороза, раскрасневшийся, пьешь горячий чай с жасмином, смеешься над моими глупыми шутками, потом долго роешься в коллекции лазерных дисков и выбираешь Элтона Джона. Целую тебя. Целую тебя. Целую. Ты виснешь у меня на шее; я помогаю тебе снять свитер и замечаю напрягшийся член. Долго путаюсь с ремнем – и наконец вот оно, мое маленькое сокровище. Твой нежнейший горячий член почти умещается в моей вспотевшей ладони.
Граница ада и рая проходит через спальню. Ад и рай смешались в моей громокипящей спальне, и после оргазма мы падаем с небес на камни, только что изгнанные из райских кущ по следам прародителей. Падшие ангелы. В тебе есть красота врубелевского демона. Даже в моем сознании твой образ появляется на лиловом фоне. Я хотел обладать не только твоим телом, но, более всего, душой. Люблю именно душу твою. Какой скитающийся и забытый дух выбрал это совершенное тело, или какому заблудшему духу было оно даровано? Поистине величайший дар. Скажи мне, кто ты? Почему меня не покидает чувство, что я уже когда-то читал наш сценарий? Устойчивые де-жа-вю. Я знаю тебя так близко, что ближе быть не может, но что-то самое главное, мимолетное ускользает от меня, душа твоя все равно где-то в неприступном свете. Да и что я могу знать, маленький человек в оковах страстей? Точнее, кое-что я как будто знаю, но слова (опять!) – слишком грубый материал. Сердце знает.
Судьбы людские пересекаются по своим законам, и случайных встреч не бывает. Сейчас, подводя итоги одного из жизненных этапов, я понял с фантастической ясностью, что мы рано или поздно материализуем образ своего принца, отпечатанный в подсознании. Несомненно и то, что одинокий человек более воплощен, самодостаточен или, как сказал один поэт, – «одиночество есть человек в квадрате». В этом секрет одного из самых загадочных свойств русской души – потаенной, неосознанной тяги к отшельничеству, хотя этот нереализованный порыв иногда выливается в разные формы юродства. Европейское одиночество – немного другое явление. Господь дает Друга слабым людям, чтобы стали единой плотью, чтобы не скучали в этой жизни и не пускались во все тяжкие. Но я вызвал твой образ из таких глубин своей вселенной, что мир тесен для нас, Денис. Теперь я в ответе за прирученного зверя, но каким волшебным зонтиком мне закрыть тебя от дождей и града жестокого мира? Ты пока еще, слава Богу, в радужной оболочке детства, и солнце там у тебя ярче светит, и музыки больше, и все ново и свежо. Как мне, с замыленными мозгами, вернуть эту свежесть восприятия?
…Вспоминая русское Рождество, у меня кружится голова. Серпантин и кожура мандаринов на снегу, гирлянды и звезды, полумесяцы твоей улыбки. Чудный младенец еще не родился, но мудрецы, волхвы и пастухи уже трепетно идут за вифлеемской звездой, несут подарки. Но у меня нет ни золота, ни ладана, ни смирны. Но что имею, то даю тебе. Мои арлекины накидывают плащи со звездами, зажигают свечи и прикрывают их ладонями от ветра, бредут в молчании по ночному городу. И сердце мое – колокольчик, подвешенный на длинной цепочке к рогатому месяцу.
Месяц особенно золотой в эти дни, точно и его начистили до блеска перед праздником. Снег теплый, и снежинки смешались с шампанским, цены на которое перед новогодьем резко подскочили. Покой перед Рождеством обманчив, и нечисть справляет последние свадьбы в снежных вихрях на дорогах. Тишина стала другой, тишина напряженна, тревожна. Может, мало осталось до кончины мира? Вокруг так много тайных знаков, но мы не умеем их читать. В окнах – мерцание цветных огней, и за каждой шторой такой маленький и такой огромный мир. Я люблю заглядывать в окна, точно за алтарь – как там живут человечки? Меня преследует запах шоколада и апельсинов. Я уверен, что этого запаха нет вокруг, но он плывет из моего детства, из мешка со звездами, повешенного мне ночью у изголовья. Мальчик Андрей в цветном шарфе, связанным на Рождество тетушкой Элизабет, с замиранием сердца огромными глазами смотрит в золотую полутьму собора, хлопает своими пушистыми ресницами: совершается Таинство, батюшка разрумянился от вдохновенного волнения. Волна теплой благодарности, и свечи загорелись ярче, и колокола сошли с ума от собственного звона: Это было, было. Это был такой русский сон. Растратил я ту благодать, и вот стою сейчас напротив зеркала – увядший, опустошенный, обкраденный. И смотрит на меня пустое одиночество пустыми глазами.
* * *
Коварный Найтов не замедлил воспользоваться доверительной просьбой кодеиновой вдовы не прекращать пестовать бельчонка. Я давно уже замыслил выкрасть тебя из маминых когтей к себе на Рождество. Все вышло самым чудесным образом, и я опять пел под утренним душем партию Мефистофеля. Затрудняюсь определить, какие силы споспешествовали мне и чем я обязан столь чудесному сверхпровидению, но вдову госпитализировали накануне праздника с неутешительным диагнозом: цирроз печени.
Алкоголь знает свою цель, а у меня появился еще один повод прославлять роль русской водки в своей жизни. Твоя мама сама позвонила мне на работу и сбивчиво просила кодеиновым голосом: «Мальчик сошел с ума, совсем не хочет лететь к тете в Кисловодск на рождественские каникулы, просится провести это время с вами. Я не знаю, что делать, Андрей Владимирович. Но ведь у вас, как я понимаю, свои планы, свои заботы: Но я была бы вам бесконечно благодарна: У нас еще с деньгами проблемы, конечно:» Я не дал ей закончить и перебил с нарочитым равнодушием: «Ничего, ко мне как раз приезжает племянник, ровесник Дениса, им вдвоем будет интересно, и вашего я тоже могу заодно пасти, тем более, что в школе есть программа для наших балбесов – театры, дискотеки: Пожалуйста, не беспокойтесь о деньгах, потом рассчитаемся. Я буду продолжать:» Боже, что я плел?! Что за околесица?! Какой еще племянник? Но это арлекин шептал мне на ухо, а я только повторял его тихий бред. В этот же вечер я навестил осиротевшую семью. Денис выглядел опустошенным, хотя и просиял при моем появлении. У матери заплаканные глаза, бигуди на голове, которые она стала судорожно срывать перед зеркалом. На полу – разорванные пятидесятирублевые купюры. Мать сказала: «Вот, полюбуйтесь, что наделал мой сыночек: Разорвал деньги, которые я дала ему на каникулы. Ему, Андрей Владимирович, показалось, что я дала ему слишком мало. А больше у меня просто нет: Почему он требует у меня то, чего я дать ему просто не в состоянии? Ты слышишь? – она прокричала вслед Денису, захлопнувшему с грохотом дверь своей комнаты. – Я не в состоянии дать тебе больше! Я больна, я мало зарабатываю, папа у нас был тоже не Ротшильд, ты знаешь сам:»
Она расплакалась и, держась за печень, прошлепала на кухню. Закурила. Денис не показывался из своей норы, а мы пили на кухне ужасный растворимый кофе – дешевый суррогат с овсом и цикорием, который мой отец называл «лошадиный напиток». Она продолжала: «Он совсем стал неуправляем за последние два дня. Приставил замок на двери в свою комнату, будто я чужая. Я понимаю, что начался переходный возраст, но все-таки: С ужасом думаю, что дальше будет. Я вижу, что у его сверстников и эти видеоигры, и велосипеды, не говоря уж об одежде. Он у меня скромно одет, я вижу, я все понимаю, мой сын недополучает многого, и стыдно мне, – она опять расплакалась, – но что я могу сделать? Господи, что? У меня тоже нет многого, и я уже не женщина, а пугало огородное – Вы посмотрите на меня:» Мне было нестерпимо больно и неловко. Я бросился утешать ее, я бормотал: «Я знаю этот возраст, когда птенцы еще шире раскрывают клювы. Это не лучшие проявления, но ведь они хотят быть первыми во всем, им еще плохо знакома иерархия взрослого мира. Сволочного, надо заметить, мира. Особенно сейчас:» Я наговорил еще много чепухи. Мне было не по себе. Никогда не предполагал, что Денис может капризничать и протестовать в такой форме. Я до сих пор не знал Дениса, и если бы я был тогда богат, то подписал бы, не раздумывая, чек на круглую сумму для шлифовки достоинства. Что говорить, я тоже молод, мне тоже чертовски нужны деньги. Много денег. Когда-нибудь я куплю себе саксофон, выйду на отвесную скалу и начну играть свое одиночество для Бога, среди горящих комет и блуждающих звезд. Да и не сам ли я звезда блуждающая? Снова приходит эта странная мелодия – «Не плачь по мне Аргентина». Какие падшие ангелы любят слушать эти обрывающиеся на полуслове цитаты? Мои чувства тоже превращаются в музыку, но кто-то мгновенно крадет ее, а я уже бессилен записать и воспроизвести: Сколько еще бессонных европейских ночей я проведу в бессознательных поисках забытой мелодии, не находя себе места ни в шумных ночных клубах, ни в мистической отстраненности британского Гластонбари.








