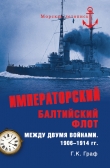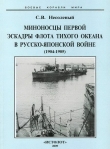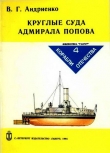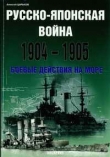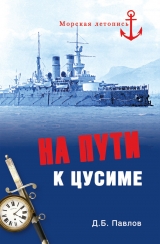
Текст книги "На пути к Цусиме"
Автор книги: Дмитрий Павлов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В том же мае 1904 г. российский вице–консул в британском Кардиффе Фуругельм со слов капитана парохода «Kalfond» донес о попытке некоего японца, «говорящего на нескольких европейских языках, по–видимому, офицера», под видом простого матроса попасть в Кронштадт, куда отплывал этот норвежский угольщик (норвежский капитан отказался брать японца на борт)[43] 43
АВПРИ. Ф. 184 (Посольство в Лондоне). Оп. 520. Д. 1127. Л. 49. – Письмо вице–консула в Кардиффе Фуругельма в российское посольство в Лондоне. Кардифф, 7(20) мая 1904 г. № 37.
[Закрыть]. Попытки японцев проникнуть в российские военные порты для проведения диверсий немного раньше получили подтверждение и на другом конце Европы – в Мадриде. Изабелла II, 74–летняя испанская вдовствующая королева–мать, в присутствии сына, Альфонсо XIII, просила российского посла тайного советника Д. Е. Шевича передать Николаю II, что, по сведениям ее источника, «в достоверности коего ее величеству не раз приходилось убеждаться», «в Кронштадтском порте есть подкупленные японцами изменники, коим поручено разрушить пожаром и взрывами находящиеся в порте военные сооружения и боевые суда»[44] 44
РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3015. Л. 354–354 об., 403.
[Закрыть].
В начале июля 1904 г. Дессино и Головизнин порознь телеграфировали из Китая о планах японцев послать в Красное море для «перехвата наших добровольцев» (т. е. Транспортных судов Добровольного флота) крейсера в сопровождении двух пароходов с углем, а несколько недель спустя консул в Джедде и агент в Александрии почти одновременно и также независимо друг от друга сообщили, что в Красное море действительно «пришел японский бронированный крейсер с двумя другими судами»[45] 45
РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3015. Л. 379, 380, 396, 452.
[Закрыть].
Все эти и множество других аналогичных сообщений поступали в Главный морской штаб непосредственно либо через МИД и военное ведомство, но так или иначе ложились на стол адмирала Рожественского. Летом 1904 г. офицеры Главного морского штаба собрали эти депеши в особую сверхсекретную папку, которую назвали «Собранием копий донесений относительно намерений японцев». В деталях полученные предостережения могли не совпадать, а некоторые при последующей проверке вообще оказались ложными. Еще больше ситуацию запутывало то, что в конце 1903 – начале 1904 гг. Япония направила в Западную Европу несколько групп своих морских офицеров для комплектования экипажей купленных там ею военных судов для их последующей переправки на Дальний Восток. Однако в целом угроза, нависшая над 2–й эскадрой, выглядела вполне реальной, и в этом отношении вырисовывалась убедительная и тревожная картина, игнорировать которую было бы преступлением.
Угроза, нависшая над 2–й эскадрой (особенно над ее балтийской частью), выглядела настолько серьезной, что в августе – сентябре 1904 г. Морское министерство прорабатывало план создания вспомогательной «охранной» эскадры в 39 вымпелов (1 эскадренный броненосец, 3 броненосца береговой обороны, 9 крейсеров разных классов и т. д.) для сопровождения кораблей Рожественского из Кронштадта в либавский «порт Александра III». По мысли инициатора замысла, главного командира Балтийского флота вице–адмирала А. А. Бирилева, эскортируя охраняемый отряд спереди и с боков, охранная эскадра должна была «принять на себя покушение, если бы таковое состоялось». Стоимость всего этого предприятия Бирилев оценил в астрономическую сумму в 1 млн рублей. Морской министр доложил план Николаю II, и император его одобрил. Однако в середине сентября 1904 г. генерал– адмирал великий князь Алексей Александрович из соображений экономии приказал ограничить задачу вспомогательной эскадры охраной броненосцев Рожественского в Либавском порту при одновременном уменьшении отряда Бирилева до семи вымпелов[46] 46
РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3103. Л. 30–83. – Переписка по вопросу об охране эскадры Рожественского в Балтийском море. Август– сентябрь 1904 г.
[Закрыть].
С осени 1904 г. предостережения русских военных и гражданских дипломатов стали получать подтверждение и из японских источников. Через подкупленного канцелярского служащего японского посольства в Гааге петербургский Департамент полиции получил черновики и копии нескольких секретных депеш, которые тамошний японский посланник Митцухаси во второй половине сентября 1904 г., т. е. Накануне выхода эскадры Рожественского в море, направил своему министру иностранных дел Комура Дзютаро, японскому военно–морскому атташе во Франции Хисаматцу и посланнику в Бельгии Сенжитцу. «Прошу употребить все способы, – писал Митцухаси в Париж, – которые могли бы воспрепятствовать ходу эскадры. Всевозможные препятствия должны быть поставлены на пути, несмотря на риск жизнью наших служащих. Не обращая внимания ни на какую цену, средство может и должно быть доставлено и ничто я не считаю слишком дорогим. […] С эскадрой идут несколько меньших судов с необходимыми припасами, которые также должны быть уничтожены, но главное внимание должно сосредоточить на эскадре. Там, я уверен, 6 броненосцев, коим и должны быть поставлены главные препятствия. Обдумайте способ постановки мин на пути, причем это нужно сделать с возможной конспиративностью»[47] 47
ГА РФ. Ф. 102 ДП ОО. Оп. 316. 1904 (II). Д. 1. Л. 322322 об.
[Закрыть].
«Мы имеем людей, – неделей раньше извещал Митцухаси Токио, – расположенных в разных местах, которые должны нам сообщать о всех движениях и по возможности препятствовать им. В официальных кругах говорят, что эскадра, которая должна идти на выручку, выйдет в море в этом месяце; поэтому мы приняли все меры, чтобы помешать этому. Конечно, Ваше превосходительство понимаете, что мы должны быть очень осторожны, чтобы не возбудить подозрений неприятеля и других наций»[48] 48
ГА РФ. Ф. 102 ДП ОО. Оп. 316. 1904 (II). Д. 1. Ч. 3. Л. 239–239 об.
[Закрыть]. «Есть слух, – писал Митцухаси в тот же день своему коллеге в Брюссель, – что 29 судов будут сопровождать флот, чтобы снабжать его углем и продовольствием; конечно, мы будем следить за ними [...] Есть большое сомнение, что плавание пройдет гладко, и мы надеемся, что недостатка в препятствиях не будет»[49] 49
ГА РФ. Ф. 102 ДП ОО. Оп. 316. 1904 (II). Д. 1. Ч. 3. Л. 269.Советский историк Н. В. Новиков, процитировав некоторые из этих писем, без колебаний объявил их «сфабрикованными Гартингом и его агентурой фальшивками» (Новиков Н. В. Гулльский инцидент и царская охранка // Морской сборник. 1935. № 6. С. 102). На самом деле эти документы были добыты в японских западноевропейских миссиях И. Ф. Манасевичем– Мануйловым (частью его собственной агентурой, частью получены им от французов). Что же касается А. М. Гартинга, то, ознакомившись с некоторыми из этих материалов, он предположил, что они «апокрифичны», другими словами, выразил сомнение в их подлинности. Чем было вызвано такое недоверие к информации Мануйлова, читатель узнает позднее. Здесь же уместно обратить внимание на приемы и методы работы с источниками, принятые в советской историографии, при том, что Н. В. Новиков – один из наиболее осведомленных и добросовестных советских специалистов по интересующей нас теме.
[Закрыть].
В похожем смысле о перспективах эскадры Рожественского отзывались и в японском генеральном консульстве в Шанхае. В середине ноября 1904 г. Павлов со ссылкой на своего секретного осведомителя в этом консульстве телеграфировал в МИД: «Японское правительство особенно опасается, что наша 2–я Тихоокеанская эскадра могла бы атаковать Формозу и Пескадорские острова, воспользоваться этими пунктами как базой для дальнейших операций. Японское правительство будто бы еще не теряет надежду, что благодаря принятым секретным мерам нашему флоту вовсе не удастся дойти до Формозы»[50] 50
АВПРИ. Ф. 143 (Китайский стол). Оп. 491. Д. 2980. Л. 139. – Телеграмма Павлова в МИД. Шанхай, 12 ноября 1904 г. № 718.
[Закрыть]. Чуть раньше, в конце октября, Павлов получил такого же рода сведения и непосредственно из Японии. Самый осведомленный из всех российских тайных агентов, работавших там, ссылаясь на секретные японские источники, «положительно подтверждал факт отправки за последние месяцы в Европу, в Красное море и на мыс Доброй Надежды весьма большого числа морских офицеров и нижних чинов с расчетом предпринять ряд тайных нападений на нашу эскадру»[51] 51
АВПРИ. Ф. 143 (Китайский стол). Оп. 491. Д. 2979. Л. 11–11 об. – Телеграмма Павлова в главную квартиру наместника в Мукден и в МИД. Шанхай, 24 октября 1904 г. № 662.
[Закрыть]. Этим тайным осведомителем Павлова был француз Жан Бале (Jean С. Balet), корреспондент парижских газет «L’Illustration» и «Figaro».
Такой сценарий похода эскадры Рожественского рассматривали как вероятный и западноевропейские наблюдатели. 13 октября 1904 г. нового стиля, т. е. За день до выхода русской эскадры в море, германский посол в Великобритании П. Меттерних телеграфировал в Берлин: «Из достоверных источников мне было сообщено, что в случае выхода русского Балтийского флота в Зунде или Каттегате будут поставлены японскими агентами мины»[52] 52
Цит. по: Могилевич А., Айрапетян М. Легенда и правда о «гулльском инциденте» 1904 г. // Исторический журнал. 1940. № 6. С. 45.
[Закрыть]. Как водится, не обошлось и без слухов, которые постепенно обрастали фантастичными подробностями. Летом 1904 г. в морских кругах Западной Европы упорно ходили разговоры о каком‑то враждебном России «акте, задуманном англичанами». Офицеры австрийской канонерской лодки «Таурус», которая прибыла в Севастополь из Стамбула в конце июня, рассказывали, что англичане‑де «готовят в Ла– Манше личный состав подводных лодок, обучая японцев управлению этими лодками. К моменту выхода русской эскадры из Кронштадта весь личный состав лодок, действующих в Ла–Манше, должен состоять уже из одних японцев, а самые лодки должны быть уступлены японскому правительству»[53] 53
Россия и Япония на заре XX столетия. Аналитические материалы отечественной военной ориенталистики / Под ред. В. А. Золотарева. М., 1994. С. 526.
[Закрыть]. На поверку все это оказалось вымыслом.
К слову сказать, призрак подводных лодок преследовал военных моряков обеих конфликтующих сторон на протяжении всей войны. Как японские, так и многие русские военно–морские специалисты были убеждены, что, например, броненосцы «Петропавловск» и «Хацуза» не подорвались на минах, как было в действительности, а стали жертвами нападения субмарин противника. Весной 1904 г. в печати появились многочисленные сообщения о «блестящих результатах», которые дали опыты в Порт–Артуре с русскими подводными лодками, якобы совершенно «готовыми для активных целей»[54] 54
Новое время. 1904. 14(27) апреля. № 10098. С. 2.
[Закрыть]. Напуганная этими сообщениями, японская пресса вспомнила, что в 1899 г. на международной конференции мира в Гааге официальные представители России заявили о «несовместимости использования субмарин с принципами, принятыми среди цивилизованных наций» и «предложили запретить не только их использование, но и постройку» (материалы на этот счет публиковались в повременной печати под рубрикой «Коварство московитов»[55] 55
The Japan Times. 1904. March 19. № 2117. P. 6. Перепечатка из газеты «Nichi‑Nichi».
[Закрыть]).
Поскольку японцы, также, кстати, подписавшие Гаагские международные конвенции, сами активно, хотя и тайно, начали строить свой подводный флот, возможно, в большей степени это была упреждающая пропагандистская акция. От русской разведки не укрылись факты покупок ими подводных лодок в Америке; ей также удалось проследить пути доставки этих судов на Дальний Восток, установить места их сборки в самой Японии (они перевозились в разобранном виде), выяснить их вооружение и технические характеристики, ход испытаний и многие другие подробности (заводы– изготовители, фирмы–перевозчики, обслуживающий персонал и т. д.)[56] 56
Это не помешало японскому военно–морскому атташе в Лондоне М. Кобураги в апреле 1904 г. во всеуслышание заявить, будто «в японском флоте нет подводных лодок» и морское ведомство его страны «придает главнейшее значение» не им, а «автоматическим минам». – Цит. по: Киевлянин. 1904. 10(23) апреля. № 99.
[Закрыть]. В России опасения относительно японского подводного флота несколько утихли только в марте 1905 г., когда тот же француз Бале, который имел надежные источники информации в японских военно-морских кругах, сообщил, что опыты японцев с подводными лодками «не привели к удовлетворительным результатам и ни одна из этих лодок не готова к действию»[57] 57
АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2980. Л. 46 об. – Шифрованная телеграмма Павлова главнокомандующему в Гунжулин. Шанхай, 19 марта 1905 г.
[Закрыть]. В общем, ни у России, ни у Японии боевого применения тогдашние тихоходные, маленькие, слабо вооруженные и вообще весьма технически несовершенные субмарины так и не нашли.
Еще во второй половине 1904 г. в Петербург стали приходить сообщения, из которых следовало, будто Япония готовит какие‑то крупномасштабные акции и в других местах, мимо которых могла проследовать русская эскадра – например, на африканском побережье. В конце июля 1904 г. японский посланник в Гааге писал: «Нам сообщают, что в Трансваале заметно брожение. Если таковое не будет успокоено, то мы не можем рассчитывать на помощь буров»[58] 58
ГА РФ. Ф. 102 ДП ОО. Оп. 316. 1904 (II). Д. 1. Ч. 2. Л. 171. – Перевод полученной агентурным путем записки из японской миссии в Гааге.
[Закрыть]. В августе 1904 г. российский консул в Гонконге Бологовский сумел добыть и представить фотографию одного из японских минных офицеров (поручика Стурамотца), тайно переброшенного в Южную Африку через Гонконг[59] 59
АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2979. Л. 76.
[Закрыть]. В январе 1905 г., ссылаясь на сведения французского Министерства колоний, директор Департамента полиции Лопухин сообщил адмиралу Вирениусу, что «в водах Мозамбика замечены японские миноноски, а также замечено присутствие многих японских агентов, стремящихся поднять восстание на Мадагаскаре против Франции»[60] 60
РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3016. Л. 183.
[Закрыть]. Этим сообщениям, однако, в Петербурге не придали серьезного значения, да и стратегия контрразведывательных операций к тому времени в значительной степени была уже выработана. Их главными направлениями стали охрана эскадры Рожественского в местах основного базирования, а также в наиболее уязвимых пунктах на пути следования – в балтийских и черноморских проливах, в Суэцком канале, Красном море, а затем и в Батавии, как тогда именовали голландскую Индонезию.
Еще в феврале–марте 1904 г. Морское министерство разработало программу мероприятий по охране российских военных и коммерческих портов в Черном и Балтийском морях. 23–27 февраля в Главном морском штабе под председательством Рожественского состоялись специальные совещания по этому поводу с командирами Балтийских портов – «порта императора Александра III» (в Либаве), Свеаборга, Кронштадта, Ревеля, начальниками коммерческих портов в Ревеле, Риге, Петербурге, Виндаве и др.[61] 61
Протоколы этих совещаний см.: РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3103. Л. 215.
[Закрыть] В конце апреля – начале мая 1904 г. Департамент полиции «в помощь адмиралу Рожественскому» учредил в Петербурге небольшой филерский отряд для наблюдения за иностранными военно–морскими атташе, который в июле вошел в состав Отделения по розыску о международном шпионстве, созданного тем же Департаментом во главе с титулярным советником И. Ф. Манасевичем–Мануйловым.
25 мая 1904 г. Рожественский писал своему помощнику по Главному морскому штабу контр-адмиралу А. А. Вирениусу: «По поводу сообщений Павлова и Десино следует, мне кажется, принять серьезные меры.
1) Прежде всего предупредить наши суда в Средиземном море, чтоб не зевали и держали себя везде [...] на военном положении, не упуская сторожевой службы, заряжения орудий на ночь и должной бдительности как ночью, так и днем.
2) Сообщить Чухнину и Бирилеву, что настало время принимать соответствующие меры во всех портах Черного и Балтийского морей и повышать постепенно настороженность по мере приближения отхода эскадры». Далее адмирал предлагал «разбудить» российские консульства и посольства, а главное – обратиться в Департамент полиции, «чтобы на счет Морского министерства командировал тайных агентов [...] для исследования шведских и норвежских шхер и мелких портов, а также местности по Бельтам и Зунду»[62] 62
РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3017. Л. 77–78.
[Закрыть].
Эта программа Рожественского в Морском министерстве была принята, и именно оно выступило инициатором всех перечисленных мероприятий, взяв на себя и их финансирование. В начале июня 1904 г. соответствующие указания из Петербурга получили главный командир Балтийского флота и начальник морской обороны Балтийского побережья вице–адмирал А. А. Бирилев[63] 63
РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3103. Л. 15. – Отношение контр–адмирала А. А. Вирениуса к вице–адмиралу А. А. Бирилеву. С. – Петербург, 10 июня 1904 г. № 2787.
[Закрыть] и его коллега на Черном море вице–адмирал Г. П. Чухнин. В результате порты были надежно защищены и каких‑либо серьезных инцидентов с участием иностранных диверсантов за все время войны там не произошло. Это подтвердила и негласная проверка охраны главной базы Черноморского флота, предпринятая в июле 1904 г. жандармским подполковником В. В. Тржецяком. «В Севастополе моряки приняли достаточные меры предосторожности, – докладывал он в Департамент полиции, – подосланные мною люди в район порта проникнуть не могли, причем их чуть не побили»[64] 64
ГА РФ. Ф. 102 ДП ОО. Оп. 316. 1904 (II). Д. 12. Л. 21 об.
[Закрыть]. О том, что военные корабли в Николаеве и Севастополе тщательно охраняются днем и ночью, сообщала и зарубежная печать[65] 65
См.: The New York Times. 1904. June 10. № 16984. P. 1.
[Закрыть].
В середине июня 1904 г. Главный морской штаб отправил в МИД своего офицера – «будить» российских дипломатов. Состоявшаяся беседа представителя флота с вице–директором I‑ro (бывшего Азиатского) департамента Министерства лишь подтвердила, что у внешнеполитического ведомства решительно нет ни людей, ни кредитов для организации проектируемой охранно–наблюдательной службы, где бы то ни было, почему, по мнению руководства МИДа, «такая желательная Морскому министерству организация могла бы быть осуществлена лишь при участии МВД». Со своей стороны, в здании у Певческого моста (МИДе) ограничились твердым обещанием направить в Египет М. М. Геденштрома для слежки «за прибывающими японцами и их дальнейшими действиями». В помощь этому своему бывшему консулу в японском Хакодатэ МИД отряжал некоего сына владивостокского торговца, отлично, как и Геденштром, знавшего японский язык и имевшего «большую опытность в сношениях с японцами»[66] 66
РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3018. Л. 22–23. – Доклад помощника начальника Главного морского штаба контр–адмирала А. А. Вирениуса управляющему Морским министерством. 14 июня 1904 г.
[Закрыть]. Но обещанного МИДом было явно недостаточно.
Инертность внешнеполитического ведомства переломило «высочайшее» указание «принять быстрые и энергичные меры» для организации сети тайных наблюдательных агентов в Швеции, Дании, Турции и Египте[67] 67
РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3018. Л. 22 об.
[Закрыть]. В первых числах июля министр граф В. Н. Ламздорф приказал российскому послу в Берлине информировать правительство Германии «о возможном прибытии в один из германских портов партии японцев для подготовления покушения на суда [...] 2–й эскадры», выразив при этом уверенность, что Германия не допустит подобного на своей территории[68] 68
РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3015. Л. 450. – Срочное и весьма секретное письмо министра иностранных дел графа В. Н. Ламздорфа управляющему Морским министерством вице-адмиралу Ф. К. Авелану. С. – Петербург, 16 июля 1904 г. № 1220.
[Закрыть]. Одновременно, по указаниям МИДа, российскими миссиями в Египте и Турции было организовано секретное наблюдение за появлением японских судов в Адене и Порт–Саиде. Послам в Копенгагене и Стокгольме, генеральному консулу в Лондоне и консулам на Востоке граф Ламздорф предписал бдительно следить за передвижениями японских офицеров[69] 69
АВПРИ. Ф. 150 (Японский стол). Оп. 493. Д. 265. Л. 13–14 об. 15–22. – Донесение посла в Швеции Е. К. Бюцова Ламздорфу. Стокгольм, 12/25 июля 1904 г. № 509; копия с донесения Березникова Бюцову. 3/16 июля 1904 г.
[Закрыть].
Особое значение адмирал Рожественский придавал обеспечению безопасности своей эскадры в датских водах. 5 июля он приказал своему помощнику просить морского министра, чтобы тот официально благодарил посла в Копенгагене А. П. Извольского «за необыкновенно внимательное отношение к нашим нуждам и просил его помощи в организации наблюдения через консулов и консульских агентов и сверх испрошенного уже участия датской полиции в наблюдении за водами и берегами Бельта, установить также надзор в Копенгагене и в Скагерраке». Этим же письмом адмирал предлагал принять предложение датской спасательной компании «Свитцер» («чтоб расставила свои пароходы для стаскивания с мели и вообще для подания помощи») и немедленно удалить японского генерального консула из Дании «месяца на три»[70] 70
РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3018. Л. 34–34 об.
[Закрыть].
В начале июля Рожественский обратился со специальным, совершенно секретным письмом к капитану 1–го ранга О. Л. Радлову, командиру отряда транспортных судов 2–й эскадры, которые базировались в Черном море, и потому на соединение с основными силами эскадры должны были идти через Босфор и Дарданеллы. «Все поступающие известия, – предостерегал адмирал, – дают возможность предположить, что со стороны Японии будут использованы самые разнообразные средства для нанесения вреда судам нашей эскадры, и особенно транспортам, на которые напасть можно сравнительно безнаказанно при следовании чрез Проливы в Средиземное море. Надо полагать, что транспорты могут подвергнуться нападению со стороны коммерческих пароходов под нейтральным флагом, вооруженных главным образом минами».
Далее адмирал формулировал конкретные рекомендации, которые следовало неуклонно выполнять:
«1) По выходе из русских портов, при встрече даже в Черном море с коммерческими судами, хотя бы и под нейтральным флагом, усиливать бдительность и тщательно следить за маневрированием их, дабы избежать преднамеренного столкновения[71] 71
В одной из своих шифрованных телеграмм, направленных в Токио, японский дипломат писал из Парижа: «Лучше обождать. Нужно ранее изучить все способы для устройства столкновения. Жду по этому поводу распоряжений» (ГАРФ. Ф. 102 ДП Оп. 316. 1904 (II). Д. 1. Ч. 2. Л. 167). Телеграмма была перехвачена и расшифрована русской контрразведкой.
[Закрыть];
2) При встрече в море с судами, имеющими вид яхт или кажущиеся более быстроходными, чем обычно встречающиеся суда, посылать вперед конвоирующий миноносец и требовать, чтобы встречное судно отклонялось для расхождения с отрядом вне сферы минного выстрела;
3) Следуя Босфором и Дарданеллами, и в особенности Суэцким каналом, помимо напряженного внимания к действиям встречных и попутно идущих судов, хотя бы и под нейтральным флагом […], иметь всегда на постах малые партии нижних чинов […], вооруженных ружьями с боевыми патронами в сумках. Посты эти, однако, должны быть скрыты извне» и т. д.[72] 72
РГА ВМФ. Ф. 531 (2–я Тихоокеанская эскадра). Оп. 1. Д. 93. Л. 2–3.
[Закрыть]
Понимая недостаток сил своей армады в сравнении с соединенным японским флотом, Рожественский настойчиво добивался включения в состав 2–й эскадры хотя бы двух–трех боевых судов Черноморского флота, но натолкнулся на упорное сопротивление МИДа. В неизбежном в этой связи изменении режима черноморских проливов в здании у Певческого моста усматривали серьезнейшую опасность для международного положения России не только на Ближнем Востоке, ной в Европе в целом.
«Можно быть уверенным в том, что выход части нашего Черноморского флота чрез проливы поведет к самым опасным для России осложнениям, вызвав со стороны некоторых держав, например, Англии, такие действия, которые неминуемо привели бы к новой войне, – предостерегал императора граф Ламздорф. – [...] Мера эта, открыв доступ иностранным судам в Черное море, в корне подорвала бы преимущественное политическое положение, которое ныне занимает Россия на Ближнем Востоке, и заставила бы ее навсегда отказаться от осуществления своей исторической задачи на берегах Босфора». Николай согласился с доводами руководителя своего внешнеполитического ведомства, собственноручно начертав на его записке: «Этот вопрос не предполагается подымать»[73] 73
АВПРИ. Ф. 167 (Посольство в Берлине). Оп. 509. Д. 18–ж. Л. 13 об. – 14 – Копия всеподданнейшей записки В. Н. Ламздорфа от 23 февраля 1905 г. с резолюцией Николая II.
[Закрыть].
В начале июля 1904 г. российский генеральный консул в Стокгольме В. А. Березников по поручению посла совершил объезд основных портов западного побережья Швеции и заручился обещанием здешних российских вице–консулов (все они были шведскими подданными) немедленно сообщать о прибытии в их район любого японца. Как показали последующие события, эта поездка Березникова явилась хорошим подспорьем для заведующего Берлинской агентурой Департамента полиции А. М. Гартинга, который вскоре был направлен в Скандинавию со специальной миссией. Однако и посол Бюцов, и сам Березников, и другие российские дипломаты, выполнявшие в это время аналогичные поручения своего министерства, не скрывали, что сведения, полученные от вице–консулов, не могут претендовать на абсолютную точность и полноту и имеют лишь вспомогательное значение. Для вербовки за рубежом секретной агентуры Бюцов советовал использовать чиновников российского МВД, а посол во Франции А. И. Нелидов через военно–морского атташе лейтенанта флота Г. А. Епанчина прямо рекомендовал «поручить все дело бывшему начальнику русской политической полиции в Париже Рачковскому», который «имеет большой опыт и способен дать делу серьезную организацию»[74] 74
Цит. по: Новиков Н. В. Указ. соч. С. 97.
[Закрыть].
К такой схеме организации закордонной агентурной работы подталкивало и почти полное отсутствие в распоряжении Главного морского штаба офицеров, способных обеспечить охрану эскадры в западноевропейских водах. «Своих немногочисленных агентов из бывших офицеров, – свидетельствует Штенгер, – [штабу] с трудом удалось подыскать, и их послали в более отдаленные пункты – как, например, в Красное море»[75] 75
Штенгер В. А. Указ. соч. С. 39.
[Закрыть]. Вероятно, именно это обстоятельство и навело Рожественского на мысль обратиться за содействием в Департамент полиции, по договоренности с которым с августа 1904 г. морское ведомство взяло на себя финансирование не только зарубежных российских резидентур, созданных по его прямому требованию, но и деятельность других тайных информаторов, завербованных чиновниками Департамента в западноевропейских посольствах Японии.