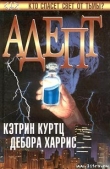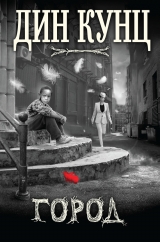
Текст книги "Город (сборник)"
Автор книги: Дин Рей Кунц
Жанры:
Детективная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
9
Поскольку «Вулвортс» еще приводили в порядок после пожара, на следующий день моей маме не пришлось идти на работу в дневную смену. Она захотела пойти со мной в общественный центр, чтобы узнать, чему я научился за два месяца уроков. Я опасался, что мне не удастся произвести должного впечатления на человека, который мог петь, как Элла. Вам следовало увидеть ее в тот день. Она оделась, как на праздник, словно сопровождала меня в какой-то концертный зал, который заполнили две тысячи человек, чтобы послушать мою игру. Желтое платье с плиссированной юбкой и черным кантом по воротнику и манжетам, черный пояс, черные туфли на высоком каблуке. Мы прошли полтора квартала, и выглядела она столь великолепно, что люди оборачивались вслед, как мужчины, так и женщины, словно на землю спустилась богиня, чтобы отвести этого худенького мальчика в некое особое место по причине столь удивительной, что ее просто невозможно себе представить.
Я познакомил маму с миссис О’Тул, и, как выяснилось, их связывал дедушка Тедди. «Мой первый муж в сорок первом играл на тенор-саксофоне у Шепа Филдса[16]16
Шеп Филдс / Shep Fields (настоящее имя Сол Фельдман / Saul Feldman, 1910–1981) – американский музыкант, руководитель оркестра.
[Закрыть], – сказала миссис О’Тул. – В оркестре Филдса саксофонов было много – один бас, один баритон, шесть теноров, четыре альта, – и Тедди Бледсоу отыграл на рояле часть того года, прежде чем ушел к Гудмену. – Она смотрела на меня иначе, узнав, что я – внук Тедди Бледсоу. – Да благословит тебя Бог, дитя, теперь я понимаю, почему ты быстро учишься и у тебя все так хорошо получается».
Я и впрямь, как губка, впитывал все, чему она меня учила, и с недавних пор уже мог, прослушав мелодию, сесть за пианино и тут же ее сыграть, при условии, что мне хватало длины рук и пальцев. По части музыки обладал эйдетической памятью. Если проводить аналогии, это то же самое, что один раз прочитать роман, а потом продекламировать его слово в слово. Садясь за пианино, я мог сыграть практически все, независимо от сложности или темпа, разумеется, далеко не так хорошо, как сыграл бы дедушка Тедди, но мелодию вы бы узнали. И мне требовался не стул, а скамья, потому что я научился скользить по ней, полируя ее штанами, влево, вправо, опять влево, не стукая локти и не изменяя положения пальцев, то есть мог охватить достаточно большой диапазон для мальчишки моего возраста и телосложения.
Моя мама стояла, слушая, как я играю, и я не решался взглянуть на нее. Не хотел видеть, как радостно она улыбается, притворяясь, будто я играю лучше, чем на самом деле, или, наоборот, морщится. Второй я сыграл ее любимую мелодию, старый хит Аниты О’Дэй «И ее слезы лились, как вино». После первых звуков мама запела. Конечно, акустика общественного центра оставляла желать лучшего, но, думаю, мама не ударила бы в грязь лицом ни в театре «Парамаунт», ни в зале отеля «Пенсильвания» в те давние дни, когда Анита выступала со Стэном Кентоном, задолго до моего рождения.
Я обратил внимание, что люди начали подтягиваться к залу Абигейл Луизы Томас, привлеченные маминым пением. Я очень ею гордился и печалился, что аккомпаниатор у нее не очень. Песня плавно катилась к концу, и пела она фантастически, все лучше и лучше, и вот тут, в маленькой толпе, я увидел мисс Перл.
Все в том же розовом костюме и в шляпке с перышками, как было и почти три месяца назад, когда она сидела рядом со мной на крыльце и называла Утенком. Она помахала мне, и я улыбнулся.
Мне не терпелось представить мисс Перл миссис О’Тул, чтобы мы поблагодарили нашу благодетельницу за пианино. Я решил, что новенький «Стейнвей» простоял здесь достаточно долго, чтобы при его внезапном превращении в рухлядь и возвращении в подвал никто бы не вспомнил, что пианино отремонтировали или заменили, то есть уже не придавал такого значения страху, который не позволил мне упомянуть мисс Перл в тот день, когда я увидел новенькое, сверкающее черным пианино. Таково, если говорить о волшебстве, мышление восьмилетнего мальчишки: если чудо случается, Бог своей прихотью может аннулировать его в самом скором времени, но если с ним ничего не случилось день, неделю, месяц, то оно становится неотъемлемой частью реального мира, и даже у Бога нет никакой возможности лишить нас этого чуда.
По правде говоря, я и теперь исхожу из этого допущения. Если хаос заполняет мир – а он заполняет, – и если есть какая-то добрая сила, которая хочет, чтобы мир выжил, тогда стабильность будет поощряться и вознаграждаться. Может, не все время. Но большую его часть.
В любом случае мы закончили «И ее слезы лились, как вино», и по глупости – может, от избытка чувств – я добавил к мелодии эффектную «завитушку», которая отсутствовала в оригинале. К счастью, собравшиеся в зале посетители общественного центра знали, что песня закончилась с последним словом мамы, и их громкая овация меня спасла: моя финальная «завитушка» растворилась в громе аплодисментов. Многие из тех, кто приходил в общественный центр, чтобы поиграть в карты или пообщаться, возрастом не уступали, а то и превосходили дедушку Тедди, поэтому прекрасно знали старые песни и могли бы подпевать, если б не хотели послушать соло Сильвии Бледсоу. Они пожелали продолжения банкета, я посмотрел на маму, она кивнула.
В общественном центре хранились старые пластинки, и лишь несколькими днями раньше я услышал «Тобой все начинается» в исполнении Милдред Бейли и ансамбля Реда Норво[17]17
Норво, Ред / Norvo, Red (1908–1999) – американский джазист, руководитель оркестра, одним из первых использовал в джазе такие инструменты, как ксилофон, маримба, виброфон. Третий муж Милдред Бейли.
[Закрыть]. Не подумав о том, чтобы спросить маму, знает ли она эту песню, заиграл мелодию, а она запела, да так здорово, что все мои огрехи растворились в ее голосе. Заметив слезы на глазах некоторых седоволосых женщин, я впервые понял, сколь важное значение имеет музыка, как дает она понять, кто мы теперь и откуда пришли, напоминает о веселых временах, но и о грусти тоже.
Когда закончилась и эта песня, всем хотелось с нами поговорить. Я, само собой, отвечал только: «Спасибо» и «Благодарю вас», но наших слушателей, конечно, в большей степени интересовала мама, а не я. Они хотели знать, где она выступает. Про «Слинкис» многие и не слышали, а те, кто знал, выглядели разочарованными.
Они столпились вокруг мамы, а я отправился на поиски мисс Перл, но нигде ее не нашел. Спросил у нескольких человек, не видели ли они высокую женщину в розовом костюме и шляпке с перышками, но никто ее не запомнил.
Из общественного центра – по предложению мамы – мы пошли в ближайший парк. Не такой и большой: деревья, скамейки и бронзовая статуя одного из прежних мэров или кого-то еще, наверняка недовольного тем, что его окружало такое запустенье, да только как он мог пожаловаться? К постаменту крепилась табличка, на которой указывалось, кто этот бронзовый человек, но вандалы вырвали ее из гранита. На лужайке хватало проплешин, деревья должным образом не подстригались, мусор вываливался из переполненных урн. Моя мама вспомнила про киоск, в котором продавались газеты, закуски и пакетики с маленькими крекерами, чтобы кормить голубей, но его, похоже, давно снесли, а голуби, которых в парке хватало, выглядели какими-то квелыми, с красными глазами.
– Чего уж там! – воскликнула мама. – Почему нет?
– «Почему нет» что? – переспросил я.
– Почему бы нам не устроить праздник? Ты, и я, да мы с тобой. Гульнем?
– И что будем делать?
– Все, что захотим. Для начала найдем парк получше.
Мы вышли на улицу, встали на бордюрный камень, оглядываясь в поисках такси. Два проехали мимо, не отреагировав на поднятую руку мамы. Третье остановилось, и водитель, Альберт Соломон Глак, повез нас в парк получше, который назывался Прибрежным. В те дни плексигласовая перегородка еще не отделяла заднее сиденье от переднего: никто даже не думал о том, что пассажиры могут представлять собой опасность для водителя. Мистер Глак развлекал нас, изображая Джеки Глисона, Фреда Флинтстоуна и Эрнеста Боргнайна[18]18
Если Джеки Глисон / Jackie Gleason (1916–1987) и Эрнест Боргнайн / Ernest Borgnine (1917–2012) – реальные люди, то Фред Флинтстоун – персонаж мультипликационного сериала «Флинтстоуны», которого озвучивал (1960–1977) Алан Рид / Alan Reed (1907–1977).
[Закрыть], тогда звезд телеэкрана, а еще сказал, что может изобразить Люсиль Болл, да только заговорила она у него голосом Эрнеста Боргнайна, заставив меня хохотать до слез. Он хотел попасть в шоу-бизнес, поэтому шутки слетали с его губ одна за другой. Я заставил маму записать его имя и фамилию, чтобы рассказывать о встрече с ним, когда он станет знаменитостью. Годы спустя у меня появился повод найти его. Знаменитостью он не стал, но нашу вторую встречу я не забуду до конца своих дней, как не забыл первую.
Остановившись у парка, он сказал: «Подождите, подождите», – прежде чем мама успела ему заплатить, вышел из такси, обошел автомобиль, открыл заднюю дверцу и рукой обвел парк, как бы даря его нам. Плотный коренастый мужчина, с кустистыми бровями и подвижным лицом, созданным для комедии, улыбающийся, сыплющий шутками, но я заметил, что ногти его пальцев обгрызены до мяса.
После того как мы вышли на тротуар, мама заплатила ему. Он взял точно по счетчику, отказавшись от чаевых.
– Иногда попадаются пассажиры, которым хочется приплатить за то, что они сели в мое такси. И у меня есть кое-что для вас и вашего мальчика. – Он достал из кармана медальон на цепочке. Когда мама попыталась отказаться, покачал головой: – Если не возьмете, я буду кричать: «Полиция, на помощь!» – пока они не прибегут, а потом предъявлю ужасные обвинения, и к тому времени, когда вас выпустят из полицейского участка, идти в парк будет поздно.
Сильвия рассмеялась, покачала головой.
– Но я не могу взять…
– Мне дала его пассажирка шесть месяцев тому назад и сказала, что хочет, чтобы я передал медальон кое-кому еще. Я спросил кому, и она ответила, что я пойму, когда встречу этого человека. Но теперь выясняется, что это не один человек, а двое, вы и ваш мальчик. Это медальон удачи. Хорошей удачи. А если вы его не возьмете, тогда для меня удача переменится. Станет плохой. Хорошая удача для вас, плохая – для меня. И что… вы хотите погубить мою жизнь? У меня такие ужасные шутки? Пожалейте меня, женщина, дайте мне шанс, возьмите его, возьмите его, пока я не кликнул полицию.
Конечно, мы не смогли ему отказать. После его отъезда нашли скамейку, сели и принялись разглядывать медальон. Изготовили его из двух кусочков люсита[19]19
Люсит / Lucite – прозрачный акриловый пластит. Изобретен в 1930 г. Часто используется для изготовления различной бижутерии.
[Закрыть], которые склеили вместе, и получилось сердечко размером с серебряный доллар. Внутри находилось белое перышко. Возможно, тоже приклеенное, но выглядело оно пушистым – чувствовалось высочайшее качество работы – и, похоже, могло затрепетать внутри сердечка, если подуть на люсит. Маленькая серебряная петелька, ввинченная во впадину сердечка, позволяла подвесить медальон на серебряную цепочку.
– Он, наверное, дорогой, – предположил я.
– Знаешь, сладенький, это все-таки не «Тиффани». Но красивый, правда?
– Почему он дал его тебе?
– Честно говоря, не знаю. Мне он показался очень милым человеком.
– Я думаю, ты ему понравилась.
– Если на то пошло, Иона, я уверена, он дал его мне, чтобы я отдала тебе.
С благоговейным трепетом я взял медальон, когда мама протянула его мне.
– Ты и впрямь так думаешь?
– У меня нет ни малейших сомнений.
Я взялся за цепочку и позволил сердечку покачаться в воздухе из стороны в сторону. В солнечном свете полированный люсит казался чуть ли не жидким, и перышко словно плавало в большущей капле воды, каким-то чудом соединенной с петлей. Или в слезе.
– И от какой птицы это перо? – спросил я. – Голубя?
– Нет, полагаю, птичка более достойная, чем голубь. Ты не думаешь, что оно от какой-нибудь певчей птички, с особенно нежным голосом? Таково мое мнение.
– Должно быть, – согласился я. – Но что мне с ним делать? Это же сердечко, девчачье украшение.
– И ты не можешь допустить, чтобы тебя увидели с девчачьим украшением… правильно?
– Меня уже дразнят за то, что я такой худой.
– Ты не худой. Ты поджарый. – Она ткнула меня локтем в бок. – Ты – поджарая, крепкая музыкальная машина.
Ей всегда удавалось повысить мое мнение о себе. Я думал, что это нормально и любая мать, безо всяких на то усилий, находит слова, повышающие самооценку ребенка. Но с годами все лучше узнавал мир и достаточно быстро понял: мне невероятно повезло в том, что воспитывала меня Сильвия Бледсоу.
– Мистер Глак сказал, что этот медальон приносит удачу, – напомнил я, когда мы еще сидели на скамейке.
– Удача еще никому не мешала.
– Он не сказал, можно ли загадывать с ним желание.
– Это легкая удача, Иона. Легкая удача всегда может привести к беде. Тебе нужна удача, которую придется заслужить.
– Может, мне лучше носить его в кармане – не на шее?
– Можно и в кармане. Или хранить в ящике прикроватного столика. Когда человеку дарят особый подарок, его надо беречь. Относиться к нему, как к сокровищу. Если ты относишься к чему-то, как к сокровищу, вещь эта таковым и становится.
Когда много лет спустя я узнал, кто дал этот медальон таксисту и что он из себя представляет, мне стало понятно, что он – точно сокровище.
10
Теперь, когда я шел с медальоном в кармане, у меня создалось ощущение, что в небе прибавилось синевы. День выдался теплым, эта часть города выглядела более чистой, чем наш район. С приближением полудня тени от стволов деревьев укорачивались, а тени от крон все больше напоминали круг со стволом в самом центре. Солнце отражалось от поверхности пруда, и мы видели десятки толстых декоративных карпов, кои, которые плавали в пруду с весны до поздней осени, когда их отправляли в бассейны под крышей. Мама купила за двадцать пять центов пакет с хлебными кубиками, рыбы подплывали к нам, лениво шевеля плавниками, с открытыми ртами, и мы их кормили.
Внезапно я проникся к кои неожиданной нежностью: красивые, яркие, они казались мне музыкой во плоти. Мама показывала мне то на одного, то на другого: какой красный, какой оранжевый, какой желтый, какой золотистый, а я вдруг почувствовал, что больше не могу о них говорить, потому что у меня перехватило горло. Я знал: если заговорю, голос задрожит и я, возможно, заплачу. Я не мог понять, что со мной. Это же обычные рыбы. Может, я становился маменькиным сынком, но, по крайней мере, я скормил им последний кубик хлеба без всяких слез.
Почти полстолетия спустя я чувствую ту же нежность ко всему, что плавает, летает, ходит на четырех лапах, и нисколько этого не стесняюсь. Чудо создания трогает и изумляет, если не отгораживаться от него. Когда я вспоминаю, сколь мала вероятность того, что все это живет в мире, созданном из пыли и горячих газов, сколь бесконечно разнообразие живых существ, которые ночами смотрят на звезды, в голову приходит мысль, что именно наша любовь ко всему живому позволяет Земле существовать и вращаться.
В тот день, покормив кои, мы гуляли по парку, неспешно шагали по дорожкам между площадками для пикника, обогнули поле для бейсбола. Народу было не так много, как я ожидал, вероятно, потому, что мы устроили себе праздник в будний день. Но, когда у нас зашел разговор о ланче, два парня, возможно шестнадцати и семнадцати лет, пристроились к нам, шли чуть позади, прибавляли шагу, если мы пытались оторваться от них, притормаживали, если это делали мы. Они говорили о девушках, с которыми встречались прошлым вечером, о том, какими те оказались горячими и что они с ними делали. Они хотели, чтобы моя мама их слышала. Я не знал всех слов, которые они произносили, не понимал всего, чем они хвалились, но у меня не вызывало сомнений, что это плохиши. Тогда такое случалось нечасто. Практически не случалось. Люди такого не терпели. И они не так боялись. Я пару раз сердито на них глянул, но моя мама одернула меня: «Не надо, Иона», – и мы продолжали идти к Келлогг-паркуэй. А эти хамы только добавили грязи в свой разговор и начали комментировать фигуру моей мамы.
Наконец она остановилась и повернулась к ним, сунув руку в сумку.
– Отвалите.
Один был белым, второй – мулатом, таким словом мы тогда пользовались, имея в виду полукровку, наполовину белого, наполовину черного. Они самодовольно улыбались, надеясь запугать маму.
Белый вскинул брови.
– Отвалить? Это общественный парк, конфетка. Или это не общественный парк, брат?
– Будь уверен, общественный, – ответил его друган. – Чел, перед у нее еще лучше, чем зад.
Моя мама приподняла сумку, не вынимая из нее руку.
– Предсмертное желание загадали? – спросила она.
Улыбка белого сменилась злобной ухмылкой.
– Конфетка, в этом городе мало у кого есть законное разрешение на ношение оружия, так что у тебя в сумке может быть только тампон.
Она смотрела на него, как на слишком много возомнившего о себе таракана, поднявшегося на задние лапы, говорящего, но остающегося тараканом.
– Послушай, придурок, я выгляжу школьной учительницей, которую заботит, что говорит закон? Посмотри на меня. Ты думаешь, я горничная в отеле или продавщица в дешевом магазине? Такой я для тебя выгляжу, говнюк? Что у меня есть, так это нигде не засвеченный пистолет. Я убью вас обоих, брошу его, а копам скажу, что вы напали на меня, пытались ограбить, пригрозив оружием, но в завязавшейся потасовке выронили пистолет. Я его схватила, подумала, что у вас есть еще один, и пустила в ход. Так что или вы валите прочь, или я вас прикончу. Мне без разницы, что вы выберете.
Ухмылки сползли с их лиц. Теперь они выглядели так, словно морщились от боли, хотя их глаза сверкали ледяной яростью. Я не знал, как все могло обернуться, даже ясным днем, на виду у других людей, но мой страх ушел, уступив место изумлению. Я просто не узнавал своей мамы. Я никогда не слышал от нее грубого слова, а насчет пистолета… скорее у меня был черный пояс по карате. Но со стороны создавалось полное ощущение, что слова у нее не разойдутся с делом.
И эти подонки поверили, Нет, они, конечно, шипели на нее – «сука», «шалава», что-то и грубее, – но при этом пятились, а потом развернулись и пошли прочь. Мы стояли и смотрели им вслед, пока не осталось сомнений, что они не вернутся. И только тогда мама заговорила:
– Если ты и услышал пару грубых слов, это не означает, что ты можешь их когда-нибудь повторить.
Я молчал, но не по той причине, которая лишила меня дара речи у пруда с кои.
– Иона? Ты меня слышал?
– Да, мэм.
– Тогда повтори, что я сказала.
– Нельзя использовать грязные слова.
– Ты понимаешь, почему я их использовала?
– Ты говорила с этими парнями на их языке.
– Значит, говорила?
– Чтобы они лучше тебя поняли.
Она улыбнулась, достала руку из сумки, закрыла ее.
– Как насчет ланча?
– Я за.
С этой стороны к Прибрежному парку подступали только дорогие жилые дома, поэтому нам предстояло пройти минут десять, чтобы попасть в район магазинов и кафе.
– А что такое тампон? – спросил я, когда мы отшагали квартал. – Этот парень сказал, что пистолета у тебя в сумке нет, разве что тампон.
– Да ничего, что-то вроде губки.
– Вроде той, что лежит в раковине на кухне?
– Не совсем.
– Вроде той, какими пользуются на автомойке на Седьмой улице?
– Нет, не такая большая.
– А с чего он решил, что у тебя в сумке губка?
– Лучше подготовиться заранее.
– Подготовиться к чему? Что ты что-нибудь прольешь?
– Совершенно верно.
– Тебе эта губка когда-нибудь требовалось?
– Случалось.
– Ты у нас такая чистюля. Я постараюсь брать с тебя пример.
Мы как раз проходили мимо автобусной остановки, и она сказала, что ей надо присесть. А как только села, начала хохотать, да так, что из глаз полились слезы.
Сидя рядом с ней, я оглядывался, но не находил ничего особо веселого.
– Что тебя так рассмешило? – спросил я.
Она покачала головой, достала из сумки бумажную салфетку, принялась вытирать глаза. Наконец смогла мне ответить:
– Я просто подумала об этих двух идиотах.
– Мне они смешными не показались, мама. Скорее страшными.
– Конечно, они страшные, – согласилась она. – Но еще и тупые. Может, я смеялась от облегчения, что мы оба остались целыми и невредимыми.
– Как же ловко ты их провела.
– И ты молодец, хорошо держался.
Вытерев глаза, мама высморкалась и бросила бумажную салфетку в урну у скамьи.
– Тебе и раньше удавалось провести таких идиотов, как эти, потому что тампон-губка формой напоминал пистолет?
Тут она снова расхохоталась, и я решил, что ей в рот просто попала смешинка. Так иногда бывает, ты смеешься и смеешься, не можешь остановиться, хотя ничего смешного вроде бы и нет, но тебе кажется, что очень смешно, пока, наконец, смех не переходит в икоту.
– Сладенький… – говорила она, продолжая смеяться, – …тампон… это… не плохое слово. Но тебе… все-таки… лучше обходись без него.
– Обходиться? Но почему?
– Этому слову… не место… в лексиконе… маленьких мальчиков.
– И сколько я должен прожить лет, прежде чем оно войдет в мой лексикон?
– Двадцать пять, – ответила она и залилась смехом.
– Ладно, но губкой мне его называть можно?
У нее из глаз вновь покатились слезы.
Вскоре к остановке подошли какие-то люди, мы встали, чтобы уступить им скамейку, и пошли дальше. Прогулка излечила маму от смеха, и меня это только порадовало. Я опасался, что эти два хулигана появятся вновь, и точно знал, что больше маме их не напугать, потому что улыбка не сходила с ее лица.
Мы не могли позволить себе часто обедать вне дома, а если уж обедали, то шли в «Вулвортс», потому что Сильвии делали там скидку как сотруднице. Но в этот день мы пошли в настоящий ресторан, мама сказала во французский, и я испытал огромное облегчение, когда выяснилось, что там говорят на английском. Когда мы вошли, по одну руку я увидел длинный бар с большим зеркалом за стойкой. На полу в черно-белую клетку стояли черные стулья и столы, но с белыми скатертями. В черных кабинках и сиденья были из черного винила. Солонки и пепельницы выглядели хрустальными и были такими тяжелыми, что я боялся ими воспользоваться: вдруг выроню и разобью, а стоили они, наверное, целое состояние.
Ресторан предлагал и детское меню, включая чизбургер, который я и заказал, с картофелем фри и кока-колой. Мама остановилась на салате с куриной грудкой и стакане «Шардоне», закончили мы нашу трапезу блюдом, которое я назвал лучшим пудингом в истории мира, а мама – крем-брюле.
Мы ждали десерта, когда я наклонился над столом и прошептал:
– Можем мы себе все это позволить?
– Нет, – прошептала в ответ мама. – Мы и не платим.
– А что они с нами сделают, когда узнают? – спросил я, вцепившись в край стола.
– Платим не мы, а твой отец.
– Он не вернется? – в тревоге спросил я.
– Ты помнишь квартовую майонезную банку, в которую он каждый вечер бросал мелочь? Когда я собирала его вещи, банку в чемодан не положила.
– Может, он за ней вернется?
– Не вернется, – уверенно ответила она.
– Но это неправильно, брать его деньги.
– Нормально, это был его залоговый депозит.
– Его что?
– Владельцы квартир требуют залоговый депозит, некую сумму, которую ты вносишь, въезжая в квартиру, на случай, что ты причинишь урон перед тем, как съедешь. То есть у них остаются деньги для ремонта и нет нужды гоняться за тобой и требовать, чтобы ты этот ремонт оплатил. Твой отец не платил свою долю арендной платы с тех пор, как перебрался к нам, и вчера он причинил урон. Точно причинил. Поэтому я оставила его банку с мелочью как залоговый депозит, и сейчас он оплачивает нам ланч в ресторане.
Прошло много лет, прежде чем я снова поел крем-брюле и понял, что лучшим пудингом в истории человечества то блюдо стало благодаря обстоятельствам. Нет ничего лучше, чем дорогой ланч, оплаченный деньгами отца, который своим присутствием не мог все испортить.
Во второй половине дня мы посмотрели смешную комедию с Питером Селлерсом, а вечер я провел с мистером и миссис Лоренцо – заснул на их диване, крепко зажав в правой руке медальон, подаренный мистером Глаком. Время от времени почти просыпался и чувствовал, как трепещет перышко. Когда мама вернулась после полуночи, отработав четыре часа в «Слинкис», мистер Лоренцо отнес меня в нашу квартиру. Я был такой сонный, что мама уложила меня в трусах и майке, не переодевая в пижаму. Хотела убрать медальон в ящик прикроватного столика, но я очень крепко держался за него.
Мне приснилась белая птица, огромная, как самолет, и я мчался у нее на спине, не боясь упасть. Мир сверкал внизу: леса, поля, горы, долины, моря с белыми кораблями, а потом город, наш город. Люди поднимали головы, указывали, махали руками, я тоже махал, и только когда птица начала петь, до меня дошло, что птица не такая большая, как самолет, и вообще это не птица, а моя мама, одетая в белый шелк, с крыльями, более прекрасными, чем у лебедя. Она несла меня на спине, и я чувствовал удары ее сердца, ее чистого сердца, бьющегося мерно и сильно.