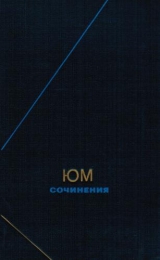
Текст книги "Сочинения в двух томах. Том 1"
Автор книги: Дэвид Юм
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 56 страниц)
Но хотя воспитание и отвергается философией как ошибочное основание для согласия с каким-нибудь мнением, оно тем не менее играет преобладающую роль в мире и является причиной того, что всем теориям вначале грозит опасность быть отвергнутыми в силу их новизны и необычности. Быть может, такая же участь постигнет и то, что я высказал здесь о вере;и, хотя приведенные мной доказательства кажутся мне лично вполне убедительными, я не надеюсь приобрести многочисленных сторонников. Вряд ли удастся когда-либо убедить людей в том, что такие важные по значению действия могут вытекать из принципов, по-видимому, столь незначительных и что огромное большинство наших рассуждений наряду со всеми нашими действиями и страстями может быть выведено не из чего иного, как из привычки и навыка. Чтобы предупредить эти возражения, я несколько предвосхищу то, что более подобало бы рассматривать впоследствии, когда мы перейдем к изучению аффектов и чувства прекрасного.
Человеческому уму присуще восприятие страдания и удовольствия как главной пружины, главного движущего начала всех его действий. Но есть два способа появления страдания и удовольствия в уме, причем действия одного из этих способов весьма отличны от действий другого. Страдание и удовольствие могут появиться или в виде действительно ощущаемого впечатления, или только в идее, как, например, теперь, когда я о них упоминаю. Очевидно, что влияние их на наши действия далеко не одинаково в том и другом случае. Впечатления всегда побуждают душу к активности, и притом в самой сильной степени, но не всякая идея оказывает на нее такое же действие. Природа проявила в данном случае осторожность и, по-видимому, тщательно избегала неудобства обеих крайностей. Если бы только впечатления действовали на нашу волю, мы в каждый момент своей жизни подвергались бы величайшим несчастьям, потому что, несмотря на предвидение их приближения, не были бы снабжены природой какими-либо принципами действия, которые могли бы заставить нас избегать их. С другой стороны, если бы каждая идея влияла на наши действия, это ненамного улучшило бы наше положение, ибо наша мысль так непостоянна и деятельна, что всевозможные образы, в особенности же образы разных благ и зол, всегда мелькают в нашем уме; и если бы на него действовало всякое праздное представление такого рода, он никогда не знал бы ни минуты мира и покоя.
Поэтому природа избрала середину и, предоставив силу, [необходимую, чтобы] приводить в действие волю, не каждой идее блага и зла, она в то же время не вполне лишила эти идеи подобного влияния. Если какая-либо праздная фикция не оказывает [на нас] никакого влияния, то, как мы знаем из опыта, идеи тех объектов, в настоящее или будущее существование которых мы верим, производят, хотя и в меньшей степени, то же действие, что и непосредственно ощущаемые и воспринимаемые впечатления. Таким образом, действие веры состоит в том, чтобы поднять простую идею на тот же уровень, что и впечатления, и сообщить ей одинаковое влияние на страсти. Действие же это она может произвести, приближая идею к впечатлению по силе и живости. Ведь если различие в степени силы составляет все первоначальное различие между впечатлением и идеей, то, следовательно, оно же должно быть и источником всех различий в действиях этих восприятий, а полное или частичное их устранение должно быть причиной всякого нового сходства между этими действиями. Каждый раз, когда мы можем приблизить идею по силе и живости к впечатлениям, она подражает им и в своем влиянии на ум; и, наоборот, когда идея подражает влиянию впечатлений, как, например, в разбираемом случае, это происходит вследствие того, что она приближается к ним по силе и живости. Стало быть, если вера заставляет идею подражать действиям впечатлений, она должна делать ее сходной с последними в указанных качествах, и, значит, она не что иное, как более живое и интенсивное представление любой идеи.Сказанное может в одно и то же время служить добавочным аргументом в пользу предложенной теории и дать нам представление о том, каким образом наши рассуждения о причинности в состоянии действовать на волю и страсти.
Подобно тому как вера абсолютно необходима, чтобы возбуждать наши аффекты, так и аффекты в свою очередь весьма благоприятствуют вере; и не только факты, возбуждающие приятные эмоции, но часто и такие, которые причиняют страдание, именно в силу этого легче становятся объектами веры и мнения. Трусливый человек, легко поддающийся страху, охотно доверяет каждому рассказу об опасности, а человек, склонный к печали и меланхолии, очень легко верит всему, что разжигает преобладающий в нем аффект. Как только мы воспринимаем объект, способный затронуть наше чувство, он тотчас же начинает тревожить нас и возбуждать в нас некоторую степень соответствующего ему аффекта, особенно у тех лиц, которые имеют естественную склонность к нему. Эмоция эта легко переходит на воображение и, распространяясь на идею затронувшего нас объекта, заставляет нас образовывать эту идею с большей силой и живостью, а следовательно, и соглашаться с ней, что соответствует вышеизложенной теории. Действие восхищения и удивления тождественно действию других аффектов; этим объясняется тот факт, что шарлатаны и прожектеры благодаря своим широковещательным обещаниям встречают больше веры у простолюдинов, чем встретили бы они, оставаясь в пределах умеренности. Первоначальное удивление, естественно вызываемое их чудесными рассказами, овладевает всей душой слушающего и так оживляет и оживотворяет идею, что она делается сходной с заключениями, которые мы выводим из опыта. Это тайна, с которой мы, быть может, уже немного познакомились и в которую мы будем иметь случай глубже проникнуть по мере продвижения нашего трактата.
После этого объяснения влияния веры на страсти мы найдем менее затруднительным и объяснение ее действий на воображение, какими бы необычайными они нам ни казались. Несомненно, что мы не можем получать удовольствие от разговора, когда наш рассудок не соглашается с теми образами, которые предстают перед нашим воображением. Беседа с людьми, привыкшими лгать, хотя бы и в маловажных делах, никогда не доставляет нам удовольствия, в силу того что идеи, которые предлагают нам эти люди, не сопровождаясь верой, не производят впечатления на наш ум. Даже поэты, эти лжецы по профессии, всегда стараются придать своим фикциям облик правды; если же они совершенно не заботятся об этом, произведения их, как бы остроумны они ни были, никогда не доставляют нам большого удовольствия. Словом, мы можем заметить, что, даже если идеи не оказывают никакого влияния на волю и страсти, истина и реальность тем не менее требуются для того, чтобы идеи эти могли занять наше воображение.
Но если мы сравним все относящиеся сюда явления, то увидим, что, сколь бы необходимой ни казалась истина во всех гениальных произведениях, она не производит иного действия, кроме того, что облегчает идеям доступ в наш ум и заставляет последний принимать их с удовольствием или по крайней мере не вопреки желанию. Но так как легко предположить, что это действие проистекает из той устойчивости и силы, которые, согласно моей теории, отличают идеи, устанавливаемые с помощью рассуждений о причинности, то отсюда следует, что все влияние веры на воображение может быть объяснено при помощи этой теории. Соответственно мы замечаем, что всякий раз, когда это влияние проистекает не из правдоподобия или реальности, а из каких-нибудь иных принципов, то последние занимают место первых и наравне с ними возбуждают воображение. Поэты создали, как они выражаются, поэтическую систему вещей, которая обычно признается достаточным основанием для всевозможных фикций, хотя ни сами поэты, ни читатели в нее не верят. Мы до крайности привыкли к именам Марса, Юпитера, Венеры, и подобно тому как воспитание укрепляет в нас какое-нибудь мнение, так и постоянное повторение этих идей заставляет их легко проникать в наш ум и овладевать воображением, не оказывая никакого влияния на рассудок. Точно так же авторы трагедий всегда заимствуют фабулу или по крайней мере имена главных действующих лиц из какого-нибудь известного исторического события, и притом не с целью обмануть зрителей, ибо они всегда откровенно сознаются, что истина не во всех подробностях, не безусловно соблюдена ими, а с целью облегчить доступ к воображению тем необычайным происшествиям, которые они изображают. Но соблюдение этой предосторожности не требуется от поэтов-комиков; так как их действующие лица и трактуемые ими происшествия более знакомы нам, то мы легко представляем и принимаем их без всяких подобных формальностей, хотя бы и с первого же взгляда признали их фикциями, чистым порождением фантазии.
Эта смесь истины и вымысла в произведениях трагиков служит нашей цели не только в качестве доказательства того, что воображение может быть удовлетворено и при отсутствии абсолютной веры или [абсолютного] убеждения: ее можно, с другой стороны, считать очень веским подтверждением нашей теории. Очевидно, поэты прибегают к этой уловке, т. е. к заимствованию имен своих действующих лиц и главных событий своих поэм из истории, для того, чтобы целое могло быть воспринято более легко и чтобы оно производило более глубокое впечатление на воображение и аффекты. Отдельные эпизоды поэтического произведения приобретают некоторое отношение друг к другу, будучи соединены в одну поэму или в одну драму; и, если какой-нибудь из этих эпизодов является объектом веры, он придает силу и живость и другим эпизодам, связанным с ним данным отношением. Живость первого представления распространяется на отношения и передается через их посредство, словно по трубам или каналам, каждой идее, состоящей в какой-нибудь связи с первой идеей. Так как связь между идеями здесь до известной степени случайна, то живость эта, конечно, никогда не может сравняться с полным убеждением; тем не менее она настолько приближается к нему по своему влиянию, что мы без труда убеждаемся в их происхождении из одного источника. Вера должна приятно действовать на воображение благодаря сопровождающим ее живости и силе, поскольку всякая идея, которой свойственны сила и живость, оказывает приятное действие на эту способность.
В подтверждение сказанного мы можем заметить, что рассудок и воображение, равно как и рассудок и аффекты, оказывают друг другу взаимную помощь: не только вера придает силу воображению, но и сильное и могучее воображение из всех дарований наиболее способно породить веру и убеждение. Нам трудно не согласиться с тем, что расписывают перед нами всеми цветами красноречия; и живость идей, порождаемая воображением, во многих случаях даже больше той, которую вызывают привычка и опыт. Нас увлекает живость воображения автора или собеседника, и даже сами они часто бывают жертвой собственной пылкости и порыва.
Не мешает также заметить, что если живое воображение весьма часто вырождается в сумасшествие или безумие и бывает очень похоже на таковое по своим действиям, то и на рассудок как воображение, так и безумие влияют одинаково, порождая веру в силу одних и тех же принципов. Когда воображение из-за чрезвычайного брожения крови и жизненных духов приобретает такую живость, которая приводит в расстройство все его силы и способности, то не остается никакой возможности отличить истину от лжи и каждая бессвязная фикция или идея, оказывая такое же влияние, как впечатления памяти или заключения рассудка, принимается на равных с ними правах и действует с одинаковой силой на аффекты. Наличное впечатление и привычный переход теперь уже больше не нужны для того, чтобы оживлять наши идеи. Всякая наша химера равняется по живости и интенсивности любому из тех заключений, которые мы раньше удостаивали названия выводы о фактах,а иногда и наличным впечатлениям чувств 54.
То же действие, хотя и в меньшей степени, оказывает на нас и поэзия. Как поэзия, так и сумасшествие имеют то общее, что живость, сообщаемая ими идеям, вызывается не какими-нибудь особыми положениями или соединениями объектов этих идей, а наличным настроением и расположением духа самого человека. Однако, какой бы высокой степени ни достигала эта живость в поэзии, очевидно, что она никогда не возбуждает в нас чувства,одинакового с тем, которое возникает в уме, когда мы рассуждаем даже на основании низших степеней вероятности. Наш ум легко может отличать одно чувство от другого, и, в какое бы возбуждение ни приходили жизненные духи под влиянием поэтического энтузиазма, оно все-таки остается только призраком веры, или убеждения. С аффектом, вызываемым идеей, дело обстоит так же, как и с самой идеей. Нет такого свойственного человеческому уму аффекта, которого не могла бы пробудить поэзия, хотя в то же время мы чувствуемэти аффекты совсем иначе, когда их вызывают поэтические фикции, чем когда их вызывают вера и реальность. Аффект, неприятный в реальной жизни, может доставить высочайшее наслаждение в трагедии или эпической поэме. В последнем случае он не так тяготит нас, чувствуется нами как нечто менее постоянное и упорное и производит на нас только приятное действие, волнуя жизненные духи и пробуждая наше внимание. Различие в аффектах является ясным доказательством различия в тех идеях, которые вызывают эти аффекты. Когда живость [идеи] происходит от привычного соединения ее с наличным впечатлением, то воображение, по-видимому, возбуждается не так сильно, но тем не менее его актам свойственно в данном случае что-то более принудительное и реальное, чем в пылких созданиях поэзии и красноречия. Силу наших умственных актов ни в этом случае, ни в других не следует измерять видимым возбуждением нашего ума. Поэтическое описание может произвести более ощутимое действие на фантазию, чем исторический рассказ; в нем может быть собрано большее количество тех обстоятельств, которые дают полный образ, или полную картину; оно может, по-видимому, нарисовать нам объект более живыми красками. Однако идеи, вызываемые им, чувствуютсянами иначе, чем те, которые порождаются памятью и суждением. Есть какая-то слабость, какое-то несовершенство в кажущейся пылкости мысли и чувства, сопровождающей фикции поэзии.
Впоследствии у нас еще будет случай указать как на сходство, так и на различие между поэтическим энтузиазмом и серьезным убеждением. А пока я не могу не отметить, что значительное различие в том, как одно и другое чувствуются нами, зависит в некоторой степени от размышления и общих правил.Мы замечаем, что та сила представления, которую сообщают фикциям поэзия и красноречие, лишь случайное обстоятельство, одинаково доступное всякой идее, и что подобные фикции не находятся в связи с чем-либо реальным. В силу этого наблюдения мы, так сказать, только поддаемся фикциям, причем, однако, фиктивная идея чувствуется нами совсем иначе, чем навеки установленные убеждения, основанные на памяти и привычке. То и другое до известной степени однородны, но первая сильно уступает вторым как по своим причинам, так и по своим действиям.
Подобное же размышление об общих правилахпредохраняет нашу веру от того, чтобы она усиливалась при каждом увеличении силы и живости наших идей. Если какое-нибудь мнение не допускает никакого сомнения или противоположной вероятности, мы приписываем ему полную убедительность, хотя из-за недостатка сходства или смежности оно может уступать в силе другим мнениям. Таким образом, познание исправляет свидетельства чувств и заставляет нас воображать, будто объект, находящийся от глаза на расстоянии двадцати футов, представляется ему столь же большим, как объект таких же размеров, находящийся от него на расстоянии десяти футов.
То же действие, хотя и в меньшей степени, мы можем заметить и в поэзии, с тем лишь различием, что малейшее размышление рассеивает иллюзии поэзии и заставляет ее объекты предстать в надлежащем свете. Однако несомненно, что в пылу поэтического энтузиазма поэт чувствует нечто вроде веры в свои объекты, даже как бы созерцает их, и, если у него есть хоть тень аргумента, который может поддержать эту веру, ничто так не способствует тому, чтобы полностью убедить его, как поток поэтических фигур и образов, действующих не только на читателей, но и на него самого 55.
Чтобы придать нашей теории всю подобающую ей силу и очевидность, мы должны будем на время отвлечься от нее с целью рассмотреть ее следствия и объяснить из тех же принципов некоторые другие виды умозаключения, происходящие из того же источника.
Философы, разделившие человеческие познания (reason) на знание и вероятностьи определившие первое как очевидность, которая получается из сравнения идей,вынуждены были объединить все наши заключения из причин или действий посредством общего термина вероятность.Но хотя каждый волен употреблять свои термины в каком угодно смысле, в силу чего и я в предыдущей части своего рассуждения следовал указанному способу выражения, однако в обыденном разговоре мы, несомненно, не задумываясь, утверждаем, что многие из наших аргументов из причинности более чем вероятны и могут быть признаны высшим родом очевидности. Нам показался бы смешным всякий, кто сказал бы, будто только вероятно, что солнце завтра взойдет или что все люди должны умереть, хотя ясно, что у нас нет другой уверенности в этих фактах, кроме той, которую дает нам опыт. Поэтому, имея в виду как сохранение обычного смысла слов, так и обозначение различных степеней очевидности, быть может, удобнее было бы разделить человеческие познания на три рода: знание, доказательства(proofs) и вероятности.Под знаниемя понимаю уверенность, возникающую из сравнения идей; под доказательствами– те аргументы, которые извлекаются из отношения причины и действия и которые совершенно свободны от сомнения и неуверенности; под вероятностью– ту очевидность, которая еще сопровождается неуверенностью. К рассмотрению этого последнего вида заключения я и перехожу.
Вероятность, или предположительное заключение (reasoning from conjecture), может быть двух видов, а именно: вероятность, основанная на случайности,и вероятность, происходящая из причин.Мы рассмотрим оба этих вида по порядку.
Идея причины и действия извлекается из опыта, который, представляя нам определенные объекты в постоянном соединении друг с другом, порождает привычку рассматривать их находящимися в этом отношении, в силу чего мы не можем без заметного усилия представлять их в каком-нибудь ином отношении друг к другу. С другой стороны, так как случайность сама по себе не есть нечто реальное, а является, собственно говоря, лишь отрицанием причины, то влияние ее на ум противоположно влиянию причинности. Существенной особенностью случайности является тот факт, что она оставляет воображение совершенно безразличным к тому, рассматривается ли объект, признаваемый случайным, как существующий или несуществующий. Причина указывает путь нашей мысли и некоторым образом вынуждает нас рассматривать определенные объекты в определенных отношениях. Случайность может только устранить такое определение нашей мысли и оставить ум в свойственном ему состоянии безразличия, в которое он при отсутствии причины тотчас же впадает снова.
Но если полное безразличие – существенный признак случайности, го одна случайность может превосходить другую только в том случае, если она составлена из большего числа равных шансов. Ведь если мы станем утверждать, что одна случайность может каким-нибудь иным образом превосходить другую, то мы должны будем в то же время утверждать, будто есть нечто дающее ей это превосходство и определяющее исход события скорее в одну, чем в другую, сторону; другими словами, мы должны будем допустить действие некоторой причины и устранить предположение о случайности, высказанное нами первоначально. Совершенное и полное безразличие существенно для случайности, но одно полное безразличие не может само по себе ни превосходить другое, ни уступать ему. Эта истина не составляет исключительной черты моей теории, но признается всяким, кто занимается исчислением случайностей.
Замечательно, что, несмотря на прямую противоположность случайности и причинности, мы тем не менее не можем представить себе ту комбинацию шансов, которая требуется для того, чтобы дать одному случаю перевес над другим, не предположив, что случайности перемешаны с причинами и что к полному безразличию некоторых обстоятельств присоединяется необходимость других. Когда ничто не ограничивает случайностей, все представления, какие только может образовать самая пылкая фантазия, равны между собой и не может быть такого обстоятельства, которое давало бы одному из них преимущества перед другим. Так, если мы не допустим, что существуют некоторые причины, заставляющие игральные кости падать, сохранять при падении свою форму и ложиться на какую-либо из своих сторон, то мы не сможем делать никаких исчислений относительно законов случая. Но если мы предположим, что действие таких причин налицо и что все остальное безразлично и определяется лишь случайностью, то нам легко будет дойти до понятия преимущественной комбинации шансов. Очевидным и простым примером такого преимущества является кость, на четырех сторонах которой одинаковое число очков и лишь на двух других иное. Наш ум в силу определенных причин ограничен здесь точным числом и качеством событий, но в то же время свободен при выборе одного или другого события.
Продолжая то рассуждение, в ходе которого нами уже установлены три пункта: чтослучайность не что иное, как отрицание причины, и порождает в уме состояние полного безразличия; чтоодно отрицание причины и одно полное безразличие не может ни превосходить другого, ни уступать ему; чток случайностям всегда должны быть примешаны причины для того, чтобы служить основанием заключения, мы вслед за тем должны рассмотреть, какое действие может оказать на наш ум преимущественная комбинация шансов и каким способом она влияет на наше суждение и мнение. Мы можем повторить здесь все те аргументы, которыми воспользовались при рассмотрении веры, порождаемой причинами, и точно таким же образом доказать, что преимущественное число шансов вызывает наше согласие не при помощи демонстративных доказательствили вероятности.И действительно ясно, что путем одного сравнения идей мы никак не можем открыть ничего такого, что имело бы решающее значение для данного вопроса; и невозможно доказать с достоверностью, что дело должно кончиться в пользу именно той стороны, которая располагает преимущественным числом шансов. Надеяться в данном случае на достоверность значило бы ниспровергнуть все то, что уже установлено нами относительно противоположности (opposition) случайностей и их полного равенства и безразличия.
Если бы мне сказали: хотя при противостоянии случайностей невозможно определить с достоверностью,в пользу какой стороны будет решено дело, тем не менее мы можем с достоверностью сказать, что более правдоподобен и вероятен перевес той стороны, которая обладает большим числом шансов, чем той, у которой их меньше, – если бы мне сказали это, я спросил бы: что подразумевается в данном случае под правдоподобиеми вероятностью?Правдоподобие и вероятность случайных явлений состоят в преимущественном числе равных шансов; а следовательно, говоря: правдоподобно, что дело кончится скорее в пользу более сильной, чем менее сильной, стороны, мы только утверждаем, что там, где большее число шансов, их действительно больше, а там, где их меньшее число, их действительно меньше; но это тавтологичные и ничего не решающие суждения. Вопрос состоит в следующем: каким образом преимущественное число равных шансов влияет на ум и производит веру, или согласие, если оказывается, что тут не играют роли ни аргументы, основанные на демонстративных доказательствах, ни аргументы, основанные на вероятности?
Для того чтобы справиться с этим затруднением, предположим, что некто берет игральную кость, на четырех сторонах которой одна и та же фигура или одинаковое число очков и лишь на двух остальных – иная фигура или иное число очков; предположим далее, что он кладет эту кость в стаканчик, намереваясь бросить ее. Очевидно, он должен заключить, что выход одной из фигур более вероятен, чем выход другой, и притом отдать предпочтение той фигуре, которая начертана на большем числе сторон. Он как бы верит в то, что эта фигура окажется наверху, хотя верит все же с некоторым колебанием и сомнением, пропорционально числу противоположных шансов. По мере уменьшения этих противоположных шансов и увеличения преимущества другой стороны его вера приобретает все новые степени твердости и уверенности. Эту веру вызывает некоторый акт нашего ума, производимый над простым и ограниченным объектом, что облегчает открытие и объяснение ее природы. Стоит нам только рассмотреть одну-единственную игральную кость, чтобы понять одну из наиболее любопытных операций познания.
Эта игральная кость в том виде, как мы ее описали выше, содержит в себе три свойства, достойных нашего внимания: во-первых,определенные причины, как, например, тяжесть, плотность, кубическая фигура и т. д., которые заставляют кость падать, сохранять при падении свою форму и ложиться вверх одной из своих сторон; во-вторых,определенное число сторон, по предположению совершенно одинаковых; в-третьих,определенную фигуру, начертанную на каждой стороне. Этими тремя особенностями исчерпывается вся природа игральной кости, поскольку она имеет отношение к нашей настоящей цели, и, следовательно, они являются единственными свойствами, на которые обращает внимание наш ум, образуя суждение относительно результата бросания такой кости. Рассмотрим же постепенно и тщательно, каково должно быть влияние этих свойств на мысль и воображение.
Во-первых, мы уже отметили, что привычка заставляет наш ум переходить от любой причины к ее действию и что при появлении первой почти невозможно не образовать идеи второго. Постоянное соединение причины и действия в прежних случаях порождает в уме привычку, в силу которой он всегда соединяет их и заключает о существовании одного из них на основании существования его обычного спутника. Когда наш ум представляет игральную кость без поддержки стаканчика, он не может без насилия над самим собой считать ее висящей в воздухе; он, естественно, помещает ее на столе и считает, что она ложится вверх одной из своих сторон. Таково действие переплетающихся причин, необходимых для любого исчисления случайностей.
Во-вторых, предполагается, что хотя кость необходимо должна упасть и обратиться вверх одной из сторон, однако нет ничего такого, что предназначало бы к этому какую-нибудь определенную сторону, так что это целиком определяется случайностью. Природа же и сущность случайности состоят в том, что причины отрицаются и ум остается в полном безразличии к тем явлениям, которые считают случайными. Таким образом, если причины заставляют нашу мысль представлять кость падающей и обращающейся вверх одной из ее сторон, то случайность представляет все стороны равными и заставляет нас рассматривать их одну за другой как одинаково вероятные и возможные. Воображение переходит от причины, т. е. от бросания, к действию, т. е. к обращению кости вверх одной из шести сторон, причем чувствует как бы невозможность остановиться на полпути или образовать какую-нибудь другую идею. Но так как все шесть сторон исключают друг друга и так как кость не может обратить вверх больше одной из своих сторон, то этот принцип не заставляет нас представлять все шесть сторон сразу обращенными кверху, что мы признаём невозможным; он не склоняет нас также со всей присущей ему силой в пользу какой-либо определенной стороны, ибо в таком случае считалось бы достоверным и неизбежным, что выпадет именно эта сторона, но он направляет нашу мысль ко всем шести сторонам, причем поровну разделяет свою силу между ними. Мы заключаем вообще, что какая-либо из них должна лечь сверху при бросании кости; мы перебираем в уме все стороны; наша мысль вынуждена останавливаться на каждой из них, но на долю каждой приходится лишь столько силы, сколько ей подобает пропорционально числу остальных сторон. Вот каким образом первоначальный импульс, а следовательно, и первоначальная живость мысли, порождаемые причинами, делятся и дробятся на части благодаря переплетенным случайностям.
Мы уже рассмотрели влияние двух первых качеств кости, т. е. причин,а также числаи одинаковостисторон, и узнали, каким образом они дают импульс мысли и делят этот импульс на столько частей, сколько содержится единиц в числе сторон. Теперь нам нужно рассмотреть действие третьего условия, т. е. фигур,начертанных на каждой стороне. Очевидно, что, если одна и та же фигура начертана на нескольких сторонах, последние должны совпасть по своему влиянию на ум и сосредоточить в образе, или идее, одной фигуры все отдельные импульсы, которые были распределены между различными сторонами с начертанной на них одинаковой фигурой. Если бы вопрос был лишь в том, какая сторона обратится вверх, все эти стороны были бы совершенно равны и ни одна из них не имела преимущества перед другой. Но так как вопрос касается фигуры и одна и та же фигура начертана более чем на одной стороне, то очевидно, что импульсы, относящиеся ко всем этим сторонам, должны объединиться в одной этой фигуре и приобрести благодаря такому объединению большую силу и принудительность. Предполагается, что в данном случае на четырех сторонах начертана одна и та же фигура, а на двух остальных – другая. Итак, импульсы, побуждающие представлять первую, превосходят импульсы, побуждающие представлять вторую. Но так как события противоположны друг другу и невозможно, чтобы обе фигуры легли сверху, то и импульсы становятся противоположными, причем меньший импульс ослабляет больший, насколько у него хватает силы. Живость идеи всегда пропорциональна степени импульса, или же тенденции к переходу, а вера, согласно вышеизложенному учению, есть то же, что живость идеи.








