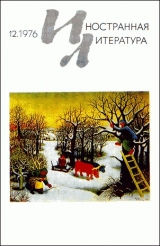
Текст книги "Пожарная команда № 82"
Автор книги: Деннис Смит
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
– Деннис.
– Все в порядке, ма. Все в порядке. Я уже встал.
– Приготовить тебе яичницу с ветчиной?
Смотрю на стенные часы в кухне:
– Нет. Спасибо. Не успею. Уже половина пятого.
Я стараюсь приезжать в часть до пяти, но сегодня буду там не раньше половины шестого.
– Может, выпьешь кофе или чаю?
– Да. Чаю. Спасибо. – Поднимаюсь с кушетки, ищу брошенные на пол носки. Становлюсь на колени, заглядываю под кушетку. Вот они. Теперь брюки. Я оставил их на стуле, но их здесь нет.
– Ма, ты не видала мои брюки?
– Я повесила их на вешалку. Должен же кто-то следить за твоей одеждой. Они висят у меня в шкафу.
Порядок. А где же моя рубашка?
– Послушай, мама, ты не знаешь, куда девалась моя рубашка?
– Она здесь, на кухне. Я только что выгладила ее.
Выхожу на кухню, целую маму в щеку.
– Спасибо, мама, рубашка как новая.
Сажусь за стол и кладу сахар в чай. Мама придвигает ко мне два куска поджаренного хлеба и идет к холодильнику за банкой с вареньем.
– Знаешь, мама, – говорю я, – тебе бы носить фамилию Гольдберг. Ты бы меня еще куриным бульончиком пичкала.
– Я урожденная Хоган, – говорит она. – А по мужу Смит. Но мать все равно мать, какая бы у нее ни была фамилия, она должна заботиться о своих детях. – Она садится напротив меня. – И раз уж на то пошло, хотя мне, может, и не надо бы вмешиваться, – продолжает она, – но я считаю, что в последнее время ты слишком много работаешь, Деннис. Почему бы тебе не переменить место? Ты уже отработал больше пяти лет в этом паршивом районе, на этих бесконечных пожарах. Подыскал бы теперь должность в муниципалитете или еще где-нибудь.
Моя мама считает, что на городской службе я стану влиятельным лицом, что делать мне там ничего не придется, только сидеть и руководить. В Нью-Йорке многие, как мама, помнят времена Демократических клубов и патронажной деятельности «Таммани-холла[1]1
Политический центр демократической партии в Нью-Йорке.
[Закрыть]». Им невдомек, что с этим покончено навсегда.
– Послушай, ма, – говорю я со всей убежденностью, на какую способен, – в этом паршивом районе живет много хороших, работящих людей, но оттого, что они черные, или оттого, что они говорят по-испански, у них нет возможности поселиться в центре Манхэттена, даже в таком перенаселенном и запущенном доме, как твой. А право на услуги города имеют даже те, кто не работает, хотя и мог бы работать. Вот я и предоставляю им услуги. Обслуживаю людей, оказываю им неотложную помощь. И мне нравится так зарабатывать себе на жизнь. Если наступит день, когда моя работа мне разонравится, – тогда я подыщу себе другую. А пока давай не будем больше об этом разговаривать.
– Тебе лучше знать. Может, ты и прав, но, по-моему, это просто безумие оставаться на такой работе, когда ты мог бы получить место в центре города, в хорошей, чистой конторе.
– Спасибо за чай, мама. Я к тебе на днях еще заеду.
Я уже давно усвоил, что одного объяснения в день на любую тему вполне достаточно. Если объяснять все свои поступки, не останется времени на то, чтобы что-то делать.
■
Я живу в небольшом городке Вашингтонвилле. Это милый городок в 60 милях к северу от Нью-Йорка, и единственное, что мне не по душе в нем, – это его слишком длинное название. Окрестности Вашингтонвилла – пологие холмы, на которых пасут скот. Всего лишь десять лет назад местные фермеры начали продавать горожанам земельные участки. Люди приезжали и по сей день приезжают сюда из Нью-Йорка, чтобы приобрести собственный клочок Америки. Полицейские, пожарные, монтажники, учителя, машинисты, автомеханики покидают насиженные места вблизи своей работы. А почему бы и нет? Прожив всю жизнь в тесноте многоквартирных домов, я хочу своим сыновьям дать немного больше простора, чем имел сам, хочу, чтобы они могли гонять на велосипедах и дышать чистым воздухом.
Мой клочок Америки – это дом с четырьмя спальнями и прилегающие к нему пол-акра земли. Дом расположен на вершине холма, из окон – вид на дальние горы и на соседский двор. Здесь царят мир и простота. Правда, мне не дано наслаждаться безмолвием, описанным у Торо, – до меня то и дело доносятся крики играющих во дворе детей, треск соседской газонокосилки или снегоочистителя, но зато – если захочется – я могу посадить здесь грядку фасоли.
Несколько лет назад в Бойсе, штат Айдахо, умерла одна старушка. Она не оставила завещания, и ее имущество разделили между дальними родственниками. Дядя моей жены, слепой бедняк, живущий в Ирландии, стал по тамошним представлениям богачом, состоятельный кузен стал еще состоятельнее. На долю моей жены также пришлось несколько тысяч долларов, как раз достаточно для первого взноса за дом. Из жалованья пожарного нам никогда не удалось бы накопить этих денег. Такова жизнь – я с женой и тремя сыновьями должны были ютиться в трехкомнатной квартире, пока где-то, за тысячу миль, не умерла незнакомая старушка.
Вашингтонвилл – твердыня голдуотеровских республиканцев. Добрососедством мы похвастаться не можем. Здесь каждому предоставляют заниматься своим делом, и до тех пор, пока соблюдаются законы, учащиеся колледжей не устраивают беспорядков и не растут налоги, – горожане ни во что не вмешиваются. Но стоит, как это было недавно, какому-то школьнику, озадаченному выстрелами в Кенте, нарисовать американский флаг, обрамленный вопросительными знаками, а учителю рисования вывесить этот рисунок в школьном коридоре, как здешнее общество Джона Берча тут же сочло своим долгом выступить в защиту американских идеалов и потребовать увольнения учителя. Это были самые впечатляющие местные события с тех пор, как мы здесь живем. Три дня подряд берчисты бесновались на страницах газет. Но наделав много шуму, они в конце концов все же ничего не добились. Рисунок остался висеть в коридоре, учитель остался на работе – обстоятельства, которые внушают надежду моему ирландско-католическо-демократическому сердцу.
В свое время через наш городок тайно переправляли на Север негров, и еще до Гражданской войны многие обрели здесь свободу. Вот почему в Вашингтонвилле живет много черных. Но здесь даже негров и тех не затрагивают сложности, с которыми сталкиваются жители больших городов. Здесь нет настоящей бедности и лишений. Лишь очень немногие значатся в окружных списках на получение благотворительного пособия. В городе нет гетто для черных, во всех кварталах смешанное население. Одна негритянская семья живет на нашей улице, а недавно в дом через два двора от нас въехали негры-молодожены. По этому поводу не было никаких разговоров. Вот чем мне нравится Вашингтонвилл. Жаль только, что пришлось отъехать на шестьдесят миль от Нью-Йорка, чтобы найти такое место.
Как и большинство пожарных, уехавших из Нью-Йорка, я прежде всего думал о своих детях. Я хочу, чтобы мои сыновья ходили в школу, не опасаясь, что старшеклассники отнимут у них деньги на завтрак. Здесь, на просторе, мои ребята могут гонять на велосипедах, потом оставить их где-нибудь и пойти побродить по лесу, а возвратившись с прогулки, найти их в целости и сохранности. Здесь они могут научиться защищать себя и в споре с соседскими детьми отстаивать то, во что они верят. Их не будут терроризировать банды малолетних хулиганов. Таких здесь нет. Здесь мои сыновья смогут расти без лишних травм.
Обстановка, разумеется, как и люди, меняется день ото дня. Возможно, наступит время, когда придется собрать семью, пожитки и снова тронуться в путь. Как глава семейства, я должен бдительно следить за переменами, которые могут повлиять на наше положение в местном обществе. Пока мы чувствуем себя уверенно. Но может быть, завтра нам придется оставить насиженное место. Это не бегство, скорее – попытка своевременно уйти от безумия.
Нью-Йорк попросту чересчур велик. Я слишком долго в нем жил, чтобы его ненавидеть, но слишком хорошо его знаю, чтобы любить. До сих пор я все еще воспринимаю себя как его частицу, но уже смотрю со стороны, словно бывший жокей, который стал конюхом. Я зарабатываю тем, что ухаживаю за своим питомцем, но что тут поделаешь, если не мне с ним работать, не мне вести его к победе, не мне завоевывать призы. Хозяева Нью-Йорка – это либо аристократы, не знающие, что такое труд, либо пробившиеся в верха политические пройдохи. Я никогда не считал, что аристократы действительно озабочены проблемами бедности и невежества, что они действительно сочувствуют людям, вынужденным ютиться в трущобах, именуемых жилыми домами, где кишат паразиты. Напротив, я считаю, что закрытые учебные заведения, в которых они воспитывались, и замкнутый светский круг, в котором они вращались, развили в них склонность к снисходительной благотворительности, которая так привлекательна на бумаге и в их предвыборных речах. Наркомания, распространенная в нашей стране, не представляла для них никакой проблемы, пока не стали сажать за решетку их собственных детей. И против войны в Азии они находят лишь самые легковесные моральные доводы, это не их детей привозят домой в прямоугольных ящиках, и не им приходится смотреть в глаза смерти.
Гораздо больше я уважаю политиков старого толка.
Те, по крайней мере, способны были увидеть, что наша система уродлива, и обучились искусству управлять в ее рамках. Они платили налоги городским властям, а не подкупали их. Они научились правильно складывать салфетки после обеда, пробиваться в первые ряды, когда щелкают фотоаппараты, бойко отвечать на любые вопросы. Они никогда публично не отдавали приказов полицейским, а тихо обращались за помощью к капитану полиции. Они делали свое дело.
Теперь в Нью-Йорке плохо идут дела. Город умирает. Городские налоги утекают в Олбани, столицу штата, и мало что поступает в обмен. Финансы богатейшего в мире города контролируются людьми, представляющими в государственном законодательстве фермеров. Это нелепо.
Последняя реальная надежда для Нью-Йорка блеснула, когда Норман Мейлер и Джимми Бреслин выставили свои кандидатуры соответственно на пост мэра города и председателя муниципального совета. Мейлер намеревался превратить Нью-Йорк в 51-й штат – разбить город на множество небольших городков-спутников, хотя население каждого все равно превосходило бы население штата Вермонт. А Бреслин – один из немногих людей, понимающих сегодня, что речи, которыми обмениваются в углу за столиком водопроводчики, представляют определенный интерес. Но оба претендента потерпели в этих скачках поражение – силы были неравны. Когда колесо Демократии не спеша обернется и подойдет черед следующих выборов, я уже не буду принимать в них участия. Я собираюсь остаться вне игры. Подобно жокею, я люблю эту лошадь, и мне горько, что результат скачки от меня не зависит.
Да, Нью-Йорк для меня слишком велик. И не только для меня, я думаю. В нем слишком много людей, слишком много школ, слишком много чиновников, слишком много заключенных, слишком много «кадиллаков», слишком много безработных, слишком много банков, слишком много заброшенных зданий, слишком много бед.
Но мы – вся наша семья из пяти человек – по сей день ютились бы в трехкомнатной квартире нью-йоркского многоквартирного дома без лифта, если бы не старушка, которая забыла оставить завещание...
■
Сижу у себя дома на кухне и смотрю, как моя жена Пэт готовит омлет с грибами. Она стоит ко мне спиной и сбивает в сковородке яйца. Сейчас три часа дня. Дети гуляют. Мне хочется обнять жену, сказать ей, как я ее люблю, приласкать. Но нет времени – надо ехать на работу, успею только съесть омлет и выпить чаю...
– Уже четверть четвертого, – говорит Пэт, – если хочешь поспеть в часть к пяти, надо торопиться.
Она наливает чашку чаю и садится напротив. Проницательные, чуткие глаза устремлены на меня, нижняя губа прикушена, Это ее привычка: она всегда прикусывает нижнюю губу, когда у нее что-нибудь на уме. Принимаюсь за омлет. Пэт пристально смотрит на меня и молчит. Я ем, а она молчит. Наконец доедаю омлет и кладу сахар в чай.
– Ну хватит, Патриция Энн, нечего прикусывать губу, – говорю я, размешивая сахар в чашке. – Выкладывай, что там у тебя.
– Так, не важно.
Всякий раз, когда предстоит важный разговор, Пэт сначала говорит, что это не важно.
– Не хитри. Если ты вот так смотришь на меня, прикусив губу, значит, тебе надо мне что-то сказать.
– Честное слово, ничего особенного. Просто беспокоюсь, хорошо ли ты себя чувствуешь, можно ли тебе снова выходить на работу.
– Я совершенно здоров, дорогая. Ей-богу. Если бы я знал, что ты так беспокоишься, я бы принес справку от врача.
– Не валяй дурака, Деннис. На днях я разговаривала с твоей мамой...
– Ах вот оно что! – прерываю я жену.
– Вот именно. И она совершенно права! Сколько лет еще ты намерен оставаться в Южном Бронксе? Когда ты работал в Куинсе, я была гораздо спокойнее, тогда ты, по крайней мере, возвращался хоть похожий на человека. А теперь ты добираешься до дому полумертвый от усталости – если вообще не оказываешься в какой-нибудь больнице, где тебе делают рентген, накладывают швы, лечат ожоги. Даже из Вьетнама солдат отпускают домой через год службы, а ты работаешь в своей 82-й пожарной команде уже больше пяти лет.
Пэт искренне расстроена; и меня это удивляет – раньше она никогда открыто не выражала своего беспокойства. Жена каждого пожарного тревожится о своем муже, но до сих пор Пэт держала себя в руках. Ее лицо морщится, годами подавляемая тревога готова вырваться наружу. Надо переубедить, успокоить жену. Но что я могу сказать, чтобы развеять ее страхи? Сколько еще лет? Никогда не задумывался над этим. Может, действительно наступило время перебираться в чистый район с хорошо обеспеченным белым населением, где ложные тревоги происходят лишь по вине приезжих европейцев, по ошибке принимающих коробку пожарного сигнала за почтовый ящик? Где нет заброшенных зданий или брошенных автомобилей, которые так удобно поджечь. Сколько лет? Почему я остаюсь работать в Южном Бронксе – из чувства некоего абстрактного морального долга, потому что считаю, что бедных надо защищать от огня и что защищать их —моя обязанность? Ведь пожары, как преступления и болезни, больше всего угрожают беднякам. Что же я, воюю со злом или просто делаю свою работу?
Наклоняюсь над столом и беру жену за руку.
– Послушай, малышка, – говорю я, – перестань тревожиться. Я уже не раз говорил тебе: если пожарному суждено получить увечье или даже погибнуть, это с таким же успехом может произойти в Куинсе или Статен-Айленде, как и в Южном Бронксе. Ты права – иногда я возвращаюсь домой усталым. Но я еще молод. Мне все это по силам. Разве ты слышала когда-нибудь, чтобы я жаловался на свою работу?
– Я о другом, Деннис, – умоляюще говорит она, – я просто не понимаю, почему ты хочешь заниматься именно этим, когда можешь получить место учителя в средней школе рядом с домом. Ты мог бы работать там с девяти до трех. Рождество проводить дома, отдыхать целое лето. К тому же ты бы и зарабатывал больше. Но дело не в деньгах. Просто я не могу тебя понять.
Чувствую себя беспомощным, разоблаченным. Ведь мне действительно нечего сказать в свое оправдание, кроме того, что я люблю именно эту работу. Ставлю пустую чашку в раковину, подхожу к жене и сжимаю в ладонях ее милое лицо.
– Послушай, Пэт, – говорю я почти шепотом, – через каких-нибудь двенадцать лет я выйду на пенсию и буду получать половину теперешнего жалованья. Мне исполнится всего сорок два года, и мы сможем переселиться в какой-нибудь тихий университетский город в Новой Англии, или уедем в Ирландию, или вернемся в Нью-Йорк – куда душе угодно. Сможем жить в свое удовольствие, ни о чем не думать. Дети подрастут. Захотим – будем путешествовать, не захотим – не будем, у нас, по крайней мере, появится возможность выбирать, А пока – мне нравится мое дело. Оно доставляет мне удовлетворение и как рабочему и как человеку. Я могу приносить людям пользу.
Звонит телефон. Это Арти Мэррит, живущий в десяти милях от нас. Он хочет, чтобы я подбросил его на работу. У него сломался автомобиль. Уже половина четвертого, пора ехать. На прощанье целую Пэт. Понимаю, что объяснение не успокоило ее. Но здравый смысл побеждает – я вижу это по ее глазам, – и вопрос о моей работе в пожарной команде № 82 остается висеть в воздухе.
■
Завтра пасха. У меня выходной, и я проведу его дома вместе с Пэт и мальчиками. К нам в гости приедут брат с семьей и мама. Брат станет рассказывать об умственно отсталых детях, которых он учит читать и писать, и мы будем ругать наших собственных детей за то, что они так шумят. Я буду рассказывать о пожарах и пожарных, а мама – об успехах и неудачах моих одноклассников и сверстников. Мы будем смеяться и петь песни вместе с детьми. Малыши начнут хватать струны моей гитары, и пение прервется. Мы наедимся до отвала, а потом дети станут уговаривать меня сыграть на волынке, и я буду отказываться, ссылаясь на усталость и набитый живот. Когда уберут со стола, аккуратно завернут в целлофан остатки окорока и умолкнет отвратительное завывание посудомойки, мы сядем у камина вместе с женщинами, станем потягивать бренди, грызть орехи и бросать скорлупу в огонь. Славный будет день.
Сейчас 8 утра, я только что переехал через мост Джорджа Вашингтона. Транспорт на автостраде Бронкс-экспрессвэй движется медленно. День выдался холодный, я вижу, как выхлопные газы впереди идущих машин поднимаются над землей и смрадный туман становится еще гуще.
Проезжая по Хоум-стрит, замечаю, что одна из верхних механических дверей нашего депо все еще сломана и по-прежнему полуоткрыта. Эта дверь неисправна вот уже две недели, а наш официальный запрос о починке все пересылается из одного департамента в другой. По радио только что передали прогноз погоды: сегодня один из самых холодных апрельских дней в истории Америки, а дверь прикрыта лишь тонким куском брезента. Ставлю автомобиль и направляюсь в депо – хорошо бы организовать сидячую забастовку. Я уже звонил в профсоюз, и в свою очередь начальники команды справлялись о судьбе нашего запроса. Но и от администрации, и от профсоюза получен один и тот же стандартный ответ: «Вопрос рассматривается». Они будут рассматривать вопрос, а у нас пока будут отмерзать задницы. Надо бы объявить забастовку до тех пор, пока городские власти не примут меры. Хороший профсоюз не удовлетворился бы таким ответом и потребовал бы перевода людей в теплое помещение. Не поднимай шума, говорю я себе, не то загонят тебя куда-нибудь на самую окраину Статен-Айленда. Поступит приказ: «Пожарного первой категории Денниса Е. Смита перевести из пожарной команды № 82 в пожарную команду № 400». И тогда на дорогу до работы у тебя будет уходить три часа в одну сторону. Нет, не поднимай шума, повторяю я про себя. Лучше напяль еще один свитер.
Двадцать минут десятого. Иду в кухню выпить кофе. Здесь, как всегда, в центре внимания Чарли Маккарти. Он рассказывает о своих похождениях прошлой ночью на Вестчестер-авеню. Ребята с чашками в руках сгрудились вокруг него, и Чарли разливается соловьем: «И вот под конец занесло меня в один кабак где-то возле 174-й улицы. За стойкой – красотка. Чуть ли не в чем мать родила. Буфера что надо, но фальшивые. Расчет на дураков. Ясно? Я, значит, принимаю стаканчик виски, а сам оглядываюсь по сторонам. Вокруг полно хорошеньких пуэрториканочек, но каждая – со своим ухажером. Так что остается краля за стойкой. Только я на нее уставился, появляются трое. И дураку ясно: полицейские – спортивные пиджачки, начищенные ботиночки и все такое прочее. Один подходит к стойке, облокачивается и начинает разглядывать кабак, словно он здесь хозяин. Пиджак расстегнут, рука на поясе, и кобуру видно. Ну, думаю, и дерьмо же ты. Не стал с ним связываться и смотался домой».
Ребята ухмыляются, но хохота не слышно. Билли-о бросает газету на стол и говорит:
– И это все, Чарли?
Чарли стоит спиной к стене, словно готовится отразить нападение.
– Не помню, – отвечает он. – К сожалению, я оставил свои заметки в шкафу.
– Ну так сходи загляни в них, – говорит Билли, – потому как твоя история остроумием не блещет.
– Подумаешь какой профессор остроумия нашелся, – обрывает Чарли.
– Я, может, и не самый остроумный человек на земле, – говорит Билли-о, – но уж тебя-то я знаю как облупленного и россказни твои могу оценить по достоинству. За эту историю ты получаешь кол. Не больше.
– Да что ты понимаешь, Билли? Ты хорошей шутки в глаза никогда не видел, а увидишь – не узнаешь. Ну, ладно, время девять тридцать. Тащи наверх свою «Нью-Йорк таймс», сможешь подтереть ею пол.
Раздается проверочный сигнал. Одиннадцать звонков, потом еще одиннадцать. Время для уборки помещения. Мы все дали согласие поработать сегодня сверхурочно. Решили оставить депо в чистоте для тех, кто завтра будет здесь разговляться. Если мы сегодня поработаем на совесть, на долю завтрашнего караула останется не слишком много дел. Нехорошо заставлять людей драить полы в светлое пасхальное воскресенье.
Разбиваемся на группы – у каждого свои обязанности. Билли-о идет в раздевалку, я беру метлу и направляюсь к лестнице, ведущей в подвал. Выходя слышу, как Чарли, взгромождая стулья на столы, ворчит:
– Неудивительно, что он не может понять хорошую шутку, – у читателей «Нью-Йорк таймс» не бывает чувства юмора.
Спускаясь по лестнице, усмехаюсь про себя.
В подвале нашего депо стоят большой биллиард, маленький биллиард-карамболь и стол для пинг-понга. Мы купили их на свои деньги, но поиграть удается не так уж часто, мне во всяком случае. Только начнешь партию в биллиард или в пинг-понг – раздается сигнал пожарной тревоги. А когда возвращаемся с пожара, мне уже не до игры. Но некоторых наших ребят не так-то легко вывести из равновесия, и от пожара до пожара они торчат в этом сыром, грязном подвале. Я же провожу свободное время в кухне – читаю журналы, смотрю телевизор или просто болтаю с пожарными из гаража.
Стою посреди подвала. Большую часть его занимают отопительный котел и бак с горючим. Здесь же стол, несколько деревянных скамеек, которыми мы разжились в соседней школе, и десятка три деревянных подпорок, их недавно поставили для укрепления потолка – балки перекрытия подгнили. Цементный пол весь в масляных пятнах, возле биллиардных столов усыпан раздавленными окурками. Начинаю подметать. Возле котла замечаю, что решетка слива сдвинута и в полу – дыра. Кто-то из ребят оправлялся прямо здесь, вместо того чтобы подняться наверх в уборную. Бросаю метлу, беру шланг, соединенный с водяной системой котла, и обмываю пол вокруг слива. Потом подталкиваю ногой решетку, прикрываю ею дыру в полу и тщательно промываю все это струей воды. Теперь здесь будет немного чище.
Покончив с уборкой подвала, возвращаюсь в кухню. Билли-о как раз прикалывает на доску объявлений какой-то листок. Брандмейстер Лэни заболел инфекционной желтухой, говорит он.
– Я, конечно, не ручаюсь, но по-моему, он подцепил ее именно здесь. И у нас есть единственный способ оградить себя от заразы. Вот, читай.
Читаю написанное отчетливыми, разборчивыми буквами объявление:
К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ОБИТАТЕЛЕЙ БОЛЬШОГО ДОМА.
В связи с недавно выявившимся случаем гепатита у одного из наших служащих (второй случай на протяжении года) был проведен общественный опрос о мерах улучшения санитарных условий в кухне, а также и во всех других помещениях. Один из З.П. (завсегдатаев подвала) предложил установить над сливом биде, другой посоветовал приобрести дезинсекционную установку, а третий – приспособить огнетушитель, чтобы персонально обмывать себя и свою драгоценную «мадам сижу» до и после работы. Но верх одержал здравый смысл – большинство высказалось за покупку одной или двух новых посудомоек. На это, естественно, потребуются средства, а посему предлагается вносить с каждой зарплаты по доллару до тех пор, пока мы не соберем 700 долларов (7 взносов). Дело это, разумеется, добровольное. Но в противном случае – проказа, сифилис, гонорея, грипп и т. п.
Благодарю за внимание.
Билли О'Манн.
– Дохлое дело, Билл, – говорю я, – мне нравится твой пыл, но до тех пор, пока посуду будут мыть стажеры, ты никого из наших не заставишь раскошелиться на семь долларов.
– Именно. Пока посуду моют стажеры, она никогда не будет чистой. Они работают без души.
Билли-о прав. Тарелки и столовые приборы у нас в депо всегда сальные – посудомойка нам действительно нужна. Но мы только что собрали 300 долларов на мясорезку, и вряд ли найдутся охотники вносить деньги на посудомойку, поскольку в ней нет крайней необходимости. Инфляция ударяет по каждому из нас.
Сейчас четверть одиннадцатого. Раздается сигнал пожарной тревоги. Пожарный извещатель 2743. Первый выезд за смену. Угол Шарлотт-стрит и 170-й улицы. Без вызова из пожарного извещателя 2743 дня не проходит.
Сбрасываю ботинки, чтобы залезть в сапоги. Холод пронизывает ноги. Сегодня дежурит Марти Хэннон из 85-й команды – на нем толстая брезентовая роба, вокруг шеи обмотан шарф. Дежурный раздвигает сломанные двери, и пожарная машина выезжает на Интервэйл.
На пронизывающем ветру нас ждет молодая девчонка, худая, бледная, лет 22. Отороченные мехом домашние туфли, полы бумажного халатика плещутся на ветру.
– Мой муж перебрал наркотиков, – говорит она.
– Адрес? – спрашивает капитан Олбергрей.
– Сиберри-плейс, дом 811, квартира 6, – отвечает она.
Машина трогается с места, девчонка идет следом. До Сиберри-плейс всего один квартал. Подъезжаем к дому 811. На лестнице кто-то нацарапал прямо на каменной стене: «НАРКОМАНАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН. ВХОДЯ, ВЫ БЕРЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ». Лучше не придумаешь. Поднимаемся по лестнице на второй этаж. Капитан Олбергрей и я– впереди, за нами – Дэнни Гейнфул, Билли-о и другие пожарные 31-й команды. Дверь в квартиру № 6 открыта. На полу в кухне лежит красивый молодой пуэрториканец. Над ним склонились какие-то ребята – парень и девушка.
– Принесите льда, – говорит Дэнни, обращаясь к девушке. Она в дурмане и, кажется, не понимает, что происходит вокруг.
– Лед несите! – кричит Дэнни, но девчонка по-прежнему бессмысленно глядит на него. Парень идет к холодильнику. Дэнни и я становимся на колени по обе стороны распростертого на полу тела. У Дэнни в руке лед – он кладет его пуэрториканцу под мошонку. Я тоже беру кусок льда и подкладываю его парню под затылок. Дэнни шлепает пуэрториканца ладонью по лицу, щиплет ему щеки, а я изо всех сил трясу его за плечи. Появляется брандмейстер Ниброк; он приказывает лейтенанту Лайерли послать одного из пожарных 31-й команды вниз, за аппаратом искусственного дыхания, но Билли-о уже пошел за ним.
– Как его зовут? – спрашивает Дэнни у девчонки.
На этот раз вопрос доходит до нее.
– Питер, – следует ответ.
Я проверяю зрачки пуэрториканца. По-прежнему сужены. Пульс едва прощупывается.
– Эй, Питер! – зову я. – Очнись! Вставай! Скажи мне что-нибудь. Как ты себя чувствуешь? Не очнешься – наркотик убьет тебя. Давай-давай!
Входит Билли-о с аппаратом искусственного дыхания. Он проверяет точность установки на «вдох» и прикладывает маску к лицу парня. Кислород оказывает свое действие. Жена парня стоит рядом и скулит:
– Он не наркоман. Не наркоман он!
– Какого же черта вы его накачали? – спрашивает Дэнни.
– Он сам! Он сам перебрал лишнего! – кричит она.
– Перебрал, – повторяет Дэнни, взглянув на меня. – И чуть на тот свет не перебрался.
Я понимаю его чувства. На лице Дэнни гримаса отвращения. Он хорошо знает, какое это бедствие, наркотики – распростертый на полу парень, клюющие носами дружки, беспомощная жена, – но он столько этого перевидал на своем веку, что убежден: бороться бесполезно. Появляется санитар «скорой помощи» с каталкой, и мужчины выносят парня из дома. Выходя из квартиры, Дэнни говорит:
– Ну и помойная яма.
Я оглядываюсь вокруг и киваю в знак согласия.
– Позор, – возмущается он.
Спускаясь вниз по лестнице, думаю о разоблачительных романах начала XX века. Дела тогда были плохи. Жестоко обращались с еврейской беднотой, тяжко приходилось ирландцам и немцам, сербам и итальянцам – всем, у кого не было денег. Но это было 50—70 лет назад. У обитателей Южного Бронкса по-прежнему нет денег, но до них вообще никому нет дела. Они брошены на произвол судьбы, погружены в апатию, а их дети колют себя наркотиками.
Снова в кухне. Часы показывают одиннадцать. Билли-о и Джерри Герберт готовят завтрак. На стойке стоят две огромные сковороды. Билли-о заполняет их длинными тонкими колбасками. Джерри Герберт режет зеленый перец, потом смешивает его с уже нарезанным луком. Четырнадцать итальянских хлебцев лежат в углу стойки и ждут, когда их разрежут пополам, – получится двадцать восемь сандвичей. Сытный завтрак за 60 центов.
Занятие поваров прерывает сигнал тревоги. Дневальный кричит:
– Восемьдесят вторая и тридцать первая! Симпсон-стрит, 1335, третий этаж. – Он повторяет адрес и добавляет: – Брандмейстер тоже едет.
Пожарная машина в сопровождении грузовика спасателей и легкового автомобиля брандмейстера выезжает из депо. Едем по 169-й улице. Сворачиваем на Симпсон-стрит. Сквозь оконную раму на третьем этаже пробивается дым.
– Проложить линию на три скатки! – приказывает капитан Олбергрей, торопливо проходя мимо. Мы выполняем приказ, машина отъезжает к гидранту... Винни Ройс со стволом в руках бежит в здание. Вилли Ниппс и я следуем за ним, подтягивая пустой рукав.
Навстречу нам по лестнице спускаются пуэрториканцы всех возрастов и состояний – старики пытаются бежать, хоть им это и не по силам, девчонки тащат грудных младенцев и кричат на детей постарше, красивые подростки сводят по ступеням дряхлых старух. Суматоха все усиливается. Спотыкаясь, падает старик, рыдает женщина, истерически кричит мать, потерявшая малыша. Экспрессивная испанская речь, подстегиваемая волнением, звучит еще стремительнее и эхом отдается на лестничной клетке. От пронзительных криков этот исход кажется еще более паническим, чем на самом деле. На третьем этаже мимо нас протискиваются трое подростков. Двое тащат телевизор, третий – портативный магнитофон. В доме пожар, и бедные люди пытаются спасти самое ценное.
Мы ждем на площадке, пока Билли присоединит насос пожарной машины к гидранту и откроет вентиль. 31-я команда осмотрела помещение. Горящая квартира пуста и необитаема. Ричи Риттмен стоит на коленях, лицо его перепачкано, из глаз и носа течет.
– Горит только в одной комнате, – говорит он Ройсу, – ничего страшного, работа – раз плюнуть.
Вода пошла по стволу, и Ройс весь напрягся, чтобы его удержать.
– Двинулись, Винни, – говорит капитан Олбергрей.
Ползком они пробираются в горящую квартиру, а я следом за ними тащу рукав. Длинный грязный коридор. Винни проникает в крайнюю комнату и открывает воду. Сначала на потолок. На стены. Кругами. 150 галлонов в минуту. Через мгновенье огонь исчезает. 60 секунд льется вода – и здание спасено. От воды почти ничего не пострадало. Отличная работа. Не придется освобождать квартиры на нижнем этаже – потолки не промокнут, не обвалятся.








