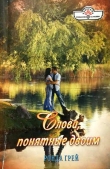Текст книги "Лунная миля"
Автор книги: Деннис Лихэйн
Жанры:
Крутой детектив
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В конце дня я выйду из офиса, поеду домой, буду ждать нового звонка от «Дюхамел-Стэндифорд», нового испытания. А счета будут приходить каждый день. Холодильник будет пустеть, и того, что его полки по волшебству заполнятся, ожидать не приходится. В конце месяца нужно платить за медицинскую страховку «Голубого щита», а денег на нет.
Я откинулся в кресле. Добро пожаловать во взрослую жизнь.
Мне надо было дополнить полдюжины файлов и написать три отчета по делу Брэндона Трескотта, но вместо этого я поднял трубку и позвонил Ричи Колгану – Самому Белому Негру Во Всей Америке.
Он был на месте:
– «Трибьюн», отдел городских новостей.
– Вот по голосу ни за что не догадаешься, что ты черный.
– Голоса моих собратьев ничем не отличаются от голосов расистов-плантаторов, угнетавших наш гордый и величественный народ.
– То есть ты хочешь сказать, что, когда трубку берет или Дэйв Шапелл, или Джордж Уилл, мне ни в жизнь не угадать, кто из них белый?
– Нет, но в приличном обществе такие разговоры – все еще verboten. [1]1
Зд.: табу ( нем.).
[Закрыть]
– Ага, а теперь ты немец, – сказал я.
– Со стороны моего франко-расистского папашки, ага, – ответил он. – Чего звонишь-то?
– Помнишь Аманду Маккриди? Девочка, которая…
– Пропала. Лет пять назад?
– Двенадцать.
– Лет? Черт. Это какие же мы старики с тобой?
– Помнишь, как в колледже мы хихикали на старперами, которые восхищались какой-нибудь «Пятеркой Дэйва Кларка» и Бадди Холли?
– Ну да.
– Вот теперь детишки так же ржут, когда мы вспоминаем Принса и «Нирвану».
– Да брось, быть такого не может.
– Может-может, дедуля. Так вот, Аманда Маккриди…
– Ага. Ты нашел ее, она жила у копа в семье, ты вернул ее родителям, копы тебя ненавидят, и тебе чего-то от меня надо.
– Нет.
– Никаких услуг от меня не требуется?
– Ну, вообще-то требуется. Дело связано с Амандой Маккриди. Она снова пропала.
– Ни фига себе.
– Именно. А ее тетка говорит, всем наплевать – и копам, и вам тоже.
– Сомневаюсь. Круглосуточные новости, все такое – мы сейчас за любой материал хватаемся.
– Теперь понятно, почему Пэрис Хилтон так популярна.
– Не, этот феномен ничем не объяснишь, – сказал он. – Як тому, что когда спустя двенадцать лет пропадает девочка, которую уже раз похищали, и при этом известно, что в результате первого похищения несколько копов попали за решетку, а городу пришлось выплатить пару-тройку миллионов, да еще в трудный для бюджета год… Это, снеговик, очень ценная новость.
– Вот и я так подумал. И кстати, ты сейчас почти как негр говорил.
– Расист. Как тетку-то зовут, э-э-э… Белоснежка?
– Беа. Беатрис Маккриди то есть.
– Тетушка Беа, а? Правда, у нас тут совсем не Мэйберри.
Он перезвонил через двадцать минут:
– Все оказалось очень просто.
– Чего нарыл?
– Переговорил с Чаком Хитчкоком – детективом, который вел это дело. Он сказал, что они проверили заявление тетки, съездили домой к матери Аманды, поговорили с ней.
– Поговорили? С Амандой?
– Ага. Заявление оказалось липой.
– С чего бы Беа стала выдумывать?
– О, эта Беа просто пупсик. Мать Аманды – как там ее, Хелен, что ли? Так вот, Беа к ней приближаться не имеет права, решением суда. После того как у нее самой сын помер, она слегка умом трону…
– Стоп, чей сын?
– Сын Беатрис Маккриди.
– Он жив-здоров, в «Монументе» учится.
– Нет, – медленно произнес Ричи. – Не учится. Он умер. В прошлом году он вместе с парой друзей ехал в машине – хотя по возрасту им за руль садиться было нельзя. Пить им тоже рановато, но они выпили. Проскочили на красный – у подножия того здоровенного холма, где когда-то еще стояла больница Святой Маргариты. Ну вот на Слоутон-стрит их и расплющило автобусом. Двоих убило, а двое теперь ходить и говорить одновременно не в состоянии. Один из погибших – Мэттью Маккриди. Я вот прямо сейчас в наш веб-архив зашел. Дата – пятнадцатое июня прошлого года. Ссылку прислать?
Глава 5
Когда я вышел из метро и направился домой, голова у меня все еще кружилась. Закончив разговор с Ричи, я щелкнул на ссылку, которую он мне прислал, – статья с четвертой страницы, прошлый июль. Четверо ребят нагрузились «Ягермайстером», накурились, решили прокатиться с ветерком. У водителя автобуса даже на гудок нажать времени не было. Гарольд Эндалис, 15 лет, парализован ниже пояса. Стюарт Беррфилд, 15 лет, парализован от шеи и ниже. Марк Макграт, 16 лет, скончался по прибытии в больницу Карни. Мэттью Маккриди, 16 лет, умер на месте. Я спустился по лестнице с платформы и по Кресент-авеню направился домой, вспоминая, какой дурью маялся сам в шестнадцать лет и как эта дурь могла – а по совести, и должна была – меня угробить.
Первые два дома по Кресент – одинаковые, маленькие белые кейп-кодские коттеджи – пустовали, пав жертвой ипотечного кризиса, который расползся по стране. Когда я проходил мимо второго из них, ко мне подскочил бомж:
– Слушай, брат, минуты не найдется? Я не попрошайка.
Он был невысокого роста, тощий и бородатый. Бейсболку, хлопковую толстовку и вытертые джинсы покрывал слой грязи. Несло от него так, что сразу было понятно – душ он принимал очень давно. Впрочем, в глазах у него не читалось характерной для торчков напряженности и истеричной злобы.
Я остановился.
– Чего тебе?
– Я не попрошайка. – Он поднял руки, как бы защищаясь от самой этой идеи. – Просто хочу это сказать.
– Ладно.
– Я милостыню не прошу.
– О’кей.
– Но у меня ребенок маленький, понимаешь? А работы никакой нету. Старушка моя болеет, а сыну-то всего только и надо что немного молочной смеси. А эта срань стоит под семь баксов, и я…
Я не видел, как его рука метнулась к моему плечу, но сумку из-под ноутбука он все-таки сдернул. И рванул изо всех сил к ближайшему заброшенному дому. В сумке находились мои заметки, собственно ноутбук и фотография моей дочери.
– Идиот, мать твою, – сказал я, не до конца понимая, кого имею в виду – себя или бомжа. Возможно, нас обоих. Кто ж знал, что у него такие длинные руки?
Я бежал за ним вдоль стены заброшенного дома, по вымахавшей по колено траве, раздавленным пивным банкам, пустым пенопластовым коробкам из-под яиц и разбитым бутылкам. Сейчас в этом доме, наверное, селились бездомные. Когда я был еще пацаном, тут жило семейство Коуэн. Затем – Урсини. А потом дом купила семья вьетнамцев, здорово его облагородившая. Когда отец семейства потерял работу (вскорости и жену его тоже уволили), они только начали ремонтировать кухню. У здания до сих пор не хватало одной стены – вместо нее на гвоздях висел кусок полиэтиленовой пленки, хлопавшей на вечернем ветру. Я выскочил на задний двор, до бомжа оставалось всего несколько футов, а на пути у него стоял забор из металлической сетки. Краем глаза я уловил движение слева от себя. Пленка разошлась в стороны, черноволосый парень вмазал мне по роже куском трубы, меня развернуло, и сквозь полотно я рухнул на пол так и не законченной кухни.
Не знаю, сколько я там валялся. Достаточно долго, чтобы заметить – за раковиной и из стен кто-то уже выдрал всю медь, какая там была. Достаточно долго, чтобы быть более-менее уверенным – челюсть не сломана, хотя вся левая половина лица одновременно и горела, и онемела, и из нее капала кровь. Я поднялся на колени, и в голове моей разорвалась начиненная гвоздями бомба. Все, что не находилось непосредственно передо мной, поглотила тьма. Пол заходил ходуном.
Кто-то помог мне встать, затем толкнул меня к стене, а кто-то еще засмеялся. Третий человек (он стоял подальше) сказал:
– Давай его сюда.
– Не думаю, что он может ходить.
– Ну, тогда тащи его.
Чьи-то пальцы как тисками сжали сзади мою шею, и меня провели в то, что когда-то было гостиной. Тьма отступила, и я смог разглядеть маленький камин – полку с него отодрали, вероятно пустив на дрова. Я уже однажды был здесь – когда Брайан Коуэн провел нас, таких же, как он, шестнадцатилетних пацанов, устроить налет на запасы спиртного, хранившиеся у его отца. Тогда под окном стоял диван. Сейчас на этом месте стояла унесенная из какого-то парка скамейка, а на ней сидел человек. Он смотрел на меня. Меня кинули на диван напротив него – загаженное оранжевое нечто, вонявшее, как мусорный бак за рестораном «Красный лобстер».
– Блевать будешь?
– Мне и самому это интересно, – ответил я.
– Я велел ему остановить тебя, а не бить трубой по морде, но он немного переусердствовал.
Теперь я смог разглядеть парня с трубой – стройный, черноволосый латинос в майке и армейских брюках цвета хаки. Пожав плечами, он похлопал трубой по ладони:
– Ну ой.
– Ой, значит, – сказал я. – Я это запомню.
– Хрена лысого ты запомнишь, пендехо,я тебе еще вмажу.
С логикой не поспоришь. Я перевел взгляд с шестерки на сидевшего на скамейке босса, ожидая увидеть накачанные в тюряге мышцы, выращенную в тюряге злобу и водянистые глаза. Вместо этого обнаружилось, что он одет в желто-зеленую клетчатую рубашку, черный шерстяной свитер и песочного цвета вельветовые брюки. А на ногах у него были парусиновые туфли Vans с узором из черных и золотых квадратов. Он выглядел не как уголовник; он выглядел как учитель физики в частной школе.
Он сказал:
– Я знаю, какие у тебя друзья, и знаю, в каких заварухах ты побывал, так что запугивать тебя – дело трудное.
Надо же. А я уже от страха чуть не обосрался. Еще я был в ярости и инстинктивно запоминал каждую примету этих двух типов, одновременно думая, как бы отобрать у латиноса трубу и засунуть ему в задницу, – но страшно мне было, это точно.
– Сначала ты захочешь нас найти и отомстить – если мы оставим тебя в живых. – Он развернул пластинку жевательной резинки и отправил ее в рот.
Если.
– Тадео, дай ему полотенце, лицо вытереть.
Учитель физики вскинул бровь:
– Ага, все верно – я назвал его по имени. И знаешь почему, Патрик? Потому что ты не станешь нас искать. И знаешь, почему ты не станешь нас искать?
– Нет.
– Потому что мы очень, очень плохие парни, а ты – мягкий как говно. Может, когда-то это было и не так, но сейчас – не «когда-то». Как я слышал, бизнес твой пошел ко дну, потому что ты бросал любое дело, от которого хотя бы отдаленно попахивало проблемами. Вполне разумное решение для парня, которого подстрелили, да так, что он чуть коней не двинул. И тем не менее говорят, что у тебя теперь кишка тонка играть на нашем уровне. Ты этим больше не занимаешься, да и не хочешь заниматься.
Тадео вернулся из кухни и кинул мне пару бумажных салфеток. Я протянул руку, меня качнуло влево, а он тихо хохотнул и провел куском трубы по моей шее.
Рукой я выхватил у него трубу, а ногой в это же время изо всех сил вмазал ему по колену. Тадео упал, а я вскочил с дивана. Физик крикнул: «Эй!», навел на меня пистолет, и я застыл. Тадео задом отполз к стене. Встал, опираясь на здоровую ногу. А я так и стоял, с трубой в руке, замерев на полувзмахе. Учитель физики опустил пистолет, всем своим видом намекая, что теперь я должен опустить трубу. Я слегка кивнул. А затем резко дернул запястьем. Труба со свистом пронеслась через комнату и врезалась Тадео четко промеж бровей. Он взвизгнул и отшатнулся от стены. Из ссадины над носом сочилась кровь, заливая ему лицо. Он сделал пару шагов к центру комнаты, затем три в сторону. Еще пара шагов, и он стукнулся лбом о стену. Уперся в нее обеими руками, судорожно хватая ртом воздух.
– Ну ой, – сказал я.
Физик ткнул дулом пистолета мне в шею и прошипел:
– А теперь, мать твою, сядь и не дергайся.
В комнату вошел третий – здоровенный, шесть-четыре росту, три-восемьдесят весу. Надсадное дыхание, походка вразвалку.
– Отведи Тадео наверх, – сказал ему рыжий. – Засунь его под душ, холодной водой плесни, посмотри, нет ли у него сотрясения.
– А как я пойму, есть оно у него или нет? – спросил здоровяк.
– Я-то, блин, откуда знаю? В глаза ему посмотри или там попроси до десяти досчитать.
– И что нового ты узнаешь, если он не сможет? – спросил я.
– Я ж тебе сказал пасть завалить.
– Нет. Ты мне сказал сидеть и не дергаться, и чем дальше, тем меньше вариантов у тебя остается.
Толстяк вывел Тадео из комнаты. Тот продолжал полировать воздух перед собой, как собака, которой снится сон.
Я поднял с пола салфетки. С одной стороны они были чистыми, и этой стороной я прижал их к лицу. Когда я отнял руку, на них проявились красные пятна, причудливые, как на тесте Роршаха.
– Швы придется накладывать.
Учитель физики наклонился в мою сторону, направив пистолет мне в брюхо. У него было открытое лицо, усыпанное веснушками – такими же рыжими, как и волосы. Улыбка – фальшивая и широкая, как у актера из драмкружка, играющего роль услужливого человека.
– С чего ты взял, что вообще выйдешь отсюда живым?
– Я же сказал: чем дальше, тем меньше вариантов у тебя остается. Люди видели, как этот бомж вырвал у меня сумку. Кто-то наверняка уже вызвал копов. Соседний дом пустует, но в том, что за нами, кто-то живет, и вполне возможно, что они заметили, как Тадео съездил мне по рылу трубой. Так что раскинь мозгами, придурок, – кто бы тебе ни заплатил за то, чтобы ты доставил мне сообщение, я бы на твоем месте с этим шустрил пошустрее.
На идиота физик не походил. Если бы он хотел меня убить, то запросто всадил бы мне пару пуль в затылок, пока я корчился на полу кухни.
– Держись подальше от Хелен Маккриди. – Он присел на корточки и взглянул мне в лицо, уставив пистолет дулом в пол. – Начнешь вертеться рядом с ней или с ее дочерью, начнешь задавать вопросы, я всю твою жизнь в лоскуты порву.
– Усек, – сказал я с безмятежностью, которой не чувствовал.
– У тебя, Патрик, теперь ребенок есть. Жена. Хорошая жизнь. Вот и возвращайся к ним и не высовывайся. И мы все забудем об этом нашем разговоре.
Он встал, сделал шаг назад. Встал и я. Прошел на кухню, поднял с пола рулон салфеток, оторвал несколько. Прижал их к лицу. Он стоял в дверном проеме, глядя на меня. Пистолет он заткнул за пояс. Мой пистолет остался в ящике стола в «Дюхамел-Стэндифорд». Впрочем, пользы от него, после того как Тадео огрел меня трубой, все равно не было бы. Они бы забрали его, и остался бы я тогда и без ноутбука, и без сумки, и без ствола.
Я обернулся к нему:
– Мне придется съездить в больницу, швы наложить. Но не беспокойся, как личное оскорбление я эту ситуацию не рассматриваю.
– Ой, ну надо же. Правда-правда?
– Ты мне и смертью грозил, но я и это тебе прощаю.
– Какой ты культурный. – Он надул пузырь из жвачки и дал ему лопнуть.
– Но, – продолжил я, – вы сперли у меня ноутбук, а новый покупать мне не по деньгам. Может, вернете?
Он качнул головой:
– Было ваше, стало наше.
– Я хочу сказать, что это здорово ударит мне по карману, но я согласен не превращать данное обстоятельство в повод для войны. Ничего личного. Так?
– Если и не так, то «ничего личного» пока сойдет.
Я отнял руку от лица, взглянул на салфетки. Не самое приятное зрелище. Я сложил их еще раз и снова прижал к щеке, а через минуту снова осмотрел. Потом перевел взгляд на учителя физики, стоявшего в дверном проеме.
– Договорились, значит.
Я бросил окровавленные салфетки на пол, оторвал от рулона новую партию и вышел из дома.
Глава 6
Когда мы сели ужинать, Энджи через стол посмотрела на меня – глазами, в которых читалась тихая, строго контролируемая ярость. Она глядела так на меня с тех пор, как увидела мое лицо, услышала о моей поездке в больницу и убедилась, что я и вправду не собираюсь помереть от полученной травмы.
– Значит, – сказала она, вонзив вилку в листок салата, – давай с самого начала. Беатрис Маккриди сталкивается с тобой на платформе «Джей-Эф-Кей Стейшен».
– Да, мэм.
– И рассказывает, что ее развратная золовка снова где-то посеяла свою дочь.
– Хелен развратная? – спросил я. – Я как-то не заметил.
Моя жена улыбнулась. Не по-хорошему. Другой улыбкой.
– Папа?
Я взглянул на нашу дочь Габриэллу:
– Да, милая?
– Что такое «развратная»?
– Ты почему морковку не ешь?
– А почему у тебя лицо забинтовано?
– Вообще-то я каждый четверг обматываюсь бинтами.
– Не-а. – Габриэлла уставилась на меня широко распахнутыми глазами. Их она унаследовала от матери – огромные, карие. И от нее же ей достались оливкового цвета кожа, и широкий рот, и темные волосы. А от меня – кудряшки, тонкий нос и манера отвечать вопросом на вопрос.
– Кушай морковку, – сказал я снова.
– Я ее не люблю.
– На прошлой неделе любила.
– Не-а.
– Ага-ага.
Энджи опустила вилку.
– Прекратите, вы оба. Я вас предупреждаю.
– Не-а.
– Ага-ага.
– He-а.
– Ага-ага. У меня и фотографии есть.
– Не-а.
– Ага. Сейчас фотоаппарат достану, покажу.
Энджи потянулась к своему бокалу:
– Ну пожалуйста! – Она пригвоздила меня к месту взглядом своих глаз, таких же огромных, как у ее дочери. – Ради меня?
Я обернулся к Габриэлле:
– Ешь морковку.
– Ладно.
Габби воткнула вилку в кусочек моркови, засунула в рот, начала жевать. Лицо ее озарилось.
Я приподнял брови.
– Вкусно, – сказала она.
– Ну а я о чем?
Она поддела вилкой другой кусочек, начала хрумкать.
Энджи сказала:
– Четыре года на это смотрю и не понимаю, как у тебя получается.
– Древняя китайская хитрость. – Я принялся медленно и осторожно жевать крохотный кусочек куриной грудки. – Кстати, не знаю, как тебе, а мне вот лично трудновато есть, когда нельзя пользоваться левой стороной челюсти.
– Знаешь, что тут самое смешное? – По голосу Энджи я понял, что ни о чем смешном сейчас не услышу.
– Не знаю, – сказал я.
– Большинство частных сыщиков не похищают и не избивают.
– Но ходят слухи, что число таких случаев растет.
Она скривилась, и я почувствовал, что мы с ней оба мечемся мыслями и даже не представляем, что думать по поводу случившегося со мной. Когда-то мы были экспертами в этой области. Она бы швырнула мне грелку со льдом и отправилась в спортзал, ожидая, что к ее возвращению я уже буду в порядке, буду снова рваться в бой. Теперь эти дни в далеком прошлом, и сегодняшнее напоминание о них загнало каждого из нас внутрь своего защитного панциря. Ее панцирь состоял из тихой ярости и осторожного отстранения. Мой – из саркастичных шуток. Вместе мы напоминали комедианта, безуспешно пытающегося пройти курс по управлению собственными эмоциями.
– Паршиво выглядишь, – сказала она с неожиданной для меня нежностью.
– Но чувствую себя только в четыре-пять раз хуже. Честно. Я в порядке.
– Перкосета тебе надо.
– И пива.
– Их же вроде мешать нельзя.
– Я отказываюсь идти на поводу у масс. Я принял решение, и решение это – не чувствовать никакой боли.
– И как, удачно?
Я отсалютовал своим пивом:
– Миссия выполнена.
– Пап?
– Что, милая?
– Я люблю деревья.
– Я тоже их люблю, солнышко.
– Они высокие.
– Это точно.
– А ты все деревья любишь?
– До единого.
– Даже маленькие?
– Конечно, милая.
– А почему? – Моя дочь подняла руки ладошками кверху – верный признак того, что заданный ею вопрос не только жизненно важней, но и, спаси господи, достоен детального изучения.
Энджи бросила на меня взгляд, в котором читалось – добро пожаловать в мою жизнь.
Последние три года я пропадал либо на работе, либо в попытках найти работу. Трижды в неделю, пока Энджи была на занятиях, я сидел с Габби. Однако близились рождественские каникулы, и на следующей неделе ей предстоял выпускной экзамен. А после Нового года – интернатура в «Образовательном центре „Синее небо“» – благотворительной организации, специализирующейся на обучении подростков с синдромом Дауна. По окончании интернатуры, в мае, Энджи получит диплом магистра прикладной социологии. Но до этого момента деньги в нашей семье предстоит зарабатывать только мне. Друзья уже не раз советовали нам переехать в пригород – жилье там дешевле, школы безопаснее, налоги на недвижимость и взносы на страховку ниже.
Но и я, и Энджи выросли в городе. Белые заборчики и двухэтажные коттеджи нам нравились так же, как мохнатые ковры и бои без правил. То есть не так чтобы очень. У меня некогда была хорошая машина, но я продал ее, чтобы начать копить деньги на колледж для Габби, и теперь перед домом был припаркован мой побитый джип, порой неделями простаивая без дела. Я предпочитаю метро – залез под землю в одном конце города, выскочил в другом, и на клаксон давить не надо ни разу. Мне не нравится стричь газон или подравнивать кусты, а потом сгребать с лужайки скошенную траву и обрезанные ветки. В торговых центрах мне неуютно, а есть в забегаловках я терпеть не могу. Да и вообще, очарование пригородной жизни – и в целом, и в конкретных деталях – мне совсем не понятно.
Мне нравится звук отбойных молотков, блеяние сирен в ночи, круглосуточные закусочные, граффити, кофе в картонных стаканчиках, струящийся из люков пар, брусчатка, желтые газеты, гигантский логотип «СИТГО петролеум» и чей-то крик «Такси-и!» холодной ночью, ошивающаяся на углах шпана, рисунки на асфальте тротуаров, ирландские пабы и парни по имени Сал.
В пригородах всего этого не найти, во всяком случае не в таких объемах, к каким я привык. С Энджи ситуация такая же, если не хуже.
Так что мы решили растить ребенка в городе. Купили домик на приличной улице, с крохотным двором и неподалеку от детской площадки (также неподалеку от довольно стремного квартала, но это другая тема). Мы знаем большинство своих соседей, и Габриэлла уже может назвать по порядку пять остановок на красной ветке – факт, от которого сердце ее старика переполняется гордостью.
– Заснула?
Энджи взглянула на меня поверх учебника, когда я зашел в гостиную. Она переоделась в треники и одну из моих белых футболок. Она в ней просто тонула, и я с беспокойством подумал, что она недоедает.
– Наша болтушка Габби взяла краткую паузу во время насыщенного диалога о деревьях…
– Гррр… – Энджи откинула голову на спинку дивана. – И чего ей дались эти деревья?
– …и заснула крепким сном.
Я рухнул на диван рядом с ней, сжал ее ладонь своей, поцеловал.
– Кроме мордобоя, – сказала она, – что-нибудь еще сегодня произошло?
– Имеешь в виду «Дюхамел-Стэндифорд»?
– Их самых, ага.
Я сделал глубокий вдох.
– Постоянную работу мне не дали.
– Черт! – прокричала она так громко, что мне пришлось поднять руку, и она взглянула в сторону комнаты Габби и скривилась.
– Они сказали, что не стоило мне обзывать Брэндона Трескотта. И намекнули, что я слишком неотесанный тип, которому надо поучиться манерам, прежде чем прикоснусь к живительному источнику их льгот.
– Черт, – сказала она, в этот раз тише и без шока в голосе, только с отчаянием. – И что нам теперь делать?
– Не знаю.
Какое-то время мы сидели в тишине. Говорить особенно было нечего. Весь этот страх, все беспокойство – мы продолжали чувствовать их, но восприятие это притупилось, словно мы притерпелись к ним.
– Я брошу колледж.
– Не бросишь.
– Еще как брошу. Вернусь к…
– Тебе немного осталось, – сказал я. – На следующей неделе экзамены, интернатура, а к лету ты уже будешь семью кормить, а тогда…
– Это еслия вообще найду работу.
– …а тогда я смогу себе позволитьработать на себя. Так близко от финиша с дистанции сходить нельзя. Ты же лучшая в своей группе, и работу найдешь запросто. – Я улыбнулся с уверенностью, какой совсем не чувствовал. – Все у нас получится.
Она чуть отстранилась и внимательно посмотрела мне в глаза.
– Ладно, – сказал я, чтобы поменять тему, – колись давай.
– Это ты о чем? – Деланая невинность в голосе.
– Когда мы поженились, то договорились, что хватит с нас этого дерьма.
– Договорились, было такое.
– Никакого больше насилия, никаких больше…
– Патрик. – Она сжала мои ладони своими. – Просто расскажи мне, что произошло.
Я рассказал.
Когда я закончил, Энджи подвела итог:
– Значит, кроме того, что работу ты не получил, а худшая в мире мать снова потеряла свою дочь и ты отказался ей помогать, тебя все равно кто-то ограбил, пригрозил смертью и избил. Теперь тебе надо оплачивать больничный счет, к тому же ноутбук у тебя тоже увели.
– Ну а я о чем? Я же был в восторге от этой штуки. Она весила меньше, чем твой бокал. И каждый раз, когда я его открывал, на экране появлялась рожица и говорила: «Привет».
– Ты разозлен.
– Ага, разозлен.
– Но из-за одного ноутбука крестовый поход учинять не будешь, так?
– Ну, там же рожица вежливая была, я не говорил?
– Достанешь другой ноутбук, с другой рожицей.
– На какие шиши?
На это ответа не было.
Посидели в тишине, она закинула ноги мне на колени. Я оставил дверь в комнату Габби приоткрытой, и в тишине было слышно ее дыхание – на выдохе она чуть присвистывала. Этот звук напомнил мне, и не в первый уже раз, какая она хрупкая и уязвимая. Какие мы сами уязвимые, потому что так ее любим. Страх того, что с ней в любой момент что-то может произойти, а я не способен буду ничего с этим поделать, – этот страх был в моей жизни настолько вездесущ, что мне иногда представлялось, как он растет, словно третья рука, у меня из груди.
– Ты что-нибудь помнишь из того дня, когда тебя подстрелили? – спросила Энджи, подбрасывая еще одну веселенькую тему для разговора.
Я мотнул рукой:
– Кусками. Помню шум.
– Это точно, а? – Она улыбнулась, вспоминая. – Громко там было – столько пушек, стены бетонные. Жуть.
– Ага. – Я тихо вздохнул.
– Твоя кровь, – сказала она. – Ею там все стены заляпаны были. Когда «скорая» приехала, ты лежал без сознания, и я помню, как просто стояла и глядела на все это. Твоя кровь – ты сам, – но не внутри, как надо. А на полу, и на стенах тоже. Ты даже не белый был, а голубоватого оттенка, как твои глаза. Лежал там, но знаешь, тебя там уже не было. Как будто ты уже был на полпути к небесам и давил на газ изо всех сил.
Я прикрыл глаза, поднял руку. Ненавижу слушать об этом дне, и ей это было известно.
– Знаю, знаю, – сказала она. – Я просто хочу, чтобы мы оба помнили, почему завязали со всем этим жесткачом. И не только потому, что тебя подстрелили. Потому что мы подсели на все это. Тащились от этого. До сих пор тащимся. – Она запустила руку мне в волосы. – Я родилась не только для того, чтобы читать «Спокойной ночи, Луна» по три раза на дню и вести пятнадцатиминутные дискуссии о чашечках.
– Знаю, – сказал я.
Я знал. Уж кто-кто, а Энджи явно не была создана для того, чтобы быть матерью и домохозяйкой. И не потому, что ей это не удавалось – удавалось, и еще как, – просто ей совершенно не хотелось ограничивать себя этой ролью. Но когда она вернулась в колледж и с деньгами стало туго, стало логичным не тратить деньги на нянек, а днем сидеть с Габби, а по вечерам учиться. И вот так – как говорится, сначала постепенно, а потом внезапно – мы оказались там, где оказались.
– У меня крыша от всего этого едет. – Она указала глазами на игрушки и книжки-раскраски, валяющиеся на полу гостиной.
– Надо думать.
– Крыша едет, дом горит, шифер во все стороны.
– Медицинский термин именно такой, ага. Ты отлично справляешься.
Она закатила глаза:
– Спасибо, но только, милый?.. Я, может, и притворяюсь отлично, но все равно – притворяюсь.
– Разве не все родители так же?
Она скривилась:
– Нет. Ну, серьезно, кому захочется говорить о деревьях? По четырнадцать раз. За день. Эта малютка, я ее обожаю, но она анархистка. Встает когда хочет, думает, что буйство в семь утра – самое оно, иногда орет безо всякого повода, решает, что будет есть, а что – ни в какую по двадцать раз за минуту, лезет руками и лицом в неимоверно отвратительные места, и нам с ней маяться еще четырнадцать лет – в том случае, если мы наскребем денег на колледж, а на это шансов мало.
– Но прежняя жизнь загоняла нас в могилу.
– Загоняла. Но как же я по ней соскучилась, – сказала она. – По прежней жизни, которая загоняла нас в могилу.
– Я тоже. Хотя сегодня я узнал, что превратился в слабака и тряпку.
Она улыбнулась:
– Превратился, а?
Я кивнул.
Она вскинула голову:
– Ну, если уж на то пошло, ты изначально был не так чтобы уж очень крут.
– Я знаю, – сказал я. – Так что представь, в какого легковеса я теперь превратился.
– Черт, – сказала она. – Иногда я тебя просто до смерти люблю.
– Я тоже тебя люблю.
Она скользнула ногами по моим коленям, туда-сюда.
– Но ты очень хочешь вернуть ноутбук, да?
– Хочу.
– И собираешься его вернуть, да?
– Эта мысль приходила мне голову.
Она кивнула:
– При одном условии.
Я не ожидал, что она со мной согласится. А та малая часть меня, которая этого ожидала, уж точно не думала, что это случится так скоро. Я сел – внимательный и послушный, как ирландский сеттер.
– Каком?
– Возьми Буббу.
Бубба идеально подходил для этого задания не только потому, что был сложен как банковский сейф и не ведал страха. (Серьезно. Однажды он спросил меня, каково это – бояться. Сочувствие тоже было для него совершенно чуждой и непонятной концепцией.) Нет, для моих вечерних развлечений Бубба представлял собой особенную ценность потому, что последние несколько лет потратил, расширяя свой бизнес в направлении нелегальной медицины. Началось все с обычного вклада – он ссудил денег доктору, который лишился лицензии и хотел создать новую практику, обслуживая тех, кому не хотелось со своими огнестрельными и ножевыми ранениями, сотрясениями и поломанными костями обращаться в больницы. Разумеется, такому бизнесу нужны лекарства, и Буббе пришлось найти поставщиков нелегальных «легальных» препаратов. Поставки шли из Канады, и даже при всем трепе об ужесточении пограничного режима после 11 сентября ему каждый месяц исправно доставляли дюжины тридцатигаллонных пакетов с таблетками. Пока что он не потерял ни одного груза. Если страховая компания отказывалась покрывать стоимость лекарства или фармакологические компании требовали за него значительно больше, чем могли себе позволить представители рабочего или низшего класса, молва обычно вела их к одному из многочисленных связных Буббы – бармену, цветочнику, торговцу хот-догами или кассиру из магазинчика на углу. Скоро все, кто существовал вне системы здравоохранения или на ее грани, оказались у Буббы в долгу. Он не был Робин Гудом и брал свой процент. Но и «Пфайзером» он тоже не был и брал по-божески, 15–20 процентов, а не пытался вздрючить клиента, требуя тысячу процентов.
Благодаря связям Буббы среди бездомных нам понадобилось минут двадцать, чтобы найти парня, подходившего под описание бомжа, укравшего мой ноутбук.
– А, Вебстер, что ли? – сказал посудомойщик в суповой кухне на Филдс-Корнер.
– Мелкий черный пацан, из телесериала девяностых? – уточнил Бубба. – Он-то нам на хрен сдался?
– Не, брат, уж точно не мелкий черный из телесериала. Мы ж теперь в две тысячи десятых живем, или тебе не сообщили? – скривился посудомойщик. – Вебстер белый, низенький такой, бородатый.
– Вот этот Вебстер нам и нужен, – сказал я.
– Не знаю, имя это у него или фамилия, но он спит где-то на Сидней, около…
– Не, он оттуда сегодня сдернул.
Снова гримаса. Для посудомойщика мужик явно был слишком чувствительным.