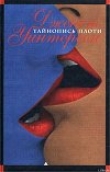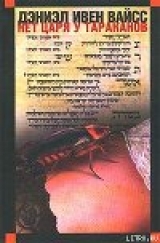
Текст книги "Нет царя у тараканов"
Автор книги: Дэниэл Вайсс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Убийство Розы Люксембург
– Не клади их туда.
– Почему?
– Овощной суп должен стоять слева от томатного. У меня все по алфавиту.
– Понятно.
– Не клади их туда.
– В моем словаре пюре из шампиньонов идет раньше чечевицы.
– А должно быть: «шампиньоны, пюре из». Что толку сваливать все супы-пюре вместе?
– Ах да, конечно. Об этом я не подумала.
Вечером после того, как мы осознали коварство Азиата, Айра и Руфь выставили напоказ все изобилие еды: они перетаскивали ее из коробок в неприступные шкафчики.
Айра остановился и посмотрел на Руфь.
– Что еще не так? – спросила она.
– Нельзя класть мацемел радом с мучными бульонными шариками.
– Отлично, мистер Букварь. И что мы положим между?
– Банки в левый ящик, коробки в правый. "Б" перед "К". Все по алфавиту.
Впервые за свою недолгую жизнь я видел, что мой народ смирился, а это, как подсказывали мне инстинкты, не в характере нашего племени и являет собой зловещий признак. Клаузевиц, до сих пор избегавший даже пассивных оборотов в речи, заявил:
– Придется подождать, пока он не сделает ошибку. Но когда он ее сделает…
Колония в полном составе рано отправилась спать на подготовленные позиции в столовой.
Ночью я вернулся на кухню вместе с Розой. Ее сестра Либресса уже была там. Она пыталась засунуть голову в перекати-поле из волос и пыли, которое вентилятор холодильника гонял по полу.
Роза двинулась к ней, с трудом перебирая ногами по новому винилу.
– Не ешь это! Где твое достоинство?
Пыльный ком распался, осыпав Либрессу грязью. Ничего съедобного внутри не было. И о чем она только думала?
– Займись лучше делом, – сказала ей Роза. – Например, сходи на разведку.
– Напрасный труд.
– Напрасный труд? – взорвалась Роза. – Дай-ка мне.
Она потянулась к пыльному клубочку. Либресса дернула его к себе и обрушила Розе на голову, где он и остался огромным терновым венцом. Пыль медленно осыпалась с боков. Теперь Роза и ее сестра в своем убожестве выглядели одинаково.
– Я этого не допущу! – сказала Роза и выбежала из кухни.
Назавтра я ее не видел. Вечером я решил искать еду один.
Передвигаться по полу стало очень сложно. Фабричное покрытие виниловых плиток липло к ногам, в ямках подворачивались суставы. В колдобинах обычной кухни пряталась грязь, но здесь они бесполезны.
Я дошел до основания шкафчика. Ноги легко цеплялись за полиуретановое покрытие – сложнее оказалось их отклеивать. Я с трудом пробрался по кухонному столу и спустился на дно раковины. Чертовски опасное место.
Напившись, я огляделся. Я понял, что у меня нет никакого внятного плана. Что я делаю на этом высоченном шкафу? Я не только сомневался, что отыщу здесь еду, – у меня вообще не было оснований надеяться, что я проникну внутрь. Я решил вернуться на следующую ночь, хорошо отдохнув и с подмогой.
Мрак неведомого в черном зеве канализации выгнал меня из раковины. Не хотелось возвращаться под унылый плинтус. Я предпочел подняться чуть выше, на доску возле плиты, где висели кастрюли и сковородки.
Я задрожал от радости, обнаружив крошечный кусочек засохшего яйца на краешке сковородки. За последние дни – моя первая трапеза. Вскоре, насытившись, я провалился в сон.
Я проснулся от шуршания и шарканья. Я проспал до рассвета. Звуки приближались. Идиот! Как я мог остаться в сковородке до завтрака!
Я огляделся. Считаные секунды, чтобы убраться отсюда. На пол нельзя: поймают. Но оставаться здесь я тоже не могу. Соседняя кастрюлька? Нет, в ней варят яйца. Кастрюля внизу, побольше? В ней готовят овсянку. Шаги уже совсем рядом. Нужно решаться. Я нырнул в маленькую кастрюльку, молясь, чтобы сегодня у Айры был разгрузочный день.
Я еле дышал от ужаса. Я напрягся до предела. Айра потянулся за тарелкой и ложкой. Это означало все что угодно – кроме яичницы. Надо было сидеть и не рыпаться.
Теперь – только ждать. По-моему, я заметил какое-то движение у кромки дверцы шкафчика. В слабом свете я вглядывался туда. Что это? В новые шкафчики еще никто не проник. Но картина реальна: я различил кончики усов. Вскоре показалась голова. Фигура неловко изогнулась, молотя по дереву усами и передними ногами. Медленно, мучительно она выбиралась наружу, членик за члеником. Из дыхалец вырвалась слабая струйка воздуха. Высвободилась вторая пара ног, и тут я уловил запах. Роза.
Зачем, ради всего святого, она выбралась наружу именно теперь? Через полчаса она благополучно прогулялась бы по двери. А сейчас Айре достаточно обернуться, и он размажет ее по дверце.
Наконец она выбралась и помчалась по шкафчикам. Айра достал стакан и пакет апельсинового сока, поставил их между тарелкой и ложкой. Даже салфетку свернул. Он давал ей все шансы спуститься и убраться из кухни.
Но она отказывалась. Со шкафчика над холодильником она эффектно прыгнула на коробку с отрубями, перемахнула через клапан и исчезла в прорези.
Айра до сих пор не обнародовал сегодняшнее меню. Отруби с изюмом, вареные яйца или овсянка? Овсянку я уже исключил: он никогда не готовил ее один, а Руфи что-то не видать.
Отруби с изюмом или вареные яйца. Затем я разгадал его дьявольский план: нам с Розой – она в коробке с отрубями, я – в кастрюльке, – придется сыграть в страшную утреннюю рулетку.
Позор всему живому, что такой, как он, мог угрожать такой, как она. Бедная Роза, свет моей юности.
Затем Айра повернулся ко мне. А я уж решил, что он возьмет отруби. Теперь я думал лишь о ярдах дерьма, что, как я надеялся, настоятельно взывали к свободе в его прямой кишке. Он прошел к раковине, на расстояние вытянутой руки от меня. Возьмет ли он мою кастрюльку? Выдержит ли его желудок, когда он увидит, как я погружаюсь в воду, размягчаюсь, а затем растекаюсь поверх яиц? Отруби гораздо полезнее.
Я слышал, как он мыл руки. Мой хитиновый панцирь заскрежетал – я распластался в кастрюле. Но потом зашлепали тапки. Айра возвращался к холодильнику.
Я выглянул. Айра схватил коробку с отрубями. Бедная Роза. Он откинул клапан и наклонил коробку над тарелкой, высыпая бурые хлопья и крупный, размером с меня, изюм. Когда он остановился, в коробке оставалось совсем немного.
Попала ли моя Роза в тарелку? Я ее не видел, но потом подумал, что вряд ли она сидела на поверхности. Я не хотел кричать и отвлекать ее. Неопределенность сводила с ума. Я содрогнулся, когда в тарелку полилось холодное, обогащенное витаминами А и Д, пастеризованное-гомогенизированное-обезжиренное-на-девяносто-девять-процентов молоко. Роза долго не продержится. Но она не может всплыть и показаться Айре. Может, уцепилась за один из хлопьев, что всплыли под молочным потоком. Но их-то и зачерпнут первой же ложкой.
Айра вертел коробку в руках и читал вопросы викторины, отвечая вслух:
– Томас Джефферсон… Колокол Свободы… Филадельфия… ч-черт, Нью-Йорк, я хотел сказать – Нью-Йорк…
Если Роза в тарелке, она уже захлебывается молоком. Если случится худшее и Айра ее увидит, прорвется ли она через весь стол? Его салфетка слишком тонка, ему придется сходить за туалетной бумагой, чтобы раздавить Розу. Это даст ей время добежать до края.
Но даже если она сумеет, сколько у нее шансов на этом скользком, изрытом колеями полу против мужских шлепанцев? Может, она останется на столе и юркнет ему в рукав, пойдет «на вы»?
Содержимое тарелки стремительно уменьшалось. Резцы Айры поблескивали от молока. Он набрасывался на хлопья, методично заталкивая их в рот, перемалывая золочеными жерновами. Каждые несколько секунд его язык высовывался из влажной могилы, очищал зубы, колебался, будто перед отступлением задерживал дыхание. Изо рта вылетали кусочки хлопьев, большинство падали обратно в молоко, где Айра ловил их снова. Если Розе суждено умереть, молился я, пусть это случится лишь единожды.
Доедая отруби, Айра читал список ингредиентов на коробке, кривясь всякий раз, когда взгляд цеплялся за химические добавки. Затем посмотрел на часы и встал. Убрал молоко, закрыл коробку, поставил ее обратно на холодильник. Я надеялся, что он оставил мне в тарелке капельку молока, холодного и сладкого от сахара с хлопьев. Но возле раковины он поднес тарелку ко рту и сделал последний глоток. Его мамочка была бы довольна.
Айра остановился. Его язык работал, гоняя последний ускользающий кусочек. Изюминка? Последняя крупинка хлопьев? Помаргивая от удовольствия, он подтолкнул его вперед и сжал зубы. Из пещеры донесся слабый щелчок и приглушенный вопль: «Империалист!»
Доблестная Роза! Утопнув в молоке, дабы спастись от взрослого Айры, она пала жертвой его детского воспитания. Когда он широко раскрыл рот, я увидел мою неукротимую возлюбленную.
– Подавись! – закричала она, колотя задними ногами по верхнему клыку. Ее сломанные передние ноги бессильно повисли. Айра сосредоточенно работал челюстями, чувствуя во рту остатки; верхние резцы поднимались и опускались лезвиями неустанной гильотины.
Роза никогда не обладала добродетелью молчания. Она билась, пока язык окончательно ее не поймал. Он сгреб ее с переднего зуба, приладил голову на плахе, а затем резцы опустились резко и точно, разрубив ее пополам. Она сломалась, как черенок, с криком, что эхом прогремел в моей кастрюле.
Айра засунул мизинец в ухо, вынул и понюхал серу.
А Роза еще не обрела покоя. Ее отрубленная голова прилипла спереди к резцу – я увидел ее, когда раскрылись Айрины губы. Роза уставилась на меня – я понял, она сейчас заговорит. Все шесть моих ног порывались бежать, но внутренности отяжелели от ужаса и приковали меня к месту.
Без тела голос ее был слаб и рассеян. Я смотрел на ее рот и разбирал обвинение:
– Псалтирь! Псалтирь! Зачем ты оставил меня?
Я испытал облегчение, когда язык вернулся и сгреб ее. Я даже подождал, пока Айра снова откроет рот, и удостоверился, что резец чист. Айра насвистывал, домывая посуду. Через минуту он ушел.
Я застыл на деревянном колышке. Я был в смятении. Не понимаю, почему Роза безжалостно возлагала ответственность за свою гибель на мои примитивные библейские мозги. Следует помнить, что она говорила под чудовищной пыткой. Но ведь это Айра ее убил, вся ответственность – на нем.
Как можно жить с животным, которое морит голодом мой народ, сжирает мою возлюбленную и уходит на работу точно по расписанию?
– Розу Люксембург убили, – сказал я. Большинство граждан под плинтусом меня проигнорировали.
– Как ей это удалось? – спросил Суфур.
– Айра ее съел.
– Айра ее съел? – спросил Барбаросса. – Да он собственную подружку уесть не может.
– Может, нам еще удастся ее спасти. Как Иону, – предположил я.
– Тогда тебе придется дежурить в уборной, – засмеялась Джулия Чайлд.
– Даже если ты ее найдешь, она будет кусочком дерьма на дне унитаза, – сказал Бисмарк.
– У нее были отличные феромоны, – сказал я. – Лучшие.
– Вот как? – переспросила Либресса.
– Одни из лучших, – уточнил Бисмарк. – Но теперь все в прошлом.
Прошло утро, потом день. Никто не разговаривал. Нас охватило уныние.
Айра и Руфь вернулись с работы и приготовили ужин. Лишь тогда мне пришло в голову спросить, что же делала Роза ночью в кухне.
– Я думал, ты знаешь, – пожал плечами Бисмарк.
– Зачем она осталась в шкафчике до утра? Наверняка что-то обнаружила. Нужно выяснить, что именно. Граждане?
Шесть часов спустя, когда Айра и Руфь заснули, я один взобрался по шкафчику. Отверстие, где я видел Розу, было посыпано ее хитином, скрошившимся об острые края. Я осторожно пролез; процедура оказалась довольно болезненной для моего панциря.
Запахи еды в шкафчике перешибала вонь полированной древесины. Туг хранились рассортированные запасы, от консервированных абрикосов до китайской лапши. Но строгие линии напоминали скорее кладбище, чем сад радостей земных. Конечно, теперь мы могли найти все, но что с того? Бутылки и банки неприступны. Картонные коробки можно прогрызть, но на бурение каждой дыры уйдет несколько дней. Живи мы здесь или хотя бы в стене, мы бы справились. Но не с единственной ненадежной тропкой к отступлению.
В старой кухне мы пировали на коробках и пакетах. Цыганка разрывала их как попало и ставила в шкафчики, неплотно закрывая, с жирными отпечатками пальцев и прилипшими остатками еды. Даже Айра верил, что если тщательно скатать пакет внутри упаковки, сверху достаточно просто Закрыть Клапаном Щель. Эта исключительная тактическая оплошность позволяла нам купаться в пище.
Теперь я не видел ни одной открытой коробки. Взобравшись на следующую полку, я понял, почему: Руфь освоила упаковочную технику. Она привела в наши угодья смертельного врага Блаттеллы – Пищевой Контейнер. Я прошелся вдоль ряда чечевичных саркофагов. Я сходил с ума, глядя на эти бедные мертвые зерна, еще недавно принадлежавшие мне, а теперь недосягаемые; невыносимо думать о том, какую жизнь я мог бы в них вдохнуть. Паста, изюм, овсянка – гроб за гробом. Неужели Руфь специально выбрала прозрачные упаковки, чтобы над нами насмехаться?
На последней полке я почувствовал себя неуютно, будто я уже не один. Я замер и огляделся. Что может быть в шкафчике вместе со мной? От кого убегала утром Роза?
Я двинулся дальше, все еще чувствуя на себе чей-то взгляд. Резко прыгнул в сторону банки с овсянкой и обернулся. Вот он: подглядывает сквозь очки на выпуклой голове, а голова лежит на боку.
Глаза Бена Франклина. Те самые свернутые купюры, что Айра прятал в старых шкафчиках; треть состояния на случай бегства. Никто не говорил мне, что Айра переложил их в новый шкафчик.
Я приблизился к грязной лоснящейся бумаге.
Мне понравился взгляд Бена: задиристый, полный житейской мудрости; мне понравились добрые морщины на его всепрощающем лице. Он всегда смотрел так, будто знал все на свете. Я подозревал, что он знает и об ужасной Розиной кончине.
Следуя за его взглядом, я пересек полку. На другой стороне нашел дыру в задней стенке, но она была плотно задвинута. Я через нее не пролезу. Откуда она взялась?
Тут я вспомнил – Азиат просверлил в задней стенке два своих отверстия. Должно быть еще одно. Только где? Я пришел к выводу, что самый симметричный в мире человек проделает две абсолютно симметричные дырки. Считая шаги, я двинулся обратно. По моим расчетам, второе отверстие, которое ведет в стену, – наш единственный шанс выжить в этой неприветливой кухне – должно быть прямо за Франклином. Так он поэтому улыбается?
Я попросил Бена подвинуться. Он отказался, и я сунул голову за купюры, насколько сумел дотянуться. Айра спрятал их надежно, точно боялся, что Франклин сбежит.
– Я не сделаю больно, – пообещал я, осторожно просовывая усики в щель у него за спиной. Я учуял запах свежепросверленного дерева, нащупал припухлость доски. Дыра здесь. Вот что нашла Роза, и эта находка стоила ей жизни.
Бессонная ночь
– Кажется, вы не понимаете, – сказал я. – Если мы передвинем эти деньги, все будет, как в старые времена. Даже лучше, потому что безопаснее.
– Ну так иди и передвинь, – ответила Джулия Чайлд.
Мы сидели под плинтусом, деля скудную добычу: сухие крошки овсяных хлопьев.
– У него есть кредитная карта, – задумчиво проговорил Колумб. – Чековая книжка, банкомат в конце квартала. Зачем ему эти деньги?
– Тайная копилка еврейской паранойи, – сказала Либресса.
Я чувствовал, как у меня шевелятся извилины.
– Если мы будем кишеть над ним саранчой, как думаете, он уберется?
Либресса погладила меня по голове:
– Конечно, малыш. Упакует мацемел и свалит.
– Он не станет эти деньги тратить. Они навсегда в шкафу, как мезуза, – сказал Клаузевиц.
Бисмарк, до этого молча жевавший, вдруг произнес:
– Он их тратит. Я видел. – Мы слушали. – Последний раз – в начале романа с Цыганкой. Она позвонила ему по телефону, он схватил деньги и понесся к двери. Я так и не понял, зачем. И раньше, еще до Цыганки, с подружкой по имени Эстер, – тоже в порыве. Я полагаю, когда Айру настигают приступы спонтанной регрессивной безответственности, ему нужны наличные. Пользоваться кредитной картой слишком по-взрослому.
– Значит, теперь его должна спровоцировать Руфь, – сказала Либресса.
– Эту суку он уже поимел, – сказал Суфур. – Ни хрена он не станет тратить на нее бабки. Они для новой шмары.
Либресса ударила его по передним ногам:
– Свинья. Где ты этого набрался?
– Видимо, уже слишком поздно, – сказал Бисмарк. – Теперь он к ней привык. И я не уверен, что Руфь одурманила его так же, как две предыдущие.
– Я слышал, у Эстер было трое детей, – сказал я. – Так ты думаешь, наш единственный шанс – возвращение Цыганки?
– Или еще кого, кто снесет ему крышу.
Я вознамерился найти причуду, которая заставит Айру тратить деньги под нашим надзором. Граждане не сталкивались с такой причудой годами, и потому у меня не было ни малейшего представления, какова же она.
На следующей неделе Айра и Руфь ужинали в городе со своими соседями Вэйнскоттами. Я сидел на карнизе в коридоре, дожидаясь их возвращения.
Айра придержал дверь, вошла Руфь. В дверном проеме появился Оливер Вэйнскотт Третий. Порог затрещал под высоким, тучным человеком – один его ботинок мог раздавить целый батальон Блаттеллы.
– Не представляю, как ты можешь защищать людей, если абсолютно их не понимаешь, – изрек Оливер.
– Я понимаю, что большинство поступают дурно, потому что их к этому вынуждают обстоятельства, – ответил Айра.
– А, ерунда. Это и есть твоя адвокатская этика?
Айра снял пальто и перекинул его через руку. Руфь повесила свое в стенной шкаф. Элизабет
Вэйнскотт, высокая, симпатичная худая блондинка, молча стояла рядом с мужем.
– Ты не поверишь, Оливер, но банкротство – далеко не худшая в мире вещь, – сказал Айра. – Моральное банкротство – вот что похуже. И люди это понимают.
Оливер скрестил указательные пальцы и выставил их вперед, словно отгораживаясь от Айриных слов. Элизабет переступила на высоких каблуках и сказала тихо:
– Олли, я очень устала.
– Если твоим клиентам вручить билет на небеса, – сказал Оливер, – держу пари, каждый обменяет его на наличные.
– Спокойной ночи, – ответил Айра. – Увидимся в пятницу. – Он потряс руку Оливеру и принял поцелуй в щечку от Элизабет. Потом закрыл и запер дверь. – Его не заткнуть. Вот зануда.
– Она ангел, выносить такое, – сказала Руфь.
– Не знаю, как ей это удается. А она неплохо упакована, тебе не кажется?
– Да уж. – И Руфь ушла в ванную.
Я предложил гулявшей неподалеку Либрессе составить мне компанию и проследить за Руфью.
Когда мы добрались до ванной, Руфь уже заперла дверь.
– Есть что скрывать, – сказал я. – Хороший знак.
– Но она достаточно умна, чтобы это скрывать, – заметила Либресса.
Мы влезли на внешнюю сторону двери, чтобы не ходить по скользкой плитке на полу. Устроились под крыльями нарисованных чирков на обоях. Увидев очки Руфи на раковине, мы поняли, что опасности нет. Мы перебрались на аптечку.
Руфь стояла в нескольких футах от зеркала, необычно прямая, критически себя изучая.
– Именно так, Элизабет. Когда-то я была танцовщицей. А ты небось и не догадывалась. – И она тряхнула головой.
– Я вот не догадывалась, – сказала Либресса.
– Ты знаешь, Элизабет, под этим жиром – тонкий скелет танцовщицы.
Глядя на свое отражение, Руфь непристойно фыркнула. Она медленно поворачивала голову: левый профиль, затем правый, зрачки стрелкой компаса неотрывно смотрели в зеркало. Затем Руфь отработала ось ординат. Начала хорошо – с высоко поднятой головой, даже нос слегка укоротился, но закончилось все двумя неизбежными подбородками – во всей красе, прямо под носом. Руфь нахмурилась.
Подошла поближе к зеркалу и наклонилась. Живот улегся на раковину. Нос оставлял на стекле масляные следы. До нас донеслись приглушенные запахи тонального крема, макияжа и краски для волос. Кончиками пальцев Руфь прошлась по своему монументальному лицу, затем средними пальцами чуть оттянула кожу над глазами. Когда отпустила, морщины нависли снова.
– Бедная Руфь, – сказала Либресса. – В ее мире мужчины нечувствительны к пятидесяти пунктам КИ, но реагируют на одну сотую дюйма носа или щек. Когда мужчина бреется наголо или вдруг набирает сорок фунтов веса, жене это абсолютно неважно. Отчего мужчины так переживают из-за абсолютно несексуальных черт? Это извращение.
– Коэффициент интеллекта у человека – это скорее сексуальный тормоз.
Трудно симпатизировать Руфи, матери Пищевого Контейнера. Но насчет внешности Либресса права. Я не помнил внешности самок, которых оплодотворил, исключая разве усики Ходули, потерянные в борьбе с щепкой, и культей Слоновой Кости. Я посмотрел на Либрессу. У нее выше лоб, чем у Розы? Длиннее усики, чем у Джулии? Жестче стерниты, чем у Ветки Персика? В самках важны только химия и гениталии. Что толку от лица при ебле?
Либресса, похоже, совсем перевоплотилась в Руфь. Поглаживая ее передние ноги, я сказал:
– Я тебе никогда об этом не говорил, но мне всегда нравились линии твоего панциря, чудесные блестящие жвала и темно-карие кухонные глаза, все две сотни твоих прекрасных глаз.
Она оттолкнула меня, затем выпустила чуточку феромонов. От мощнейшей эрекции я потерял равновесие и едва не слетел на зеркало. Она засмеялась.
– Много ты понимаешь. Иногда я спрашиваю себя, вправду ли мы хоть чем-то лучше людей.
Я немедленно встал на все шесть ног. Впервые в жизни самка сказала нечто настолько отвратительное, что мое возбуждение угасло.
Руфь отошла от зеркала, уперев руки в пышные бока. Она крутила задом и беседовала с зеркалом:
– Ты знаешь, Элизабет, я была танцовщицей, пока не появилась эта окаянная огромная грудь.
Она улыбнулась.
Ложная гордость. Груди – вероломные органы, предназначенные для кормления молодняка во времена, когда благополучие вида зависит от выживания молодых особей. Женщина использует их всего несколько месяцев, может, год или два за всю жизнь. А потом эти жировые мешки вытягиваются, необратимо спускаясь все ниже и ниже, причиняя величайшие страдания, и наконец, становятся жалкими и бесполезными, будто пара гнезд, брошенных иволгами.
Но что проку от истины? Достаточно глянуть на улыбку Руфи, что крутит задом перед зеркалом, – тут же вспоминаешь, что мужские особи вида «сапиенс», точно большие дети, обожают сиськи. Практически повсюду, почти в любой эпохе эта внушительная парочка обеспечила бы Руфи столько мужского внимания, сколько Руфь пожелает. Но из журналов с кофейного столика я знал, что в современном обществе, в нашей эпохе эти груди слишком велики и достойны разве что диеты, растряски пробежками или, например, хирургического вмешательства. Я невольно восхищался безразличием Руфи к диктату моды, пусть это безразличие и скоротечно. Она обняла себя за локти и приподняла грудь.
– Ух ты! – восхитилась Либресса.
Руфь наклонилась к зеркалу и отковырнула что-то с лица. Снова нахмурилась.
– Что с ней такое? – спросила Либресса. – На нее непохоже. Может, за ужином что-то случилось, как думаешь?
Лицо Руфи ничего не сообщило, ибо у нее все на лбу написано. Когда она намыливалась, в ее искаженных чертах читалось все на свете – от счастья до уныния и безумия. После умывания она принялась растирать лицо густым кремом, пока белизна совершенно не исчезла под жирной пленкой. От этого Руфь стала напоминать хорошо сбитое тесто.
– Бедные поры. У меня дыхальца болят, когда я на нее смотрю, – сказала Либресса.
Когда Руфь чистила зубы, мы с Либрессой начали спускаться по стене. Пока она поднимала юбку, мы мчались по внутреннему краю унитаза, прямо под сиденьем. Это шанс постичь вечерние события.
Ее зад нависал над нами, разрастаясь и приближаясь с изумительной скоростью. Меня охватила первобытная паника. Когда на тебя садятся – это древняя опасность? Ягодицы заслонили свет, и я съежился подле Либрессы. Разогнавшийся зад совсем потемнел и упал. Унитаз содрогнулся, точно Голгофа. Темнота, безмолвие, неподвижность. Я умер.
Затем я услышал слабое «пффф»! Метан. В загробной жизни разве пукают?
Земля дрогнула и разверзлась, как и было сказано в Книге. Но вслед за тем излился свет, и я понял, что Апокалипсис не наступил. Я по-прежнему сидел в унитазе, а свет вклинился меж ягодицами Руфь и сиденьем, будто нож в жирный пирог.
Невероятные перемены. Столкновение с туалетным сиденьем трансформировало рыхлое тело Руфь в плотные стройные формы, упругие и тугие, точно недозрелая зимняя дыня. Ямки исчезли.
– Иисус, простерши руку, коснулся ее и сказал: хочу, очистись. И она тотчас очистилась от проказы, – проговорил я.
– Избавь меня.
Расщелина Руфи, невидимая за ягодицами, когда Руфь стоит, теперь показалась во всей красе. Великолепная черная шерсть тянулась от зада к переду, словно хвост песчанки.
– Что дальше будет? Я волнуюсь, – сказал я.
– Руфь в норме. У нее хорошая производительность, и ее отходы всегда ровные и темные, выходят регулярно, почти как у нас.
Но сегодня она явно в норме не была. Она заворочала ягодицами. Ее анус напрягся. Мне стало неуютно.
– Расслабься, – посоветовала Либресса.
Я видел склоненную голову Руфи в отверстие между ее покачивающимися телесами. Она дышала неглубоко и шумно. Замычала. Она что, молится?
– Сегодня вечер пятницы? – спросил я.
Ее ягодицы напряглись и покраснели, ноги подергивались. На всякий случай я пригнул усы.
– Вот оно, – сказала Либресса.
Коричневый бутон раскрыл лепестки. Я отпрянул. Газ с шипением вырвался наружу, и тут же все закрылось обратно.
– О, господи! – застонала Руфь.
Несколько минут спустя бутон снова напрягся и затрепетал. Но вышло совсем не то, что обещала Либресса. Никаких гладких, опрятных, элегантных кучек, ничего похожего на тараканью срань. Наружу вылез кисловато пахнущий, пятнисто-зеленый коллоид. Ошметки неуверенно заскользили по фаянсовым стенкам к воде и остались плавать пленкой на поверхности.
Я потянул Либрессу назад. Хотя Руфь не могла задеть нас основным потоком, я опасался брызг. После пяти выбросов Руфь зашипела, как иссякшая водокачка.
Едкая моча заструилась по передней стенке унитаза, смывая вниз маленькие параболы нечистот.
– Я такого никогда не видела. Определенно что-то не так, – сказала Либресса.
Руфь потянулась за туалетной бумагой, и я вспомнил их с Айрой диалог.
«Нежестко смята», – говорил он. «Ну да, более впитывающе», – отвечала она. «Это более гигиеничные рулоны». – «Я в это не верю, – возразила она. – Но помню, что стоят они дороже». – «Я угощаю, – засмеялся Айра. И, мгновение подумав, прибавил: – Знаешь, держу пари, она лучше, чем дешевая бумага. Не порвется, и не нужно делать больше движений». – «Ох, Айра, я практикуюсь уже примерно тридцать пять лет. Ненавижу хвастаться, но у меня хорошо получается. Правда, хорошо».
В ее излюбленном томе философии вагинальной гигиены «Кандида», что хранился на подоконнике, говорилось, что влагалище следует вытирать отдельно. По крайней мере, вытирать нужно от переда к заду, чтобы бактерии не попали на плодородную вагинальную почву. Чтобы Айра заткнулся, Руфь стала подтираться спереди назад. Но сегодня она рвала бумагу, комкала и подтиралась как попало.
Мы выбрались из-под сиденья, когда Руфь поднялась. Чудо исчезло – впадины и ухабы зада вернулись вновь. Серо-коричневые остатки плавали на поверхности воды. Она спустила воду еще раз, вымыла руки и ушла.
Не успели мы уйти из ванной, явился Айра. Мы решили остаться и узнать его взгляд на этот вечер.
Едва он снял очки, мы вернулись на аптечку. Его саморевизия больше напоминала медосмотр. Он периодически покрывался прыщами, которые отказывался выдавливать или прокалывать, ибо, как он однажды объяснил Цыганке, бактерии захватят его мозг с той же легкостью, что нацисты – Польшу. Его оружием были гигиенические салфетки; стратегия заключалась в том, что бактерии скорее уберутся в другое место, чем станут терпеть безжалостную антисептику.
Он протер лицо, вычистил зубы. Пока он мурлыкал, булькая полосканием, мы вернулись под сиденье.
Я, уже умудренный опытом, с интересом наблюдал снижение маленькой рябой Айриной задницы во всех замечательных подробностях: черные кудрявые волосы, блистающие прыщи, провисающие линии, красноватые островки раздражений.
Он сел, и костлявое тело пропустило в унитаз потоки света. Затем произошла другая поразительная вещь: хотя водоизмещение Айриной задницы в несколько раз меньше, чем задницы Руфи; хотя зад у него изъеденный и скользкий, а у нее – раздувшийся и ямчатый; хотя у него – очертания больного древесного ствола, а ее телеса болтаются на унитазе китовым хвостом, – несмотря на все это, выглядели они практически одинаково.
– Я сотни раз слышал, как Айра доказывает, что люди созданы равными, – сказал я. – До сегодняшнего дня я не понимал, что он имеет в виду.
– Хотела бы я знать, как Джефферсон до этого додумался, – ответила Либресса,
Единственное очевидное различие между двумя задницами – Айрин питончик. Искусный дрессировщик Айра бережно поместил его у кромки. Питон выплюнул яростную струю, которая неслась по кругу, пока не отозвалось мужественное эхо. На этот раз я не опасался брызг. Но Айра внезапно потряс член, словно пытался его придушить. Струя золотистого яда ударилась в фаянс рядом с нами. Мы забрались поглубже под сиденье: в прошлом месяце Айра вот так смыл в водяную могилу нашу Офелию.
Айра, конечно, не испражнялся регулярно и все же был настоящим сортирным атлетом. Он тренировался еженощно, но успех посещал его не чаще раза или двух в неделю – неважно, сколько отрубей с изюмом он съедал. Сжимая и расслабляя седалищные мышцы, он привставал и опускался на сиденье так ритмично, словно, поддавшись обаянию Джейн Фонды, послушно исполнял жеманные команды видеокурса по аэробике.
– Это непристойно, – пробурчала Либресса. Айра повторил упражнение двадцать пять раз.
Хотя никакого намека на фекалии не появилось, даже газ не просочился, он нагнулся и аккуратно сложенной бумажкой повозил вокруг ануса. Комок упал в воду, Айра оторвал и подтерся еще одной бумажкой. Черные лобковые волосы, заряженные статическим электричеством, встали дыбом и топорщились в разные стороны, словно хохол-перевертыш. Насвистывая, Айра спустил воду, вымыл руки и вышел.
– Если что-то и произошло, он об этом понятия не имеет, – сказал я.
– Я Руфи доверяю. Давай еще с ней побудем. Мы прогулялись до спальни и взобрались на карниз над изголовьем кровати. Руфь лежала под одеялом, глядя, как раздевается Айра. Он уже собирался повесить костюм в гардероб, но вдруг начал принюхиваться. Потом зарылся носом в ткань.
– Оливер говорил, что духи дешевые. Говорил, запах не удержится, – произнес Айра с видом триумфатора. – Сколько уже прошло? Шесть часов? Он пахнет!
Руфь равнодушно вздохнула.
– Да, ты подарил Элизабет замечательный подарок. Мы что, снова об этом поговорим? И почему твой костюм пахнет ее духами?
– Она за ужином сидела рядом со мной. Почему еще?
– Я не знаю, Айра. Ты необычный мужчина. Я не уверена, что на свете много мужчин, которые разбираются в марках духов и у которых одежда эти духи впитывает. И я не знаю, сколько мужчин нюхают собственные подмышки, когда рядом лежит голая женщина.