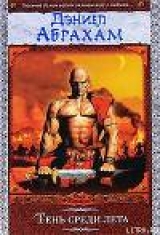
Текст книги "Тень среди лета"
Автор книги: Дэниел Абрахам
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Словно холодной водой полили на ожог. Лиат немного успокоилась.
– Так ступай же. Найди его и передай, как я сожалею о том, что случилось. А потом, даже если его не разыщешь, возвращайся ко мне. Обещай, что вернешься!
Лишь через несколько минут Маати оторвался от нее и вышел на улицу. После его ухода Лиат села на лавку и закрыла глаза, прислушиваясь к себе, пытаясь различить отдельные чувства в том, что ее переполняло. Вина и радость. Страх и вместе с тем облегчение. Она любит Маати – теперь это ясно. Так же, как раньше любила Итани, когда они только начинали встречаться. Лиат подняла глаза и увидела, что за ней наблюдают. В замешательстве она совсем об этом забыла.
Мадж смотрела на нее, прижав руку ко рту. В ее глазах стояли слезы. Лиат медленно поднялась и приняла вопросительную позу. Мадж прошла к ней через всю комнату, положила ей руки на плечи и поцеловала прямо в губы, чем немного смутила Лиат.
– Бедный зайчонок! Бедный глупый зайчонок. Моя очень жаль. Ты и этот мальчик… Я глядеть на вас и вспоминать о человек, который… об отце. Я называть тебя глупой и слабой потому, что забыть, какова юность. И я когда-то была такая же, а сейчас не в уме. То, что я сказала обидное, забираю назад.
Лиат кивнула. Она уловила извинение, хотя и не весь его смысл. Мадж ответила длинной фразой на ниппуанском. Слух Лиат выхватил только слова «опыт» и «боль». Мадж ласково погладила ее по щеке и ушла.
19
– Вас это беспокоит, бабушка? – спросила Митат по пути.
Она говорила тихо, чтобы их никто больше не слышал, даже наемники, которые шли по два впереди и сзади.
– Объяснись, а то я сейчас вспомню дюжину поводов для беспокойства, – сказала Амат.
– Выступление против Вилсина.
– Конечно. Но тут уж ничего не поделаешь.
– Просто… Дом Вилсинов был к вам добр столько лет… как вторая семья, правда? Порвать с ними сейчас…
Амат сощурилась. Митат вспыхнула и приняла позу извинения. Амат сделала вид, что не заметила.
– Речь, кажется, не обо мне?
– Не совсем, – ответила Митат.
С моря подул зябкий ветер, а солнце, клонящееся к закату, только удлинило тени и окрасило все оранжевым. Флаги над домом охраны затрепетали, зашуршали, как чей-то голос из-за стены. Стражники открыли дверь, кивнули караульным внутри и пригласили Амат с помощницей, подругой и первой настоящей союзницей во всем этом неприятном деле, войти.
– Если ты думаешь об уходе – ты и твой друг, – у меня две просьбы. Во-первых, дождемся слушания. Во-вторых, дай мне предложить свои условия. Если не договоримся, отпущу тебя с благословением.
– Моя кабала была довольно суровой, так что…
– Ой, не будь дурочкой! – перебила Амат. – Ты ведь заключала договор с Ови Ниитом? А между моими условиями и его – большая разница.
Митат улыбнулась – немного печально, как Амат показалось – и жестом подтвердила соглашение. В караульном помещении Амат заплатила за охрану, подписала и заверила документы, взяла копию для отчетности. На следующий лунный цикл она и ее подопечные получали все привилегии честных обитателей веселого квартала. Она отправилась обратно со своими пятью попутчиками, но все такая же одинокая.
У лотка старого лавочника ее пленил запах чесночных колбасок. Амат отчаянно пожелала остановиться, отослать прочь охрану и устроиться где-нибудь рядом с Митат, поболтать по душам, как подруги. Она бы выяснила, за какую цену та согласилась бы остаться, и заплатила бы, сколько бы это ни стоило. Но стражники не давали им ни сбавить шаг, ни поговорить наедине. Да и Митат не согласилась бы. Амат сама понимала, как это неразумно: Марчат Вилсин, наверное, сейчас бьется в отчаянии, а его, как оказалось, нельзя недооценивать. Опасно было даже выходить из заведения. И все же хоть сколько-нибудь простая жизнь соблазняла, манила сильнее любой продажной женщины.
Амат шаг за шагом двигалась вперед. Придет время и для покоя, говорила она себе. Потом, когда раскроется гальтский заговор и расследование переложат на кого-то другого. Когда смерть ребенка будет отомщена, ее город избавится от угрозы, а душа – от мук совести. Когда она снова станет собой, если от прошлой нее еще что-то осталось, или создаст себя заново.
У парадного входа в заведение их дожидался гонец – совсем юноша, не старше Лиат, но в одежде цветов правящего дома. «Послание от хая Сарайкета», – поняла Амат. У нее замерло сердце.
– Ты ищешь Амат Кяан? – спросила она.
Гонец, юноша с близко поставленными глазами и тонким носом, принял уважительно-утвердительную позу. Позу придворного.
– Ты ее разыскал.
Юноша вынул из рукава письмо с хайской печатью. Амат вскрыла его тут же, на улице. Почерк был прекрасным, как и во всех посланиях из дворца, и так изобиловал вензелями, что буквы с трудом узнавались. Впрочем, Амат уже приноровилась его разбирать. Она вздохнула и приняла позу благодарности, отпуская гонца.
– Я все поняла, – сказала она. – Ответа от меня не будет.
– Что случилось? – спросила Митат, переступая через порог с остальными. – Дурные вести?
– Нет, – пояснила Амат. – Обычная проволочка. Хай отложил слушание на четыре дня. Другая сторона желает подготовить ответ.
– Вилсин?
– Полагаю, да. На самом деле, это и нам на руку. Теперь у нас больше времени на подготовку.
Амат остановилась посреди передней комнаты, похлопала сложенным письмом по краю игрального стола. В глубине гостевой половины, где клиенты выбирали себе женщин, раздался девичий смех. Странный звук, подумала Амат. Ей сейчас всякое проявление радости казалось странным. Будь она Марчатом Вилсином, можно было сыграть в последнюю игру: бросить дротик в небо и понадеяться на чудо.
– Приведи ко мне Ториша-тя, – сказала она. – Я хочу еще раз обсудить нашу безопасность. Кстати, друг Лиат, Итани, не объявлялся?
– Пока нет, – ответил стражник у главных ворот. – А второй был. Уже ушел.
– Если кто-то из них придет, отсылайте ко мне.
Она прошла в заднюю половину. Митат – за ней.
– Скорее всего, эта задержка – формальность, но если Марчат хочет ей воспользоваться, я должна быть готова.
– Бабушка…
Они пришли в общую комнату, заполненную женщинами и мальчиками в костюмах, людьми, которые следили за игрой и наливали гостям вино, запахом свежего хлеба и жареного барашка и людским гомоном. Митат встала у двери, скрестив руки. Амат сложила позу недоумения.
– Кому-то придется сообщить Мадж, – пояснила помощница.
Амат закрыла глаза. Конечно! Сообщить Мадж. Как будто не хватало других забот. Ну и ладно. Если перепалки не избежать, пусть она будет на ниппуанском. Амат дважды глубоко вздохнула и посмотрела на Митат. На лице той появилась виноватая улыбка.
– А ведь я могла стать танцовщицей, – сказала Амат. – В детстве подавала большие надежды. Живи я сейчас танцами, не пришлось бы проходить через все это дерьмо.
– Если хотите, я ей скажу, – предложила Митат.
Амат только улыбнулась, покачала головой и пошла к двери комнатушки Мадж, крепясь перед неизбежной грозой.
Ота Мати, шестой сын хая Мати, сидел на краю пристани и смотрел на море. В сумерках лишь половинка луны освещала его, приплясывая на верхушках волн. Набережная заканчивала дневные труды, начиналась ночь – пора развлечений. Ота не обращал внимания на суету, ел кусочки острой курятины с имбирем из бумажного кулька и не думал ни о чем.
У него было две медных полоски. Годы работы, годы попыток прижиться в этом городе, и вот с чем он остался: с двумя кусками меди. Хватит на пиалу вина, если не привередничать. Все остальное пропало: растрачено, выброшено, пущено по ветру. Зато ему это не в новинку. Внизу, под сваями, начинался прилив. До зари он опять схлынет.
Время пришло.
Ота прошел вдоль берега, бросил бумагу, пропитавшуюся куриным жиром и пряностями, в печь огнедержца, где та вспыхнула и обуглилась, осветив на миг лица прохожих, гревшихся у огня. Склады стояли запертые и темные, широкая Нантань обезлюдела. У дверей чайной жалостливо пела нищенка над коробкой для денег, в которой было втрое больше того, что осталось у Оты. Он бросил ей одну полоску меди – на удачу.
В веселом квартале начиналась самая обычная ночь. Все было как всегда: флейты и барабаны, ароматы благовоний и каких-то иных дымов, меланхоличные взгляды женщин, торгующих собой с низких балконов и из проемов окон. Только Ота будто пришел сюда впервые, из другого края. «Еще не поздно повернуть назад», – говорил себе Ота. Даже сейчас можно было отказаться и уйти, как он ушел из школы давным-давно. Уйти и назвать это силой воли или нравственной чистотой. Или безмятежностью камня. Всегда найдутся слова для оправдания, но сути они не изменят.
Проулок был там, где показал Бессемянный – почти незаметный в тенях окружавших домов. Ота ненадолго задержался у поворота. Где-то в глубине горел фонарь, ничего, кроме себя, не освещая. Мимо проковылял борец с разбитой в кровь головой. Два ткача на другой стороне улицы засмеялись, показывая на него пальцами. Ота шагнул в темноту.
Под ногами хлюпала грязь и нечистоты, словно он шел по илистому мелководью. Фонарь с каждым шагом делался ярче, хотя идти до него не пришлось: дверь, описанная андатом, нашлась раньше. Ота надавил на нее рукой. Доски были крепкими, замок – чугунным. Сквозь ставни пробивался свет. «Значит, внутри, – подумал Ота, – горит огонь. Значит, поэт там, в своем тайном убежище – скрывается от дворцовых красот и дома, доставшегося в придачу к ноше». Он осторожно подергал дверь, но та была заперта. Потом он поскребся, постучал, но никто ему не открыл. Можно было бы взломать замок ножом, поднять щеколду – пьяный этого даже не заметит. Но на улицах было еще слишком людно, а андат советовал приходить за полночь. Сейчас же свеча еще не прогорела до первой четверти.
– Хешай-кво! – громко окликнул Ота. Его голос прозвучал гулко среди каменных стен. – Отоприте!
Довольно долго никто изнури не отзывался, но потом полоска света вокруг ставней потемнела, щеколда тяжело звякнула и дверь, скрипя, отворилась. На пороге возникла приземистая темная фигура Хешая-кво. Его халат был мятым, волосы – всклокоченными, широкий рот неодобрительно кривился.
– Ты что тут забыл?
– Надо поговорить, – сказал Ота.
– Нам не о чем разговаривать, – отрезал поэт и шагнул назад, толкая дверь. – Ступай прочь.
Ота навалился на дверь со своей стороны – сначала поддал плечом, потом уперся спиной и ногами. Поэт с удивленным «ох» упал навзничь.
В доме было тесно, грязно и убого. Деревянная раскладушка стояла почти вплотную к очагу, пол усеивали пустые бутылки. С просевших потолочных балок на стены сползали потеки плесени. Пахло болотной гнилью. Ота закрыл за собой дверь.
– Ч-чего тебе надо? – промямлил поэт, бледнея от страха.
– Надо поговорить, – повторил Ота. – Бессемянный сказал мне, где вы скрываетесь. Он послал меня вас убить.
– Убить? – переспросил Хешай и вдруг хмыкнул. Его страх как будто улетучился. Казалось, ему даже смешно. – Убить меня. Боги…
Качая головой, он протопал к раскладушке и уселся на нее так, что холст затрещал. Ота встал между очагом и дверью, готовясь перехватить Хешая по пути, если тот бросится бежать. Хешай и не пытался.
– Стало быть, явился меня прикончить? Ну что же. Парень ты крепкий, а я старый, жирный и почти пьяный, поэтому много хлопот не доставлю.
– Бессемянный сказал, что вы были бы рады умереть, – произнес Ота. – Хотя, по мне, это он хватил. В любом случае я ему не марионетка.
Поэт хмуро посмотрел на него, щуря красные глаза от яркого пламени. Ота ступил вперед, сел, поджав ноги, как в школе, и сотворил жест обращения к учителю.
– Вы ведь знаете, что происходит. Насчет Амат Кяан и ее выступления перед хаем. Вы должны знать, что за этим последует.
Медленно, словно нехотя, Хешай принял утвердительную позу.
– Бессемянный надеялся, что я убью вас и предотвращу этот кошмар. Я не убийца, – сказал Ота. – Только ставки… цена, которую заплатят невинные… и Маати… слишком высока. Я не могу этого позволить.
– Понимаю, – произнес Хешай. Потом он надолго замолк – только пламя потрескивало в тишине. Наконец поэт задумчиво потянулся куда-то вниз и поднял недопитую бутылку. Ота смотрел, как он пьет, слышал, как булькает в глотке. Вскоре раздалось:
– И как же ты намерен выйти из положения?
– Освободите андата, – сказал Ота. – Я пришел просить, чтобы вы дали Бессемянному волю.
– Вот так просто?
– Да.
– Не могу.
– А по-моему, можете.
– Я не сказал, что это невозможно. Боги, чего уж проще. Надо было бы только… – Он развел пальцы в жесте освобождения. – Однако мне это не под силу – вот что я хотел сказать. Сожалею, парень. Знаю, с твоей стороны все кажется просто, но это не так. Я поэт Сарайкета, а этого не отменишь, даже если очень устал. Даже если тебя разрывает изнутри. Даже если гибнут дети. Суди сам: если бы тебе пришлось выбирать – спасти город или подержать в руке горящую головню, ты бы потерпел. Если ты, конечно, приличный человек.
– А каким вы будете человеком, если позволите хаю мстить невинным людям?
– Я буду поэтом, – ответил Хешай с печальной улыбкой. – Тебе, молодому, не понять. Я держал эту головню, когда тебя еще на свете не было. И бросить не могу – потому что не могу. Слишком тесно со всем этим повязан. Если остановлюсь хоть на миг, то стану никем и ничем.
– Мне кажется, вы ошибаетесь.
– Да. Да, я вижу, что тебе так кажется, но твое мнение здесь ничего не решает. Хотя ты ведь это предвидел, так?
Оте и до того было тягостно, а теперь будто камень в желудок упал. Он принял позу подтверждения. Поэт наклонился вперед и накрыл его руку своей широкой лапищей.
– Ты ведь знал, что я не соглашусь, – сказал он.
– Я надеялся…
– Но должен был попробовать, – одобрительно закончил Хешай. – Это говорит в твою пользу. Ты должен был попробовать. Не вини себя. Я не нашел в себе сил это прекратить – после стольких-то лет самого живого участия. Выпьешь?
Ота принял бутылку, глотнул и отдал. Вино оказалось крепким, с примесью чего-то еще, что оставляло травяной привкус в гортани. В животе разлилось тепло. Хешай, видя его удивление, рассмеялся.
– Забыл предупредить. Вино непростое – к телячьим потрохам его не подают, но мне нравится. Оно меня усыпляет. А почему – прости за нескромный вопрос – наш общий знакомый решил, что ты пойдешь для него на убийство?
Слово за слово, Ота рассказал ему свою историю – свою тайну и Вилсинову, кто сбросил на Лиат черепицу и почему Маати обречен на страдания. Хешай внимательно слушал, время от времени кивая и задавая вопросы для пояснений. Когда всплыла тайна происхождения Оты, поэт только округлил глаза, но ни словом не отозвался. Он дважды протягивал бутылку, и Ота пил с ним вместе. Удивительно было облекать все в слова, слышать из собственных уст еще только наполовину обдуманные мысли, историю его судьбы, чужих судеб, рассказ о справедливости и предательстве, верности и переменах, которые море творит с человеком. Вино, страх, боль и тяжесть в груди Оты превратили старика поэта в его поверенного, исповедника, друга – пусть на один миг.
Ночная свеча прогорела почти до половины, когда Ота подытожил признание – свои мысли и промахи, тайны и неудачи. Об одном он пока не был готов упомянуть – о корабле, где на последнее серебро заказал два места, чтобы отплыть на юг перед рассветом. О маленьком кораблике с Запада, решившемся на зимний торговый рейд в край, где море не покрывается льдом. О корабле для убийцы в бегах и его подручного. Эту тайну он придержал.
– Тяжело, – вымолвил поэт. – Тяжело. Маати – славный мальчуган. Несмотря на все. Просто еще молодой.
– Прошу вас, Хешай-кво, – сказал Ота. – Остановите это.
– Я не властен. И к тому же, если даже я позволю чудовищу ускользнуть, твоя знакомая владелица дома утех наверняка потрясет всех своим рассказом. Следующий андат, которого пришлет дай-кво, может оказаться не лучше. Или наш хай попросит помощи у других правителей, чтобы выступить от имени всех летних городов. Если меня убить, Маати спасется и твоя тайна останется при тебе, но Лиат… Гальты…
– Я думал об этом.
– В любом случае я уже стар для таких игр. Менять имена, меняться самому, примерять жизни, как халаты – занятие молодых. В моем возу слишком много прожитых лет, а с таким грузом сильно заносит на поворотах. Кстати, как бы ты стал это делать?
– Что делать?
– Меня убивать.
– Бессемянный советовал придти перед рассветом, – сказал Ота. – Говорил, если взять шнур и затянуть туго на шее, вы не вскрикнете.
Хешай хмыкнул, на этот раз мрачно. Допил вино, оставив у изгиба горлышка гущу из черных листьев, потом пошарил под кушеткой, извлек новую бутыль, рывком откупорил и бросил пробку в огонь.
– Он слишком хорошего обо мне мнения, – произнес поэт. – Учитывая, сколько я выпиваю, уже к трем четвертям свечи меня можно будет кантовать, как ящик камней.
Ота нахмурился, и в тот же миг его будто холодной водой обдало, едва он понял весь смысл сказанного. Он так ужаснулся, что свело внутренности, но ни слова не выронил. Поэт смотрел в огонь. Слабое, гаснущее пламя бросало отсветы на его печальные крупные черты. Оте вдруг захотелось обнять его или встряхнуть, но этот порыв скоро оставил его, как волна, которая, нахлынув, уходит обратно в море. Когда старый поэт поднял глаза, Ота увидел в них отражение собственной тьмы.
– Я всегда делал так, как мне велели, мой мальчик. А в награду получал совсем не то, чего ждал. Ты не убийца. Я поэт. Чтобы всех спасти, одному из нас надо измениться.
– Мне пора, – сказал Ота, поднимаясь на ноги.
Хешай-кво принял позу прощания, по-родственному теплую.
Ота ответил тем же. По щекам поэта и по его собственным текли слезы.
– Вам лучше закрыть за мной, – сказал Ота.
– Потом, – отозвался Хешай. – Если вспомню.
Смрадный стылый воздух переулка словно пробудил его ото сна или вывел из полудремы. В небе сквозь клочья и пальцы облаков, прозрачные, как вуаль, сиял полумесяц. Ота шел с поднятой головой, но не мог сдержать слез, как ни стыдился. Сейчас он станет убийцей. Глядя на себя со стороны, он видел внутри тоску и дегтярно-черный ужас, который разнился со страхом лишь отсутствием сомнений. Как его братья смогут, когда придет пора, восстать друг против друга, хладнокровно, в трезвом рассудке поднять руку на человека?
Дом утех Амат Кяан сиял в ночи подобно другим заведениям этого рода. Звучали музыка, женский смех и проклятия игроков за столами. Богатства города перетекали из одних рук в другие, обращаясь в деньги и удовольствие. Ота знал: так будет не всегда. Он стоял посреди улицы и впитывал запахи, звуки, золотой свет и яркие вывески, радость и печаль веселого квартала. Завтра город изменится.
Стражник у двери узнал его.
– Бабушка хотела тебя видеть.
Ота словно со стороны смотрел, как его руки складываются в ответный жест, а губы – в обычную приятную улыбку.
– Где мне ее найти?
– На втором этаже, с девчонкой Вилсина.
Ота поблагодарил его и прошел внутрь. Общая комната не пустовала: несколько женщин ели и разговаривали за столами, а в нише стояла полуголая черноволосая девушка, оборачивая вокруг груди полоску полупрозрачного шелка с видом торговки, придающей товарный вид треске. Ота окинул взглядом широкую грубо сколоченную лестницу в покой Амат Кяан, к Лиат. На втором этаже было заперто. Он отвернулся и тихо поскребся в дверь другой комнаты, за которой при нем скрылась Мадж в ту ночь, когда они разговаривали.
Дверь приоткрылась, в проеме возникло лицо островитянки. Ее щеки были румяными, глаза лихорадочно блестели. Ота придвинулся ближе к ней.
– Прошу, нам надо поговорить!
Мадж подозрительно прищурилась, но через миг отступила назад, и Ота вошел в комнату и закрыл за собой. Мадж стояла, выпятив грудь и вздернув подбородок, словно ребенок перед дракой. Единственная лампа на столе освещала ее кровать, ручной ткацкий станок и кипу платья в ожидании стирки. В углу валялась опрокинутая винная пиала. Мадж была пьяна. Ота быстро это понял и счел, что так даже лучше.
– Мадж-тя, – сказал он. – Прости, но мне нужна твоя помощь. А я смогу удружить тебе.
– Я здесь жить, – ответила она. – А не работай. Я не из таких девиц. Уходи.
– Нет-нет, – поправился Ота. – Я пришел не за этим. Мадж, я могу сделать так, что твоя месть совершится нынче же ночью. Человек, который повелевает андатом. Тот, который отнял твое дитя. Я могу отвести тебя к нему.
Мадж нахмурилась и медленно покачала головой, не сводя глаз с Оты. Он тихо и быстро, в самых простых словах и немногих позах объяснил, что гальты служили орудием Бессемянному, что Хешай им управляет, и что он, Ота, может отвести ее к поэту, если они уйдут без промедления. Она как будто оттаяла и смотрела с некоторой надеждой.
– Но потом, – добавил он, – ты должна позволить мне отвезти тебя домой. Я подготовил корабль. Он отплывает на рассвете.
– Я спросить бабушка, – сказала Мадж и направилась к двери. Ота преградил ей путь.
– Нет. Ей нельзя об этом знать. Она хочет наказать гальтов, а не поэта. Если ты ей расскажешь, тебе придется пойти с ней. Придется выступать перед хаем и ждать, что он решит. А я могу дать тебе отомстить сегодня. Но тогда ты должна будешь уйти от Амат и не видеть хая. Таково мое условие.
– Думать, я дура? Почему я должна верить? Зачем тебе это?
– Ты не дура. И мне можно верить, потому, что я могу исполнить твои желания: покончить с неизвестностью, отомстить и вернуться домой. Я делаю это затем, чтобы другие женщины не пострадали, как ты, и чтобы тварь, причинившая тебе зло, исчезла из мира.
«Затем, чтобы спасти Маати и Лиат. И Хешая. Затем, что это ужасно и вместе с тем правильно. И затем, чтобы наконец увезти тебя из этого дома».
Бледные полные губы Мадж дрогнули в полуулыбке.
– Ты кто, – спросила она, – человек или дух?
Ота принял позу недоумения. Мадж протянула руку и коснулась его, словно чтобы удостовериться в его телесности.
– Если ты человек, я уставать от обманов. Ты врать мне, и я убить тебя этими зубами. Если ты дух, может быть, тот, о ком я молить.
– Если ты молилась об этом, – сказал Ота, – значит, я ответ на твои молитвы. Только собирайся побыстрее. Нам пора, и обратно мы не вернемся.
На миг она заколебалась, но потом в ее глазах вспыхнул гнев, который Ота видел раньше – гнев с отчаянием. Его-то он и ждал, на него и рассчитывал. Мадж оглядела свою комнатушку, подобрала что-то вроде недотканного полотенца и сплюнула на пол.
– Больше ничто здесь не хотеть, – произнесла Мадж. – Ты вести меня сейчас. Показывай. Если не так, как сказал, я убить тебя. Ты не верить?
– Нет, – ответил он. – Верю.
Отвлечь стражника оказалось нетрудно – надо было только отослать его наверх поговорить с Амат. Да и охрана здесь стояла для защиты, а не против побега. За четыре-пять вздохов Ота вывел Мадж наружу. Еще дюжина – и они исчезли, скрылись в лабиринте улочек и подворотен веселого квартала.
Мадж держалась как можно ближе к Оте. Когда они проходили под уличными фонарями или факелами, он мельком поглядывал на нее, ошалевшую от свободы и жаркого гнева. Нужный им переулок был пуст. Ота толкнул дверь. Не заперта.
Маати шагнул за порог дома поэта. Ноги у него гудели, голова – еще больше. В доме было тихо, темно и холодно. Лишь единственный огонек ночной свечи стоял, как часовой, внутри стеклянного колпака. Свеча прогорела больше, чем наполовину, а значит, ночь была больше чем наполовину изжита. Маати рухнул на диван с вышитым покрывалом и с головой укрылся тяжелой тканью. Он обошел все чайные, расспросил всех знакомых, но Ота-кво точно канул в туманы пристани, превратился в воспоминание. Каждый шаг стал для Маати долгим странствием, каждая пядь лунной дуги вмещала целую жизнь. Свернувшись под покрывалом, Маати думал, что быстро заснет, но желтый свет отвлекал его, будил, едва он прощался с прошедшим днем. Маати завозился, и платье сбилось комом под ребрами. Казалось, прошло полночи, прежде чем он сдался и сел. Импровизированное одеяло свалилось на пол. Однако на ночной свече было все так же меньше трех четвертей.
– Не спится – выпей вина, – раздался из тени на лестнице знакомый голос. – В продолжение традиции. Сколько ночей наш благородный поэт провел рядом с лужей собственной рвоты, воняющей перебродившим виноградом…
– Умолкни, – вяло отозвался Маати. В нем уже не осталось сил, чтобы отбиваться от навязчивого внимания андата. Мало-помалу из темноты показались совершенные руки и лицо. Одет андат был в белое платье, бледное, как его кожа. Траурное одеяние. Бессемянный, как обычно, уселся на второй ступеньке, вытянул ноги и с улыбкой посмотрел на Маати – по обыкновению, ироничный, лукавый, лживый и печальный. Впрочем, что-то в нем чувствовалось необычное, какая-то скрытая сила, которую Маати не мог постичь.
– Я лишь хотел сказать, что тяжелую ночь можно сократить, если хочешь. И если не боишься последствий.
– Оставь меня в покое, – отозвался Маати. – Я не хочу с тобой разговаривать.
– А если я скажу, что заходил твой дружок с пристани?
У Маати перехватило дух, а сердце будто зажило собственной жизнью. Он принял позу вопроса.
– Обманули! – со смехом произнес Бессемянный. – Я просто проверял твои условия. Либо ты не хотел разговаривать совсем, либо были какие-то оговорки. Все чисто теоретически.
Маати покраснел от стыда и злости, схватил первое, что попалось под руку, и швырнул в Бессемянного. Оказалось, вышитой бисером подушкой. Она легко отскочила от коленей андата. Бессемянный принял позу раскаяния и вернул подушку на место.
– Я не хотел тебя обидеть, мой мальчик. Просто у тебя такой вид, словно кто-то украл твоего щенка, вот я и решил тебя развеселить. Теперь вижу, что зря. Прости.
– А где Хешай?
Андат замолчал, глядя в сторону, словно мог видеть сквозь стены и деревья и найти поэта, где бы он ни был. Его губы изогнулись в легкой улыбке.
– Далеко. В своем пыточном ящике. Как всегда, я полагаю.
– Здесь его нет.
– Нет, – бесхитростно отозвался андат.
– Мне нужно с ним поговорить.
Бессемянный уселся рядом с Маати на кровать и начал отстраненно его разглядывать. Траурное платье андата было не новым, хотя его очень давно не надевали. Покрой был простым, а ткань – грубой, не смягченной многочисленными стирками. Судя по тому, как оно висело, платье предназначалась кому-то покрупнее андата. Хешаю оно было как раз впору. Бессемянный, видимо, проследил за взглядом Маати и осмотрел себя, точно впервые заметил, что на нем надето.
– Он заказал его по случаю смерти матери, – пояснил андат. – Когда еще учился у дая-кво. Новость до него дошла уже после похорон. А выбрасывать не стал, чтобы не пришлось покупать новое, когда кто-нибудь еще умрет.
– А с какой стати ты его надел?
Бессемянный пожал плечами и развел руки, обозначая все и ничего разом.
– Из уважения к мертвым. Зачем же еще?
– Все бы тебе издеваться, – сказал Маати. От усталости у него еле язык ворочался, но спать хотелось не больше, чем по возвращении. Его словно лихорадило. – Ничего святого.
– Неправда, – возразил андат. – Пусть для меня это игра, но я отношусь к ней серьезно.
– О боги. Неужели Хешай-кво тебя так создал, чтобы ты всегда нес околесицу? С тобой говорить, что с дымом.
– Я могу отвечать прямо, если тебе так хочется. Спрашивай, о чем пожелаешь.
– Мне не о чем тебя спрашивать, а тебе нечему меня учить, – Маати встал. – Я иду спать. Все равно завтра хуже быть не может.
– Возможность – штука пространная, мальчик мой. «Не может быть» – слова зашоренного ума, – произнес Бессемянный у него за спиной, но Маати не обернулся.
В комнате юноши было холоднее, чем в гостиной. Он зажег огонь в жаровне, забрался под шерстяные одеяла, скинул туфли и попытался заснуть. В мозгу у него мелькали картины и ощущения минувшего дня: отчаяние Лиат и тепло ее прикосновений, последние слова Оты-кво и рвущаяся из них боль. Только бы разыскать его, поговорить еще раз…
В полудреме Маати начал вспоминать места, где бывал ночью – вдруг что-то просмотрел. Представляя себе ночные улочки Сарайкета, он понял, что движется по ним уже во сне: за переулком – переулок, за площадью – площадь, пока не оказался в местах, какие существовали только в его разочарованном, отчаявшемся воображении. И все это время он понимал, что видит сон, но не спит.
Маати отпихнул одеяла, задыхаясь от невидимого гнета. Маленькая жаровня не грела, и вскоре холод привел его в сознание. Он лежал в темноте и плакал. Когда и это не принесло облегчения, он встал, переоделся в свежее и спустился в гостиную.
Андат разжег в очаге пламя. Над огнем висел медный котелок с вином, наполняя комнату густым ароматом. На коленях у Бессемянного лежала книга в коричневом переплете – книга, где говорилось о его собственном создании и ошибках создателя. Маати подошел к огню и стал греть ноги. Андат не оглянулся. Когда он заговорил, голос звучал устало.
– Спирт выветрился. Можно пить, сколько влезет, и не опьянеть.
– А в чем тогда смысл?
– В приятности. Хотя вкус будет крепковат. Я думал, ты спустишься раньше. Если долго его кипятить, загустеет.
Маати повернулся к андату спиной, взял старый медный черпак и наполнил себе чашу. Когда он отхлебнул, вино оказалось горячим, терпким и действительно приятным.
– Хорошее, – произнес он.
Зашелестела бумага – Бессемянный за его спиной закрыл книгу. Повисло такое долгое молчание, что Маати невольно оглянулся. Бессемянный сидел неподвижно, как статуя. Дыхание не тревожило его одежд, лицо ничего не выражало. Потом грудь андата поднялась, вбирая воздух, и он произнес:
– А что бы ты сделал, если бы его нашел?
Маати поджал под себя ноги и подул на вино, а потом ответил:
– Попросил бы прощения.
– Считаешь, ты его заслужил?
– Не знаю. Наверное, нет. Я поступил плохо.
Бессемянный хмыкнул, подался вперед и переплел длинные изящные пальцы.
– Ну еще бы, – произнес он. – Разве просят прощения за что-нибудь хорошее? Но скажи-ка, раз уж мы затронули тему наказания и милосердия, зачем просить того, чего не заслужил?
– Ты говоришь, как Хешай-кво.
– Конечно, а ты уходишь от ответа. Если не нравится вопрос, попробую задать другой. Ты простишь меня? Я знаю, что поступил дурно. Так сделаешь ли ты для меня то, что хочешь получить от другого?
– А ты бы хотел?
– Да, – ответил андат на удивление жалобно. Маати никогда раньше не замечал в нем такого чувства. – Да, я хочу получить прощение.
Маати отпил вина, а после покачал головой.
– Чтобы ты опять принялся за свое? Будь у тебя возможность, ты бы предал все и вся, чтобы ранить Хешая-кво.
– Ты так думаешь?
– Да.
Бессемянный склонил голову, коснувшись волосами рук.
– Наверное, ты прав, – сказал он. – Хорошо, тогда такой вопрос. Ты простил бы Хешаю-кво его недостатки? Как безалаберного учителя, как поэта, который сотворил такое опасно ущербное существо, как я? Верно, он неполноценен во всем, какое качество ни возьми. Разве он заслуживает милосердия?








