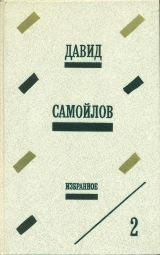
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Давид Самойлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Кульчицкий, Коган и Майоров,
Смоленский, Лебский и Лапшин,
Борис Рождественский, Суворов —
В чинах сержантов и старшин
Или не выше лейтенантов —
Созвездье молодых талантов,
Им всем по двадцать с небольшим…
Шли по Палихе, по Лесной,
Потом свернули на Миусы.
А там уж снег пошел сплошной,
Он начал городить турусы
И даже застил свет дневной.
– Я здесь живу. А вам куда?
– Мне никуда. Но не беда —
Переночую на вокзале.
А там!.. Ведь есть же города,
Куда доходят поезда…—
Они неловко помолчали.
– А можно к вам?—
Сказала:
– Да
Прошли заснеженным двором.
Стряхнули снег. Вошли вдвоем
В ее продрогшую каморку.
– Сейчас мы печку разожжем,—
Сказала. И его восторгу
Пришел конец. Так холодна
Была каморка и бедна.
Но вскоре от буржуйки дымной
Пошло желанное тепло.
В окне, скрывая холод зимний,
Лепились хлопья на стекло.
Какая радость в дни войны
Отъединиться от погоды,
Когда над вами не вольны
Лихие прихоти природы!
(Кто помнит: стужа, и окоп,
И ветер в бок, и пуля в лоб.)
Он отвернулся от окна,
От города, от снегопада
И к ней приблизился.
– Не надо,—
Сказала. Сделалась бледна.
Он отступился. Вот досада!
Спросила:
– Как вас звать? —
Сказал.
– А вас как? —
Отвечала:
– Клава.
В окне легко и величаво
Варился зимний снежный бал.
Кружила вьюга в темпе вальса,
Снег падал и опять взвивался.
Смеркалось. Светомаскировку
Она спустила. Подала
Картошку. И полулитровку
Достала. В рюмки разлила.
Отделены от бури снежной
Бумажной шторкою ночной,
Они внимали гул печной.
И долго речью безмятежной
Их ублажал печной огонь.
Он в руки взял ее ладонь.
Он говорил ей:
– Я люблю вас,
Люблю, быть может, навсегда.
За мной война, печаль и юность.
А там – туманная звезда.—
Он говорил ей:
– Я не лгу,
Вы мне поверьте, бога ради,
Что, встреченную в снегопаде,
Вас вдруг оставить не могу!..
Такой безвкусицей банальной,
Где подлинности был налет,
Любой солдатик госпитальный
Мог растопить сердечный лед.
Его несло. Она внимала,
Руки из рук не отнимала.
И, кажется, не понимала,
Кто перед ней. И поняла.
И вдруг за шею обняла
И в лоб его поцеловала.
Он к ней подался. К ней прильнул.
Лицом уткнулся ей в колени.
И, как хмельной, в одно мгновенье
Уснул… Как так?.. Да так – уснул.
Вояка, балагур, гусар
Спал от усталости, от водки,
От теплоты, от женских чар.
И его руки были кротки.
Лежал, лицо в колени пряча,
Худой, беспомощный – до плача.
Подумала: куда в метель?
И отвела его в постель.
Проснулся. Женское тепло
Почувствовал в постели смятой.
Протер глаза. Был час десятый.
И на дворе еще мело.
Записка: «Я вернусь к пяти,
Если захочешь, оставайся».
Кружилась вьюга в темпе вальса.
Успела за ночь замести
Она Тверские и Ямские
И все проезды городские,
Все перепутала пути.
С пургой морозы полегчали,
И молодой солдат в печали
Решал – уйти иль не уйти?..
Да и меня в иное время
Печаль внезапно проняла
О том, что женщина ушла
И не появится в поэме.
Хотел бы я ее вернуть,
Опять идти под снегопадом…
Как я хотел бы с нею рядом
В тот переулок завернуть!
Как бы хотел, шагая с ней,
Залюбоваться снегом, жестом,
Вернуть и холод этих дней,
И рот, искусанный блаженством…
Я постарел, а ты все та же.
И ты в любом моем пейзаже —
Свет неба или свет воды.
И нет тебя, и всюду ты.
Что я мечтал изобразить?
Не знаю сам. Как жизни нить
Непрочная двоих связала,
Чтоб скоро их разъединить?
Нет, этого, пожалуй, мало.
Важней всего здесь снегопад,
Которым с головы до пят
Москва солдата обнимала.
Летел, летел прекрасный снег,
Струился без отдохновенья
И оставался в нас навек,
Как музыка и вдохновенье…
Учусь писать у русской прозы,
Влюблен в ее просторный слог,
Чтобы потом, как речь сквозь слезы,
Я сам в стихи пробиться мог.
1975
Цыгановы
1. Запев
Конь взвился на дыбы,
но Цыганов
Его сдержал, повиснув на узде.
Огромный конь, коричневато-красный,
Смирясь, ярился под рукою властной,
Мохнатоногий, густогривый конь
Сердился и готов был взвиться снова.
Хозяин хохотал. А Цыганова,
Хозяйка, полногруда и крепка,
Смеялась белозубо с расписного
Крыльца, держа ягненка-сосунка.
А Цыганов уже надел хомут
И жеребца поставил меж оглобель.
И сам он был курчав, силен, огромен.
Все было мощно и огромно тут!
И солнце, и телега, и петух,
И посреди двора дубовый комель.
И Цыганов поехал со двора.
А Цыганова собрала дрова
И в дом пошла.
И сразу опустело,
Когда исчезли три могучих тела —
Ее, и Цыганова, и коня.
Один петух, свой гребень накреня,
Глядел вослед коню и Цыганову.
Потом хозяйка погнала корову.
И это было лишь начало дня.
2. Гость у Цыгановых
– Встречай, хозяйка! – крикнул Цыганов.
Поздравствовались. Сели.
Стол тесовый,
Покрытый белой скатертью, готов
Был распластаться перед Цыгановой.
В мгновенье ока юный огурец
Из миски глянул, словно лягушонок.
И помидор, покинувший бочонок,
Немедля выпить требовал, подлец.
И яблоко моченое лоснилось
И тоже стать закускою просилось.
Тугим пером вострился лук зеленый.
А рядом царь закуски – груздь соленый
С тарелки беззаветно вопиял
И требовал, чтоб не было отсрочки.
Графин был старомодного литья
И был наполнен желтизной питья,
Настоянного на нежнейшей почке
Смородинной, а также на листочке
И на душистой травке. Он сиял.
При сем ждала прохладная капустка,
И в ней располагался безыскусно
Морковки сладкой розовый торец.
На круглом блюде весело лежали
Ржаного хлеба теплые пласты.
И полотенец свежие холсты
Узором взор и сердце ублажали.
– Хозяйка, выпей! – крикнул Цыганов.
Он туговат был на ухо.
Хмельного
Он налил три стакана. Цыганова
В персты сосуд граненый приняла
И выпила. Тут посреди стола
Вознесся борщ. И был разлит по мискам.
Поверхность благородного борща
Переливалась тяжко, как парча,
Мешая красный отблеск с золотистым.
Картошка плавилась в сковороде.
Вновь желтым самоцветом три стакана
Наполнились. Шипучий квас из жбана
Излился с потным пенистым дымком.
Яичница, как восьмиглазый филин,
Серчала в сале. Стол был изобилен.
А тут – блины! С гречишным же блином
Шутить не стоит! Выпить под него —
Святое дело. Так и порешили.
И повторили вскоре. Не спешили,
Однако время шло. Чтоб подымить,
Окно открыли. Двое пацанов
Соседских с воем бились на кулачки.
По яблоку им кинул Цыганов,
Прицыкнув:– Нате вот и не варначьте! —
Тут наконец хозяйка рядом с мужем
Присела. Байки слушала она
Мужские – кто где ранен, где контужен.
Но снова два соседских пацана
Затеяли возню…
Уже смеркалось.
Тележным осям осень откликалась.
Но в каждом звуке зрела тишина.
Гость чокнулся с хозяйкой: – Будь здорова
– Будь! – крикнул Цыганов.
А Цыганова
Печально отвернулась от окна.
3. Рожденье сына
Ребенка нес отец. А Цыганова
Была еще бледна и рядом шла.
Ребенок в стеганое одеяльце
Из голубого шелка был одет,
Перепоясан лентой с пышным бантом.
И чуть распахивался, обнаружив
Тугую пену белоснежных кружев.
Оркестра не хватало. Музыкантом
Был только ветер – полевой флейтист.
Он в поле разливал свой ровный свист.
Так Цыганов, казавшийся гигантом
Над низким горизонтом, шел с женой
И нес ребенка позднею весной.
На полевой дороге колеи
Еще хранили форму ранней грязи.
Но было сухо. Рыжие слои
Напоминали про однообразье
Распутицы.
Пот лил ручьем со лба
Отцовского, когда взошли на взлобок.
Там перед ними свежий куст был робок.
Но пел. И поле пело, как труба.
И вся округа перед Цыгановым
Каким-то звуком наполнялась новым
И новым цветом для него цвела.
Он сына нес в атласном одеяльце,
И Цыганова каменные пальцы
Природа вся разжать бы не могла.
Он нес младенца в голубых обновах,
Как продолженье старых Цыгановых
И как начало Цыгановых новых,
Он нес начало будущих веков,
Родоначальника полубогов.
Среди пеленок, кружев, одеялец
Лежал их дома новый постоялец.
И Цыганов глядел при этом вниз,
Чтоб незаметно было, как лились
Из глаз его безудержные слезы…
Остановились около березы.
На валуне присели отдохнуть.
И Цыганова отворила грудь.
Тут он увидел сына. Он не знал,
Что так младенец немощен и мал.
Он только понял, что за это тело
Он все бы отдал, чем душа владела,
И то свершил, чего не совершал.
Но вдруг ребенок сморщил свой носишко
И раз чихнул.
– Чихать умеет, вишь-ко,—
Промолвил с уважением отец.
– А как же звать его? Сережка, Мишка? —
«И впрямь, как звать его? – подумал он.—
И почему же каждое созданье
Не знает, каково его названье.
Зачем на свете тысячи имен?
И странно, что приобретаешь имя,
Которое придумано другими.
А сам бы как назвал себя?»
Трудна
Была та мысль его про имена.
Он бросил думать и сказал:
– Жена,
Пусть сын наш будет Павел.—
И она,
Чуть улыбнувшись, отвечала: – Ладно.—
Они всегда ведь с мужем жили ладно.
И вот они пришли домой. И в люльку
Плетеную ребенка положили,
Чтоб он там спал покуда день и ночь,
Пока пробрезжит свет в его глазах
И первый смысл его коснется слуха.
А впрямь ли так он нем, и слеп, и глух?
Молчал отец. Жена дитя качала.
И это тоже было лишь начало.
4. Колка дров
С женой дрова пилили. А колоть
Он сам любил. Но тут нужна не сила,
А вольный взмах. Чтобы заголосила
Березы многозвончатая плоть.
Воскресный день. Сентябрьский холодок.
Достал колун. Пиджак с себя совлек.
Приладился. Попробовал. За хатой
Тугое эхо екнуло: ок-ок!
И начал. Вздох и взмах, и зык, и звон.
Мужского пота запах грубоватый.
Сухих поленьев сельский ксилофон.
Поленец для растопки детский всхлип.
И полного полена вскрик разбойный.
И этим звукам был равновелик
Двукратный отзвук за речною поймой.
А Цыганов, который туговат
Был на ухо, любил, чтоб звук был полон.
Он так был рад, как будто произвел он
И молнию, и грозовой раскат.
Он знал, что в колке дров нужна не сила,
А вздох и взмах, чтобы тебя взносило
К деревьям – густолистым облакам,
К их переменчивым и вздутым кронам,
К деревьям – облакам темно-зеленым,
К их шумным и могучим сквознякам.
Он также знал: во время колки дров
Под вздох и взмах как будто думать легче.
Был истым тугодумом Цыганов,
И мысль не споро прилегала к речи.
Какой-нибудь бродячий анекдот
Ворочался на дне его рассудка.
Простейшего сюжета поворот
Мешал ему понять, что это шутка.
«У Карапета теща померла…»
(Как вроде у меня; а ведь была
Хорошая старуха.) «Он с поминок
Идет…»
(У бабы-то была печаль.
Иду, а вечер желтый, словно чай.
А в небе – галки стаями чаинок.)
«И вдруг ему на голову – кирпич.
Он говорит: «Она уже на небе!»
(Однако это вроде наш Кузьмич,
Да только на того свалились слеги,
Когда у тещи в пасху был хмелен…)
Тут Цыганов захохотал. И клен,
Который возрастал вблизи сарая,
Шарахнулся. И листьев легион взлетел.
И встрепенулась птичья стая.
И были смех, и вдох, и зык, и звон.
– Что увидал? – сходя с крыльца резного,
Хозяина спросила Цыганова.
– Да анекдот услышал однова.
Давай, хозяйка, складывать дрова.
5. Смерть Цыганова
Под утро снился Цыганову конь.
Приснился Орлик. И его купанье.
И круп коня, и грива, и дыханье,
И фырканье – все было полыханье.
Конь вынесся на берег и в огонь
Зари помчался, вырвавшись из рук
Хозяина. Навстречу два огня
Друг к другу мчались – солнца и коня.
И Цыганов проснулся тяжело.
Открыл глаза. Ему в груди пекло.
Он выпил квасу, но не отлегло.
Пождал и понял: что-то с ним не так.
Сказал:
– Хозяйка, нынче я хвораю.—
С трудом оделся и пошел к сараю.
А там, в сарае, у него – лежак,
Где он любил болеть.
Кряхтя прилег
И папироску медленно зажег.
И начал думать. Начал почему-то
Про смерть: «А что такое жизнь – минута.
А смерть навеки – на века веков.
Зачем живем, зачем коней купаем,
Торопимся и все не успеваем?
И вот у всех людей удел таков».
И думал Цыганов:
«Зачем я жил?
Зачем я этой жизнью дорожил?
Зачем работал, не жалея сил?
Зачем дрова рубил, коней любил?
Зачем я пил, гулял, зачем дружил?
Зачем, когда так скоро песня спета?
Зачем?»
И он не находил ответа.
Вошла хозяйка:
– Как тебе? —
А он:
– Печет в груди.– И рассказал ей сон.
Она сказала:
– Лошади ко лжи.
Ты поболей сегодня, полежи.—
Ушла. А он все думал:
«Как же это?
Зачем я жил? Зачем был молодой?
Зачем учился у отца и деда?
Зачем женился, строился, копил?
Зачем я хлеб свой ел и воду пил?
И сына породил – зачем все это?
Зачем тогда земля, зачем планета?
Зачем? »
И он не находил ответа.
Был день. И в щели старого сарая
Пробилось солнце, на полу играя,
Сарай еще был пуст до Петрова.
И думал он:
«Зачем растет трава?
Зачем дожди идут, гудят ветра?
А осенью зачем шумит листва?
И снег зачем? Зачем зима и лето?
Зачем?»
И он не находил ответа.
В нем что-то стало таять, как свеча.
Вошла хозяйка.
– Не позвать врача?
– Я сам помру,– ответил ей,– ступай-ка,
Понадобится – позову, хозяйка.—
И вновь стал думать.
Солнце с высоты
Меж тем сошло. Дохнуло влажной тенью.
«Неужто только ради красоты
Живет за поколеньем поколенье —
И лишь она не поддается тленью?
И лишь она бессмысленно играет
В беспечных проявленьях естества?..»
И вот, такие обретя слова,
Вдруг понял Цыганов, что умирает…
…Когда под утро умер Цыганов,
Был месяц в небе свеж, бесцветен, нов
И ветер вдруг в свои ударил бубны,
И клены были сумрачны и трубны.
Вскричал петух. Пастух погнал коров.
И поднялась заря из-за яров —
И разлился по белу свету свет.
Ему глаза закрыла Цыганова,
А после села возле Цыганова
И прошептала:
– Жалко, бога нет.
1973—1976
Старый Дон-Жуан
Убогая комната в трактире.
Дон-Жуан
Чума! Холера!
Треск, гитара-мандолина!
Каталина!
Каталина
(Входит.)
Что вам, кабальеро?
Дон-Жуан
Не знает – что мне!
Подойди, чума, холера!
Раз на дню о хвором вспомни,
Погляди, как он страдает!
Дай мне руку!
Каталина
Ну вас, старый кабальеро.
(Каталина убегает.)
Дон-Жуан
Постой!.. Сбежала,
Внучка Евы, род злодейский,
Чтобы юного нахала
Ублажать в углу лакейской!
Где мой блеск, где бал насущный
Ежедневных наслаждений!
А теперь девчонки скучной
Домогаюсь, бедный гений.
Зеркало! Ну что за рожа!
Кудрей словно кот наплакал.
Нет зубов. Обвисла кожа.
(Зеркало роняет на пол.)
Вовремя сойти со сцены
Не желаем, не умеем.
Все Венеры и Елены
Изменяют нам с лакеем.
Видимость важнее сути,
Ибо нет другой приманки
Для великосветской суки
И для нищей оборванки.
Старость хуже, чем увечье.
Довело меня до точки
Страшное противоречье
Существа и оболочки…
Жить на этом свете стоит
Только в молодости. Даже
Если беден, глуп, нестоек,
Старость – ничего нет гаже!
Господи! Убей сначала
Наши страсти, наши жажды!
Неужели смерти мало,
Что ты нас караешь дважды?
Юный дух! Страстей порывы!
Ненасытные желанья!
Почему еще вы живы
На пороге умиранья?..
Неужели так, без спора,
Кончилась моя карьера?..
Каталина! Каталина!
(Входит Череп Командора.)
Череп
Здравствуй, кабальеро!
Сорок лет в песке и прахе
Я валялся в бездорожье…
Дон-Жуан
(отпрянув в страхе)
Матерь божья! Матерь божья!
Кто ты?
Череп
Помнишь Анну?
Дон-Жуан
Какая Анна?
Ах, не та ли из Толедо?
Ах, не та ли из Гренады?
Или та, что постоянно
Распевала серенады?
Помню, как мы с ней певали
В эти дивные недели!
Как она теперь? Жива ли?
Ах, о чем я, в самом деле!..
Что-то там с ее супругом
Приключилось ненароком.
Не о том ли ты с намеком?
Череп, я к твоим услугам.
Череп
Я не за расплатой.
Судит пусть тебя предвечный.
Расплатился ты утратой
Юности своей беспечной.
Старый череп Командора,
Я пришел злорадства ради,
Ибо скоро, очень скоро,
Ляжем мы в одной ограде;
Ибо скоро, очень скоро,
Ляжем рано средь тумана —
Старый череп Командора,
Старый череп Дон-Жуана.
Дон-Жуан
(смеясь)
Всего лишь!
Мстишь за старую интрижку?
Или впрямь ты мне мирволишь?
Иль пугаешь, как мальчишку?
Мне не страшно. На дуэли
Мог я сгинуть для забавы.
А теперь скрипят, как двери,
Старые мои суставы…
Череп
Смерть принять – не шлюху
Обнимать. А ты, презренный,
Ничего не отдал духу,
Все ты отдал жизни тленной.
Дон-Жуан
Я жизни тленной
Отдал все. И сей блаженный
Сон мне будет легче пуху.
Ни о чем жалеть не стоит,
Ни о чем не стоит помнить…
Череп
Крот могилу роет…
Собирайся. Скоро полночь.
Дон-Жуан
Я все растратил,
Что дано мне было богом.
А теперь пойдем, приятель,
Ляжем в логове убогом.
И не будем медлить боле!..
Но скажи мне, Череп, что там —
За углом, за поворотом,
Там – за гранью?..
Череп
Что там?
Тьма без времени и воли…
1976
Сон о Ганнибале
Однажды на балтийском берегу,
Когда волна негромко набегала,
Привиделся мне образ Ганнибала.
Я от него забыться не могу.
Все это правда и подобье сна,
И мой возврат в иные времена.
– Чего Россия нам не посылала —
Живой арап! – так, встретив Ганнибала,
Ему дивился городок Пернов.
Для этих мест он был больших чинов.
Сей африканец и поэта прадед
Напрасно, говорили, слов не тратит,
А чуть чего – пускает в дело трость.
За это в нем предполагали злость.
Портреты Ганнибала мало схожи
С оригиналом – только смуглость кожи,
Но живость черт, огонь, сокрытый в нем,
И острый ум – не вышли ни в одном.
Глаза как пара черных виноградин,
Походкой мягок и фигурой ладен,
Во цвете лет мужских, не слаб, не хвор.
И по военной табели – майор.
Заслугами, умом и сердцем храбрым
Он сходен был с Венецианским мавром.
Но не Венеция – увы! – Пернов,
Для африканца климат здесь суров.
И вообще арап в России редок,
Особенно такого внука предок!
При нем – жена. Гречанка. Дочь Эллады.
А может быть, Леванта. Мы бы рады
Назвать ее красавицей. Когда б
Приехал с Афродитою арап,
Сюжет у нас пошел бы без задорин
И был бы слишком ясен и бесспорен.
Но с самого начала вышел сбой.
Дочь грека-моряка, она собой
Была нехороша. Слегка раскоса,
Бледна, худа, черна и длинноноса.
Но, видно, все же что-то было в ней.
Арап ее любил. Ему видней.
Он явно снисходил к ее порокам,
Поскольку греки ближе к эфиопам.
В ту пору швед, преодолев разброд,
На нас напасть готовил мощный флот.
И положили русские стратеги,
Чтоб вражеские отвратить набеги
И на предмет закрытия путей,
Усилить ряд приморских крепостей.
Взял знаменитый граф фельдмаршал Миних
Заботу на себя о тех твердынях.
И для устройства крепости Пернов
Им послан был майор Абрам Петров.
Весь день он пропадал на бастионах
И занимался устроеньем оных.
И, в увлечении взойдя на вал,
Он обо всем другом позабывал.
Фортификацию воображеньем
Он дополнял. И к будущим сраженьям
Готовил бастионы и валы.
Он инженер был выше похвалы.
Честолюбивый русский абиссинец
Готовил шведам дорогой гостинец,
Ведь он недаром наименовал
Себя Абрам Петрович Ганнибал.
А может быть, и впрямь в него запало,
Что род его идет от Ганнибала.
Погряз в трудах арап полуопальный.
Супруга же весь день томилась в спальной
И грезила лениво наяву,
Воспоминая детство и халву.
Она скучала. Городок степенный
Ее стеснял тоскою постепенной.
Всего две тыщи душ, да гарнизон.
Конечно, в этой скуке был резон.
Ее не тешил моря свет жемчужный,
Ей снился берег дальний, город южный,
И пена белая, край синих вод,
И уходящий в море галиот.
Он звал к себе и уходил все дальше
Перед печальным взором Ганнибальши.
Добро бы муж хоть вечером домой.
А он едва увидится с женой
В обед – и снова не до разговоров.
Преподавал он в школе кондукторов
Черченье, математику. И там
Все время проводил по вечерам.
А шел домой – хотя в Пернове летом
Почти не видно ночи, но при этом
На улицах ни звука, ни души —
Весь город спит. И дивно хороши
Вверху деревья, крыши, шпили, трубы.
А дома спит жена, надувши губы,
В себе младенца бережно растя,
Да и сама похожа на дитя —
С плеча сползает теплая перина…
Майор читал трагедии Расина.
В той школе, где преподавал арап,
Состав учеников был слишком слаб.
Не помнили, что дважды два – четыре,
А только куролесили в трактире.
Один среди развратных молодцов
Науку понимал Иван Норцов,
С налету схватывал, толково, споро
И потому стал слабостью майора.
Для назидания Абрам Петров
Рассказывал ему про век Петров
И был пленен способным шалопаем.
И тот был в дом все чаще приглашаем.
Над ним посмеивались, что дурак.
И, дескать, у арапа он арап.
Майор же, честолюбье в нем питая,
Нередко выручал праздношатая.
К примеру – следствие завел кригсрехт
О том, что кондуктор вовлек во грех
Девицу Моор. И оная девица
Клялась, что обещал на ней жениться.
Майор вступился. Хоть закон был строг,
Но суд есть суд. И найден был предлог.
И в результате учинить велели
Норцову наказание на теле
И тем покончить. Но обрел майор
Врага – мамашу Моршу – с этих пор.
В ту осень Евдокия разрешилась
От бремени. И, как сие свершилось,
Пустою бочкой покатился слух,
Как будто точно узнано от слуг,
Что родился на свет ребенок белый.
Над этим потешался город целый.
А Морша суетилась пуще всех.
Ребенок же был смуглый, как орех.
И, презирая сплетни городские,
Майор назвал и дочку – Евдокия.
Про слух он знал. Но был спесив и горд.
И лишь послал в Коллегию рапорт,
Прося отставки по болезни очной,
Но вскоре был ответ получен срочный —
Отказ. Повелено ему служить
И, следовательно, в Пернове жить.
А дело в том, что Миних-граф близ трона
Тогда стоял. И, зная нрав Бирона,
Считал, что бывший царский фаворит,
Как нынче говорится, погорит,
Коль будет на глазах у новой власти.
Пожалуй, он был в этом прав отчасти…
И лучше уж томиться от страстей,
Чем пострадать безвинно от властей.
Майор же был взбешен. В Пернове этом
Бессмысленных наветов быть предметом!
И знал, что зря,– смирить себя не мог.
И в горле день и ночь стоял комок.
Он стал искать намеки в каждом слове
И не умел унять арапской крови.
Входил к жене в покой. Смотрел дитя.
И удалялся пять минут спустя.
Его проклятое воображенье
Рождало боль, похожую на жженье.
И злобный случай подстерег его.
Случилось это все под рождество,
Когда в стрельчатых храмах лютеране
Поют свои молитвы при органе.
Абрам Петрович заглянул во храм.
И слушать службу оставался там.
Тем временем к майору на квартиру
Забрел Норцов, шатаясь без мундиру,
Не помня, как вошел туда хмельной.
И встал перед майоровой женой.
В постели та застыла от испуга,
Но вдруг послышались шаги супруга.
Вошел майор. Норцова обнял страх.
И он сбежал. Она вскричала: «Ах!»
Абрам Петрович, помолчав с минуту,
Промолвил: «Так!» И, повернувшись круто,
Прошел к себе. В недоброй тишине
Весь замер дом. И он вбежал к жене.
Гречанка закричала. Так был шал
И страшен муж. Он тяжело дышал,
Сюртук расстегнут, а в руке нагайка.
Он произнес сквозь зубы: «Негодяйка!» —
И наотмашь ударил по лицу,
Подставленному гневу и свинцу.
Бил долго, дико, слепо. И сначала
Она кричала. После замолчала.
Тут он очнулся. И, лишившись сил,
Мучительно и хрипло вопросил:
«Теперь ответствуй мне, была ль измена?»
Она прикрыла голое колено
И, утомясь от боли и стыда,
Кровь сплюнула и отвечала: «Да!»
Ее теперь нездешняя усталость
Вдруг обуяла. Умереть мечталось.
И молвила ему – как пулю в лоб:
«Убей меня, проклятый эфиоп!
Я никогда твоей не буду боле.
И отдаю себя господней воле!»
Всю ночь не спал арап. Унявши страсть,
Он был готов теперь ей в ноги пасть.
Но век не тот! Там нравы были круты,
А честь и гордость тяжелей, чем путы.
Свой кабинет он запер изнутри
И пил вино без просыпу дня три,—
Российский способ избывать печали.
И сам молчал. И все в дому молчали.
В нем все смешалось – подозренье, гнев,
Раскаянье, любовь. Как пленный лев,
Весь день метался в узком помещенье
Меж мыслями о мщенье и прощенье.
И вдруг пришел к жене. Сказал ей: «Ты
Меня презрела из-за черноты.
Но мне как на духу ответь – что было?
И правда ли, что ты мне изменила?»
И снова, так же твердо, как тогда,
Ему гречанка отвечала: «Да!»
И вновь ушел арап. И пил вино.
Забросил службу. Затемнил окно.
И тосковал. Кругом зима стояла.
В каминах пело, в деревах стонало.
Ненастная тогда была зима.
Ему казалось, что сойдет с ума.
Так пребывал он в городе Пернове,
Тоскуя, злясь и мучась от любови.
А в школе кондукторов без начальства
Уже творилось полное охальство.
Иван Норцов в компании гульной
Хвалился, что с майоровой женой
Он то да се, довел ее до ручки
И не боится он столичной штучки…
То слышал Фабер, тоже кондукто́р
И новый кавалер девицы Моор.
И вскоре рассказал мамаше Морше,
Что, мол, Иван, любезный друг майорши,
Поддавшись увещаниям ее,
Достал для негра смертное питье.
Конечно, он добавил, что Ивану
И не такое приходило спьяну,
Поскольку меж вралей он первый враль…
Прошел январь. За ним настал февраль.
Вдруг утром солнце глянуло. Невольно
Майор очнулся и сказал: «Довольно!
Солдат не баба. Вдруг и донесут,
Что я давно бездельничаю тут.
Неужто, государя друг вчерашний,
Не справлюсь я со смутою домашней!»
Надел мундир. И сразу же – на вал,
На полверках и верках побывал.
Распек команду. Обозвал: «Растяпы!»
И пошутил. Отходчивы арапы.
В трактире отобедал. К пирогам
Стаканчик выкушал. По Куннингам
Пошел в почти хорошем настроенье,
Свое позабывая нестроенье.
И вдруг – навстречу Морша. Ах, карга!
Вот ты когда подстерегла врага
И в ухо яд влила ему, радея
О мщении. Он слушал холодея.
Вот здесь бы занавес. Но я не мог
Не написать печальный эпилог,
Как Ганнибал ответил дикой местью
Своей жене за мнимое бесчестье.
И как она перед лицом суда
На все вопросы отвечала: «Да!»
«Да!.. Опоить? Да! Прелюбодеянье?
Да!»
«Сквернодеицу за все деянья
И за злоумышления гонять
По городу лозой, потом послать
Навечно на прядильный двор». Такое
Решенье подписало полковое
Судилище. И так учинено.
Здесь ничего мной не сочинено.
О Ганнибал! Где ум и благородство!
Так поступить с гречанкой!.. Или просто
Сошелся с диким нравом дикий нрав?
А может статься, вовсе я не прав,
И случай этот был весьма банальный,
И был рогат арап полуопальный?
Мне все равно. Гречанку жаль. И я
Ни женщине, ни веку не судья…
А что потом? Потом проходит бред,
Но к прошлому уже возврата нет.
Всходили в небо звезды Ганнибала,
Гречанка же безвестно погибала,
Покуда через двадцать лет Синод
Ей не назначил схиму и развод.
Арапу бедный правнук! Ты не мстил,
А, полон жара, холодно простил
Весь этот мир в часы телесной муки,
Весь этот мир, готовясь с ним к разлуке.
А Ганнибал не гений, потому
Прощать весь мир не свойственно ему,
Но дальше жить и накоплять начаток
Высоких сил в российских арапчатах.
Ну что ж. Мы дети вечности и дня,
Грядущего и прошлого родня…
Бывает, что от мыслей нет житья,
Разыгрывается воображенье,
Тогда, как бы двух душ отображенье,
Несчастную гречанку вижу я,
Бегущую вдоль длинного причала,
И на валу фигуру Ганнибала.
А в небесах луны латунный круг.
И никого. И бурный век вокруг.
Пярну,
1977
Юлий Кломпус
Повесть
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы. Лермонтов
Часть I
Собиратель самоваров
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены. И сойду.
Пастернак
Мой друг-приятель Юлий Кломпус
Когда-то был наш первый компас,
Наш провозвестник и пророк
И наш портовый кабачок.
К тому же среди антикваров
Как собиратель самоваров
Был славен. Шелкопер Стожаров
(Всего скорее псевдоним)
За то подтрунивал над ним.
Носил он гордо имя цезарево.
А потому так наречен,
Что был на свет посредством кесарева
Сечения произведен.
Он не казался Аполлоном,
Был хлипконог, сутуловат,
В очках и с лысинкою ранней.
Но в гаме дружеских собраний
Держался, как аристократ.
(Дворяне Кломпусы из Дании
Лет двести жили в захудании.)
Оставшись рано без родителей,
Он был лишен руководителей
По шумным стогнам бытия.
(Мы были для него – семья.)
Он с непосредственностью детскою
Спустил все в доме. Но коллекцию
Старинных самоваров, что
Его отец копил со тщанием,
Он (согласуясь с завещанием)
Не променял бы ни на что.
На полках в комнате владельца
Стояло их десятка три,
Серебряных, как лейб-гвардейцы,
И медных, как богатыри.
Прочту вам небольшую лекцию
Про эту ценную коллекцию.
В собранье Кломпуса-отца
Два превосходных образца
Посудин для готовки сбитня.
Французский самовар «дофин».
Голландский «конус». И один
Прекрасный представитель «клерков».
Сосуд из «кёльнских недомерков»
На две-три чашки. «Пироскаф».
И десять тульских молодцов.
Средь них – величиной со шкаф
Красавец медный, весь в медалях,
Любимец наших праотцов,
Отрада сердца, бог трактира,
Душа студенческого пира.
Еще английский – в форме глобуса.
Американский в стиле «инка».
И африканский «банго-бинго»,
Особенная гордость Кломпуса.
Как разнородны! Как богаты!
Увы, они лишь экспонаты.
Ведь современники мои
Отучены гонять чаи
Из самоваров. Скромный чайник
Их собеседник и печальник.
А гостю, высоко ценимый,
Подносят кофе растворимый.
…В полуподвале возле Пушкинской
(Владельцу – двадцать пять годов),
Как на вокзале и в закусочной,
Бывали люди всех родов.
Любым актрисе и актеру
Был дом открыт в любую пору.
Конферансье Василий Брамс
Травил в передней анекдоты.
Стожаров, постаревший барс,
На кухне жарил антрекоты.
Прихрамывая, в коридор
Вползал с трудом историк танца
И сразу ввязывался в спор
О смысле раннего христианства.
Вбегали Мюр и Мерилиз,
Соратники в драматургии.
А также многие другие.
Здесь царствовала Инга Ш.,
Звезда эстрады и душа
Застолья. За талант и тонкость
Ее любил в ту пору Кломпус.
Точеней шахматной фигурки,
Она крапленые окурки
Разбрасывала на полу.
При ней потели драматурги,
Томясь, как турки на колу.
Был в той ватаге свой кумир —
Поэт Игнатий Твердохлебов.
Взахлеб твердила наша братия
Стихи сурового Игнатия.
(Я до сегодня их люблю.)
Он был подобен кораблю,
Затертому глухими льдами.
Он плыл, расталкивая льды,
Которые вокруг смыкались.
Мечтал, арктический скиталец,
Добраться до большой воды.
Все трепетали перед ним.
А между тем он был раним.
Блистательное острословие
Служило для него броней.
И он старался быть суровее
Перед друзьями и собой.
С годами не желал меняться
И закоснел в добре, признаться,
Оставшись у своих межей.
А мы, пожалуй, все хужей.
Как проходили вечера?
Там не было заядлых пьяниц:
На всю команду «поллитранец»
Да две бутылки «сухача»,
Почти без всякого харча.
(Один Стожаров, куш сграбастав,
Порой закладывал за галстук.)
И вот вставал великий ор
В полуподвальном помещенье.
И тот, кто был не так остер,
Всеобщей делался мишенью
И предавался поношенью.
Внезапно зачинался спор
О книге или о спектакле.
Потом кричали: «Перебор!» —
И дело подходило к пенью.
Что пели мы в ту пору, бывшие
Фронтовики, не позабывшие
Свой фронтовой репертуар?
Мы пели из солдатской лирики
И величанье лейб-гусар —
Что требует особой мимики,
«Тирлим-бом-бом», потом «по маленькой
Тогда опустошались шкалики;
Мы пели из блатных баллад
(Где про шапчонку и халат)
И завершали тем, домашним,
Что было в собственной компании
Полушутя сочинено.
Тогда мы много пели. Но,
Былым защитникам державы,
Нам не хватало Окуджавы.
О молодость послевоенная!
Ты так тогда была бедна.
О эта чара сокровенная
Сухого, терпкого вина!
О эти вольные застолия!
(Они почти уже история.)
Нам смолоду нужна среда,
Серьезность и белиберда
В неразберихе поздних бдений,
Где через много лет поэт
Находит для себя сюжет
Или предмет для размышлений…
Когда веселье шло на спад,
Вставал с бокалом Юлий Кломпус,
Наш тамада и меценат.
И объявлялся новый опус,








