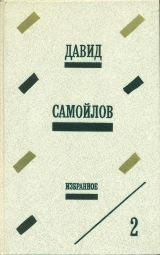
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Давид Самойлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Жизнь его была родине отдана,
Его тело земле было предано,
Ну а память – друзьями разобрана,
И тревожит меня столько лет она!..
Все записано в ней, словно в книге,—
Мне досталась глава о Ядвиге.
2
…Мы впервые вступили в Варшаву
Поздно ночью. Ни улиц, ни зданий.
Только камни да ветер шершавый,
Налетевший со звуком рыданий.
Ни домов, ни прохожих, ни света,
Только стены одни нежилые.
Мы стояли и ждали рассвета
В иностранной столице впервые.
Не пришлось побывать мне туристом
В городах зарубежных держав.
Мы стояли в разбитой Варшаве,
Автоматы невольно прижав.
И в холодном январском рассвете,
Возникавшем из зимних глубин,
Все казалось сперва лиловатым,
Только снег был слегка голубым.
Словно соль, растравлявшая раны,
Он пропитывался зарей.
Обожженные зданья и храмы
Были странны под снежной корой.
Но страшнее всего были окна —
Сотни, тысячи, в каждой стене —
И рассветное зимнее небо,
Холодевшее в каждом окне.
Словно рты, закосневшие в крике,—
Окна – Оо!
Окна – Аа!
Окна – У у!..
И дырявые тени, и блики
На снегу… на варшавском снегу…
И тогда я до ужаса ясно
Все увидел. Забыть не могу…
Мы стояли на том берегу.
Рядом. В Праге. Отсюда два шага.
Там, за Вислою,– вон она, Прага.
Мы стояли на том берегу.
Здесь отчаянно билась Варшава,
Пред судьбою не павшая ниц,
Горемычная, злая гордячка,
Непокорнейшая из столиц.
Польский город и польское горе,
Польский гонор, и говор, и голод
Здесь легли раскаленной подковой.
А война – наковальня и молот.
Люди жили, служили, корпели,
Все терпели, что им суждено.
Но однажды суровое время
Кулаком постучалось в окно.
И тогда, как бойцы по тревоге,
Поднялись и пошли на редут.
Ни отсрочек, ни белых билетов
В этот час никому не дадут.
Никуда не уйти человеку
От губительных дел и страстей,
От мостов, опрокинутых в реку,
От развеянных в прах крепостей.
Всюду танки корежат заборы,
Под лафетами гибнет трава.
И растут из мальчишек саперы,
А девчонки живут для вдовства.
Век берет человека за ворот,
Век велит защищать ему город,
Не отпустит его нипочем,
В дверь стучится, запоры ломает
И на выбор ему предлагает
Жертвой стать или быть палачом.
Он дает ему гордое право
Воевать, как воюет Варшава,
Умирать, не согнувшись в дугу,
И не жить, превратившись в слугу,
И не ждать – а идти на расправу.
Это было на том берегу…
3
Там в одном осажденном квартале
Автоматы весь день стрекотали
И отрезанный немцем отряд
Был разбит, и у Вислы прижат,
И блокирован в полуподвале.
Десять ружей. Полсотни гранат.
На исходе патроны. Стонали
Трое раненых в дальнем углу,
Остальные у окон лежали.
А эсэсовцы не торопились
И в соседних постройках копились,
Били изредка и наугад.
Утром сунулись и откатились.
Ожидали чего-то. Один
Из повстанцев, по виду – рабочий,
Взял команду. Решили до ночи
Продержаться. Потом – пробиваться
Через Вислу. Не выйдет? Ну что ж!
Будем здесь помирать не за грош!
А Ядвига пусть гибнет без муки.
Дать ей «вальтер». Патронов три штуки.
Так приставишь ко лбу – и нажмешь…
– Ясно?
– Ясно.
– Тогда – по местам! —
И опять разошлись к амбразурам.
Рядом с ними Ядвига легла,
С любопытством немым озирая
Часть двора и обломки сарая,
Клен без кроны и дом без угла,
Битый камень, осколки стекла,
Запустенье, безлюдье.
И вдруг
Неожиданно внятно и четко
Прокричали команду.
И вдруг
Даже воздух напрягся вокруг:
Батарея. Прямая наводка.
Ружья вбиты в плечо и в ладонь.
Щеки к жестким прикладам прижались.
«Дейчланд! Дейчланд!
(Огонь!)
…юбер аллес!»
«Дейчланд…
(Снова огонь!)
…юбер аллес!»
«Дейчланд! Дейчланд!»
(Огонь и огонь!)
Каждый нерв напряжен до предела,
Тишина прорвалась, как нарыв.
«Еще Польска…
(Разрыв!)
…не сгинела!»
«Еще…
(Снова разрыв!)
…не сгинела!»
«Не сгинела!»
(Разрыв и разрыв!)
Штукатурка скрипит на зубах.
На бинты не хватает рубах.
Артиллерия смолкла. Атака.
Оживают обломки сарая.
Клен без кроны. И дом без угла.
Пули градом – обломки стекла.
И опять тишина гробовая.
Жить не хочется. Хочется пить.
Сердце замерло. Оцепенело.
«Еще Польска…
(Разрыв!)
…не сгинела!»
«Еще…
(Снова разрыв!)
…не сгинела!»
Артиллерия смолкла. Ползут.
Как зеленые змеи, ползут.
Ближе, ближе. Все ближе. Все ближе…
Я их вижу. Прекрасно их вижу!
Но молчу. Но помочь не могу…
Это было на том берегу.
4
Ночью штаб Комаровского-Бура
Выходил, чтобы сдаться врагу.
Генерал безучастно и хмуро
Слушал то же, что слышали мы
Этой ночью, придя на прибрежье:
Средь прорезанной заревом тьмы
Перестрелка звучала все реже.
Реже. Глуше. Короче. Мрачней.
В отраженье багровых огней
Воды Вислы текли, словно лава.
Мы угрюмо стояли над ней.
А к рассвету замолкла Варшава.
Рубежи
1
Он отходит уже, этот дух,
Этот дых паровозного дыма,
Этот яблочный смех молодух
На перронах, мелькающих мимо;
Огуречный ядреный рассол
На лотках станционных базаров;
Формалиновый запах вокзалов,
Где мешками заставленный пол
И телами забитые лавки,
Где в махорочном дыме и давке
Спят, едят, ожидают, скандалят,
Пьют, едят, ожидают и спят,
Балагурят, качают ребят,
Девок тискают и зубоскалят,
Делят хлеб и торгуют тряпьем.
Как Россия легка на подъем!
Как привыкла она к поездам
От японской войны до германской,
От германской войны до гражданской,
От гражданской войны до финляндской,
От финляндской до новой германской,
До великого переселенья
Эшелонов, заводов, столиц
В степь, в Заволжье или Закамье,
Где морозов спиртовое пламя
Руки крючило без рукавиц.
Ну а после – от Волги к Берлину,
Всей накатной волной, всей войной,
Понесло двухколейкой стальной
Эшелонную нашу былину.
Он отходит в преданье – вагон,
Обжитая, надежная хата,
Где поют вечерами ребята
Песни новых и старых времен,
Про Чапаева, про Ермака,
«Эх, комроты, даешь пулеметы!..»,
«То не ветер…», «Эх, сад-виноград…»,
«Три танкиста», «Калинку», «Землянку»,
«Соловьи, не будите солдат…»,
Вальс «Маньчжурские сопки», «Тачанку»
Так мы едем в Россию, назад.
Сквозь вагонную дверь спозаранку
Видим – вот она, эта черта:
Здесь родная земля начата.
2
Как такое бывает – не знаю;
Я почувствовал сердцем рубеж.
Та же осень стояла сквозная,
И луга и деревья все те ж.
Только что-то иное, родное,
Было в облике каждого пня,
Словно было вчера за стеною,
А сейчас принимало меня.
Принимало меня и прощало
(Хоть с себя не снимаю вины)
За былое, худое начало
И за первую осень войны…
А вокруг все щедрее и гуще
Звездопадом летела листва.
И сродни вдохновенью и грусти —
Чувство родины, чувство родства.
Голубели речные излуки,
Ветер прядал в открытую дверь…
Возвращенье трудней, чем разлуки,—
В нем мучительней привкус потерь.
Рано утром почуялся снег.
Он не падал, он лишь намечался.
А потом полетел, заметался.
Было чувство, что вдруг повстречался
По дороге родной человек.
А ведь это был попросту снег —
Первый снег и пейзаж Подмосковья.
И врывался в открытую дверь
Запах леса, зимы и здоровья.
А навстречу бежали уже
Нам знакомые всем до единого
Одинцово, Двадцатка, Немчиново,
Сетунь, Кунцево. Скоро Фили!
Мост. Москва-река в снежной пыли.
И внезапно запел эшелон.
Пели в третьем вагоне: «Страна моя!»
И в четвертом вагоне: «Москва моя!»
И в девятом вагоне: «Ты самая!»
И в десятом вагоне: «Любимая!»
И во всем эшелоне: «Любимая!»
Пели дружно, душевно, напористо
Все вагоны поющего поезда.
Паровоз отдышался и стал.
Вылезай! Белорусский вокзал!
1954 – 1959
Последние каникулы
Из поэмы
В поэме автор путешествует вместе с гениальным польским скульптором Витом Ствошем, пренебрегая последовательностью времен. Наш третий спутник – кот Четверг (фигура вымышленная).
Ствош жил пять веков тому назад. Закончив великое свое творение – резной алтарь Краковского собора,– он ушел в Нюренберг и запропал на пути. После оккупации Польши гитлеровскими войсками фюрер приказал перевезти знаменитый алтарь в Нюренберг. Алтарь прибыл туда, куда не дошел его создатель. И был возвращен в Краков лишь после войны.
Четырехстопный ямб
Мне надоел. Друзьям
Я подарю трехстопный,
Он много расторопней…
В нем стопы словно стопки —
И не идут коло́м.
И рифмы словно пробки
В графине удалом.
Настоянный на корках
Лимонных и иных,
Он цвет моих восторгов
Впитал, трехстопный стих.
И все стихотворенье
Цветет средь бела дня
Бесплотною сиренью
Спиртового огня…
Смерть лося
Стихи за пятьдесят!
На мне они висят
Невыносимой ношей.
Бог с ними! Мне пора
Сбираться. И с утра
В дорогу с Витом Ствошем.
Закончен мой алтарь.
В нем злато и янтарь,
И ангелы и черти,
И даже образ смерти.
Пора не вниз, а вверх —
Туда, поближе к богу,—
В беспечную дорогу,
В преславный Нюренберг…
Как хорошо в полях
Встречать свой день рожденья!
Как весело хожденье
В сообществе бродяг!
А если есть трояк,
Определим по нюху
Ближайшую пивнуху,
Пристанище гуляк.
Хозяйка, наливай!
И не жалей, читатель,
Что, словно невзначай,
Я свой талант растратил!
Читатель мой – сурок.
Он писем мне не пишет!..
Но, впрочем, пару строк,
В которых правду слышит,
Он знает назубок…
Однако думы прочь!
В походе к Нюренбергу
Звезд полную тарелку
Мне насыпает ночь.
Передо мной лежат
Прекрасные поляны,
Жемчужные туманы
Их мирно сторожат.
Передо мной текут
Прохладные потоки.
И где-то кони ржут,
Нежны и одиноки.
Вечерний свет померк.
Залаяла собака…
Как далеко, однако,
Преславный Нюренберг!
* * *
Ночь пала. Все слилось.
В костре пылали ветви.
И в красноватом свете
Явился черный лось.
Роскошный рог над ним
Стоял, как мощный дым.
И в бархатных губах
Держал он ветвь осины.
И, беззащитно-сильный,
Внушал невольный страх.
Он был как древний бог,
И в небе черно-чистом
Созвездием ветвистым
Светился лосий рог.
(Недаром древле Лось
Созвездие звалось.)
Распахнутый для нас
От паха и до холки,
Смотрел он взглядом долгим
Своих тенистых глаз,
– Зачем,– Вит Ствош вскричал
В мучительном порыве,—
Я за плечом Марии
Его не изваял!
И почему царей,
Младенца Иисуса
По манию искусства
Не превратил в зверей!
Но я ответил:
– Брось!
Мы зря переживаем.
Пусть лучше неизваян
Гуляет этот лось.
Пусть вечности бежит
Прекрасное созданье
И нашему страданью
Пусть не принадлежит!
Смири себя, ваятель!
Забудь, что было встарь,
Когда ты свой алтарь
Выдалбливал, как дятел!
Смири себя, смири!
Сомкни плотнее веки!
И отрекись навеки!
И больше не твори!
И долго Вит сидел,
Помешивая угли.
Потом они потухли,
А он в золу глядел.
Вся эта ночь насквозь
Была прозрачной, ясной.
И, как корабль прекрасный,
Плыл по поляне лось.
Вдруг изо тьмы – удар
Остановил мгновенье…
Пороховой угар.
И в нем поникновенье
Творенья красоты
И беззащитной мощи…
И в озаренной роще —
Хрустнувшие кусты.
Как девушка, вразброс,
Лежал тишайший лось.
И на его главе —
Глаз, смертью отягченный,
И – папоротник черный —
Рога в ночной траве…
Охотник подошел:
– Пудов пятнадцать мяса!
Вот бык! – Он рассмеялся.—
Однако хорошо!
Он сел и закурил…
. . . . . . . . . . .
Для нас погибель зверя —
Начальная потеря,
Начало всех мерил.
– Скажи мне, мастер Вит!
Как при таком мериле
Плечо святой Марии
Кого-то заслонит!
Нам с Витом не спалось.
И мы лесною тропкой
Пошли. И тенью робкой
Плыл перед нами лось.
Лось-куст и лось-туман,
Лось-дерево, лось-темень,
Лось-зверь, и лось-растенье,
И лось-самообман…
Так шли мы – я и мастер,—
Пока не рассвело.
И дивное несчастье
Нас медленно вело…
Вверху подобьем знака
Ветвился лосий рог…
Как далеко, однако,
Преславный городок!..
Прощание
Я своего стиха
Оставил стиль спартанский.
– Ха-ха, ха-ха, ха-ха! —
Сказал бы Л. Итанский,
Который был готов
Пойти со мной и с Витом,
Но был заеден бытом
И значит – не готов.
Готов кроме него
Был некий Пересветов,
Но множество советов
Замучили его.
Кого б еще сманить?
Петра или Бориса?
Володю, может быть?
Но с ним мы разошлися.
Так в мой понурый бег
Я взял кота и Ствоша.
Как хорошо, что все же
Не близок Нюренберг!
Один, Леон Тоом,
Пошел бы ты со мною
Дорогою дневною
Или ночным путем.
Ты, сокрушитель стен,
Ниспровергатель окон,
Прозревший острым оком
Убожество систем!
Как шли бы мы с тобой,
То веселы, то пьяны!
И нам наперебой
Гремели б барабаны!
Всем девушкам с тобой
Дарили б мы конфеты.
Играли б нам гобой,
И флейты, и кларнеты!
И чьи-нибудь невесты
Порой сбегали б к нам.
Играли б нам челесты,
И бубны, и тимпан,
Взлетал бы фейерверк,
Стреляли бы мортиры!
Так шли б мы в Нюренберг,
Веселые сатиры!..
Прощай, мой добрый друг!
Прощай, беспечный гений!
Из всех твоих умений
Остался дар разлук.
Прощай, мой милый друг!
Прощай, свободный гений!
Отвергший из наук
Науку возвращений!
Прощай, мой вечный друг!
Прощай, мой слабый гений!
Как суть твоих учений
Осуществилась вдруг!
Прощай! Ты был во всем
Иной, не нашей мерки…
Быть может, в Нюренберге
Мы встретимся потом.
Балаган
– Да, он один убит,—
Сказал мне мастер Вит,—
А вы еще живете
По собственной охоте.
Здесь только скукота
И люди с рыбьей кровью,
Пойдем в средневековье,
Возьмем с собой кота!
– Ах, разве можно вспять
Куда-то возвратиться?
Давай-ка лучше спать
И видеть то, что снится.
Давай-ка бредить вслух!..
– Ну что ж, вернемся, друг,
Туда, где и поныне
Царит вселенский дух
Трактира и латыни,
Где, шляясь по торгам,
Увидим мы, коллега,
Под небом – балаган,
Над балаганом – небо…
– Пьянчуги, торгаши! —
Я подхватил в восторге.
А ну, вольней дыши
На этом шумном торге,
Где толпы горожан
И теснота ковчега.
Под небом – балаган.
Над балаганом – небо.
Вит Ствош был весел вновь
И вновь в своей тарелке.
– Как горячат нам кровь
Лукавые паненки!
– Как раздражает нюх
Благоуханье пира!
– Виват! Вселенский дух
Латыни и трактира!..
– Гляди, а там правеж:
Попал в беду пройдоха!..—
Я говорю: – Ну что ж,
Эпоха как эпоха.
– А вон карманный вор!
– А вон доминиканец!
– Вон сбир!
– Вот страж!
– Вон спор
Оборвышей и пьяниц!
А ближе к облакам
Раскинут балаган.
– Про это – я! Постой! —
Воскликнул Вит.– Простой
Сюжет. Весьма наивный.
Сей шут богопротивный —
Диавол. Мрака сын
Решил смутить Юстина.
А этот вот детина
Есть человек Юстин.
Отродье сатаны,
Чтоб парня не прохлопать,
В нем разжигает похоть,
Сулит ему чины.
Юстин же стал мечтать
Про все земные блага.
И вот посмел, бедняга,
На бога возроптать…
Ликует гений зла!..
Но, сжалясь, матерь божья
Опутанного ложью
Юстина упасла…
– Дай я!.. Пустив слезу,
Спасенный на колени
Упал. Его моленья
Сейчас произнесу:
«Спасибо вам, господь
И пресвятая дева,
За то, что свою плоть
Я вызволил из хлева!
За то, что вы спасли
Меня от вожделенья.
С поклоном до земли
За то мое моленье!
За то, что дух тщеславный
Не указал мне путь
И в городок преславный
Приду когда-нибудь!..»
– Нет, мне невмоготу,—
Прервал Вит Ствош.– Надейся,
Что ты спасен. Но в действо
Пора войти коту.—
И закричал: – Ату!
– Ату! Держи! Ага!
– В чем дело?
– Ты не зрячий?
Какой-то пес бродячий
Заметил Четверга! —
Сцепились пес и кот.
И вдруг, заулюлюкав,
Рванулся весь народ,
Как тыща мамелюков,
Вслед за котом и псом —
Весь наш цветущий сон:
Мальчишки, бернардйны,
Красотки, паладины,
Монахи, игроки,
Торговцы, голяки,
Лиценциаты, шлюхи,
Младенцы и старухи…
Пустились в этот гон…
И скрылись в гул времен…
Мы с Витом хохоча
Переживали праздник.
А кот, лихой проказник,
Мурлыкал у плеча.
И Вит воскликнул: – Днесь
Я возглашаю здесь,
Что радость мне желанна
И что искусство – смесь
Небес и балагана!
Высокая потреба
И скомороший гам!..
Под небом – балаган.
Над балаганом – небо!
Встреча
Шагая вдоль страны,
Зашли мы в дивный угол,
Где зверь еще не пуган
И реки не мутны.
Вблизи текла река.
Угадывалось это
По перебежке света
И шуму лозняка.
Простор летел под яр,
Огромный, как цунами,
И прямо перед нами
Преображался в пар.
И повисал, светясь,
Над луговым заречьем,
И расширялся в нас
Дыханьем человечьим.
В реке – прицельность Цейса
И ясность лучших линз,
Но, как в глазах младенца,
Все – головою вниз:
И облака, и горы,
И темные леса,
И старичок, который
У брода пас гуся,
И дерево хромое,
Сбежавшее под склон,
И лодочка, и трое
Искателей икон.
Прекрасная порода!
О, как я был влюблен
Тому назад три года
В искателей икон.
В искательниц особо!
Одна из их числа
Прелестная особа
С ума меня свела!
Штаны, ковбойка, кеды
И свитер шерстяной
Невольные победы
Свершали надо мной.
Доныне эту вязку
Я помню под рукой
И грустную развязку
С искательницей той…
Подходим.
– Старина!
Так это же она!..
Неловкость. Я, как школьник,
Краснею. О, мила,
Как прежде. В треугольник
Вонзились два угла.
– Знакомьтесь. Это муж.
А это мой поклонник.—
И вот пятиугольник,
Томительная чушь!
Но задал верный тон
Четверг. Пока я мялся,
Он мирно слопал мясо
Искателей икон…
Старик, что пас гуся,
Приблизился, неся
Под мышкой эту птицу,
Чтобы опохмелиться,
Он полагал продать
Гуся рублей за пять.
– На! Выпей-ка, старик! —
Сказал ее поклонник —
Он был унылый комик,
И у него был тик.
Затеяли шашлык.
Муж скрупулезно знал,
Как есть должны авгуры,
И тихо напевал,
Ворочая шампуры:
«Шашлык мой, шашлычонок,
Шашлык мой, шашлычон,
Ты создан для ученых —
Искателей икон.
Вся истина и правда
Прекрасней с шашлыком.
И только в нем отрада
Искателей икон!»
А мы поднялись с ней
Вверх по крутому брегу.
– Куда вы? – К Нюренбергу
Идем. Оно честней…
– Гляди, как с высоты
Просторна эта местность…
– Обыкновенно…
– Честность…
– Ты виноват…
– Нет, ты.
Шел нудный разговор
В полутонах… Но ах!
Бесчисленное стадо
Гусей спускалось вниз
Подобьем снегопада
И гогоча толклись.
Они спускались вниз,
Мгновенно спутав карты.
И крылья, как штандарты
Разбойные, тряслись.
Под гогот, шум и крик,
Как конница степная,
Спускались, наступая
На суп и на шашлык,
А этот старый черт,
Не струсивший нимало,
Гоня их от мангала,
Плясал, как Пугачев.
. . . . . . . . . . . .
Расстались вечерком.
Искатели икон
Уплыли вниз на лодке
С едой и коньяком.
А мы пошли пешком.
Вдвоем остаток водки
Допили в полутьме,
Опустошив манерку
У знака: «К Нюренбергу.
Две тысячи км».
Два монолога
Итак, мы шли втроем.
Четверг был наша ноша —
То на плече у Ствоша,
То на плече моем.
Густой сосновый лес
Вздымался до небес.
Он был пустым, печальным
Во взлете вертикальном.
Лишь наискось секло
Его свеченье пыли,
Как будто сквозь стекло
В подвале.
Мы испили
Воды, найдя ручей.
И шли еще бойчей…
Лес кончился. Дорога
Текла за край земли.
И мы произнесли
Тогда два монолога.
Лицо воздев горе
В неизреченной страсти,
Вит Ствош, алтарный мастер,
Запел об алтаре.
Моление об алтаре
– Алтарь! Каков он был!
Звук дерева цветущий,
Цвет дерева поющий,
Исполненного сил!
Я в каждом существе
Изобразил цветенье
И смесь объема с тенью
В естественном родстве.
Я знал, как должен свет
С высот соборных литься,
И как он должен длиться,
И как сходить на нет!
Пространство! Бытие!
Ты знаешь, как пристрастно
Я размещал пространство
И превращал в свое
Пространство бытия
В его древесном смысле.
И воспаряла к мысли
Вещественность моя.
Тогда я наконец
Увидел образ бога!
Но знаю, как убого
Витийствует резец!
Казалось мне, что дух
Моей руки коснулся.
Я грезил. Я очнулся…
Небесный свет потух…
О боже, дай узреть
Мне снова свет небесный
И в наготе телесной
Его запечатлеть! —
Так говорил он. Бор
Пел, как соборный хор.
И солнце пролилось
И растворилось в сини.
Тогда я произнес
Моление о сыне,
Не отирая слез.
Моление о сыне
– Ну что ж,– я говорю,—
Уже пора уйти нам.
Смерть возблагодарю,
Но жаль расстаться с сыном.
Еще он мал и слаб —
Ни государь, ни раб.
И он не то чтоб – дух,
Он плоть моя живая,
Он – бесконечный круг,
И он живет, сливая
Меня с небытием,
С тем самым, с изначальным.
И трудно быть печальным,
Когда мы с ним вдвоем.
Судьбу благодарю,
Благодарю за сына.
Ну что ж,– я говорю,—
Ведь радость беспричинна.—
Я говорю: – Ну что ж!
Благодаренье богу
За боль и за тревогу,
Которых не уймешь.
О, высший произвол!
Ты – ипостась добра
За то, что произвел
Мне малого Петра.
За то благодарю,
Что он раним, печален,
За то, что изначален.
Ни богу, ни царю
Еще не посвящен.
И, может, разум темный
Потом его спасет.
Он будет сын высот.
Молю, продли мне дни!
Продли мне с ним слиянье,
Чтоб это расстоянье
Прошли бы мы одни.
Одни – то есть вдвоем.
Нам никого не надо…
Явленье вертограда,
Священный водоем!
Судьба, мне дни продли,
Чтоб шли мы вдоль земли.
Чтоб шли мы постоянно,
Безвинно и слиянно.
Судьба! Продли мне дни!
Не мучай болью, гладом
И нас соедини,
Чтоб шли мы с сыном рядом.
Примерно так моя
Звучала песнь о сыне.
И пели Вит и я,
Как дервиши в пустыне.
О тех, кого с собой
В дорогу взять не можем,
Мы пели вразнобой,
Подобно птицам божьим.
Мы плакали и пели,
Друг друга не стыдясь.
Из голубой купели
Лучи лились на нас.
1972
Струфиан
Недостоверная
повесть
1
А где-то, говорят, в Сахаре,
Нашел рисунки Питер Пэн:
Подобные скафандрам хари
И усики вроде антенн,
А может – маленькие роги.
(Возможно – духи или боги,—
Писал профессор Ольдерогге.)
2
Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Многообразные тревоги
Томили русского царя,
От неустройства и досад
Он выходил в осенний сад
Для совершенья моциона,
Где кроны пели исступленно
И собирался снегопад.
Я, впрочем, не был в том саду
И точно ведать не могу,
Как ветры веяли морские
В том достопамятном году.
Есть документы, дневники,
Но верным фактам вопреки
Есть данные кое-какие.
А эти данные гласят
(И в них загадка для потомства),
Что более ста лет назад
В одной заимке возле Томска
Жил некий старец непростой,
Феодором он прозывался.
Лев Николаевич Толстой
Весьма им интересовался.
О старце шел в народе слух,
Что, не в пример земным владыкам,
Царь Александр покинул вдруг
Дворец и власть, семейный круг
И поселился в месте диком.
Мне жаль всегда таких легенд!
В них запечатлено движенье
Народного воображенья.
Увы! всему опроверженье —
Один престранный документ,
Оставшийся по смерти старца:
Так называемая «тайна» —
Листы бумаги в виде лент,
На них цифирь, и может статься,
Расставленная не случайно.
Один знакомый программист
Искал загадку той цифири
И сообщил: «Понятен смысл
Ее, как дважды два – четыре.
Слова – «а крыют струфиан» —
Являются ключом разгадки».
И излагал – в каком порядке
И как случилось, что царя
С отшельником сошлись дороги…
3
Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Топталось море, словно гурт,
Захватывало дух от гула.
Но почему-то в Петербург
Царя нисколько не тянуло.
Себе внимая, Александр
Испытывал рожденье чувства,
Похожего на этот сад,
Где было сумрачно и пусто.
Пейзаж осенний был под стать
Его душевному бессилью.
– Но кто же будет за Россию
Перед всевышним отвечать?
Неужто братец Николай,
Который хуже Константина…
А Миша груб и шелопай…
Какая грустная картина!..—
Темнел от мыслей царский лик
И делался melancolique.
– Уход от власти – страшный шаг.
В России трудны перемены…
И небывалые измены
Сужают душный свой кушак…
Одиннадцатого числа
Царь принял тайного посла.
То прибыл унтер-офицер
Шервуд, ему открывший цель
И деятельность тайных обществ.
– О да! Уже не только ропщут! —
Он шел, вдыхая горький яд
И дух осеннего убранства.
– Цвет гвардии и цвет дворянства!
А знают ли, чего хотят?..
Но я им, впрочем, не судья…
У нас цари, цареубийцы
Не знают меж собой границы
И мрут от одного питья…
Ужасно за своим плечом
Все время чуять тень злодея…
Быть жертвою иль палачом…—
Он обернулся, холодея.
Смеркалось. Облачно, туманно
Над Таганрогом. И тогда
Подумал император:
«Странно,
Что в небе светится звезда…»
4
«Звезда! А может, божий знак?» —
На небо глянув, думал Федор
Кузьмин. Он пробрался обходом
К ограде царского жилья.
И вслушивался в полумрак.
Он родом был донской казак.
На Бонапарта шел походом.
Потом торговлей в Таганроге
Он пробавлялся год за годом
И вдруг затосковал о боге
И перестал курить табак.
Торговлю бросил. Слобожанам
Внушал Кузьмин невольный страх.
Он жил в домишке деревянном
Близ моря на семи ветрах.
Уж не бесовское ли дело
Творилось в доме Кузьмича,
Где часто за полночь горела
В окошке тусклая свеча!
Кузьмин писал. А что писал
И для чего – никто не знал.
А он, под вечный хруст прибоя,
Склонясь над стопкою бумаг,
Который год писал: «Благое
Намеренье об исправленье
Империи Российской». Так
Именовалось сочиненье,
Которое, как откровенье,
Писал задумчивый казак.
И для того стоял сейчас
Близ императорского дома,
Где было все ему знакомо —
Любой проход и каждый лаз —
Феодор неприметной тенью,
Чтоб государю в ноги пасть,
Дабы осуществила власть
«Намеренье об исправленье».
5
Поскольку не был сей трактат
Вручен (читайте нашу повесть),
Мы суть его изложим, то есть
Представим несколько цитат.
«На нас, как ядовитый чад,
Европа насылает ересь.
И на Руси не станет через
Сто лет следа от наших чад.
Не будет девы с коромыслом,
Не будет молодца с сохой.
Восторжествует дух сухой,
Несовместимый с русским смыслом,
И эта духа сухота
Убьет все промыслы, ремесла;
Во всей России не найдется
Ни колеса, ни хомута.
Дабы России не остаться
Без колеса и хомута,
Необходимо наше царство
В глухие увести места —
В Сибирь, на Север, на Восток,
Оставив за Москвой заслоны,
Как некогда увел пророк
Народ в предел незаселенный».
«Необходимы также меры
Для возвращенья старой веры,
В никонианстве есть порок,
И суть его – замах вселенский.
Руси сибирской, деревенской
Пойти сие не может впрок».
В провинции любых времен
Есть свой уездный Сен-Симон.
Кузьмин был этого закала.
И потому он излагал
С таким упорством идеал
Российского провинциала.
И вот настал высокий час
Вручения царю прожекта.
Кузьмин вздохнул и, помолясь,
Просунул тело в узкий лаз.
6
Дом, где располагался царь,
А вместе с ним императрица,
Напоминал собою ларь,
Как в описаньях говорится,
И выходил его фасад
На небольшой фруктовый сад.
От моря дальнобойный гул
Был слышен – волны набегали.
Гвардеец, взяв на караул,
Стоял в дверях и не дыхнул.
В покоях свечи зажигали.
Барон Иван Иваныч Дибич
Глядел из кабинета в сад,
Стараясь в сумраке увидеть,
Идет ли к дому Александр.
А государь замедлил шаг,
Увидев в небе звездный знак.
Кузьмин шел прямо на него,
Готовый сразу падать ниц.
Прошу запомнить: таково
Расположенье было лиц —
Гвардеец, Дибич, государь
И Федор, обыватель местный,—
Когда послышался удар
И вдруг разлился свет небесный.
Был непонятен и внезапен
Зеленоватый свет. Его,
Биясь как сердце, источало
Неведомое существо,
Или, скорее, вещество,
Которое в тот миг упало
С негромким звуком, вроде «пах!
Напоминавшее колпак
Или, точнее, полушарье,
Чуть сплюснутое по бокам,
Производившее шуршанье,
Подобно легким сквознякам…
Оно держалось на лучах,
Как бы на тысяче ресничин.
В нем свет то вспыхивал, то чах,
И звук, напоминавший «пах!»,
Был страшноват и непривычен.
И в том полупрозрачном теле
Уродцы странные сидели.
Как мог потом поклясться Федор
На головах у тех уродов
Торчали небольшие рожки.
Пока же, как это постичь
Не зная, завопил Кузьмич
И рухнул посреди дорожки.
Он видел в сорока шагах,
Как это чудо, разгораясь,
Вдруг поднялось на двух ногах
И встало, словно птица страус.
И тут уж Федор пал в туман,
Шепча: «Крылатый струфиан…»
В окно все это видел Дибич,
Но не успел из дому выбечь.
А выбежав, увидел – пуст
И дик был сад. И пал без чувств…
Очнулся. На часах гвардейца
Хватил удар. И он был мертв.
Неподалеку был простерт
Свидетель чуда иль злодейства,
А может быть, и сам злодей.
А больше не было людей.
И понял Дибич, сад обшаря,
Что не хватало государя.
7
Был Дибич умный генерал
И голову не потерял.
Кузьмин с пристрастьем был допрошен
И в каземат тюремный брошен,
Где бредил словом «струфиан».
Елизавете Алексевне
Последовало донесенье,
Там слез был целый океан.
Потом с фельдъегерем в столицу
Послали экстренный доклад
О том, что августейший брат
Изволил как бы… испариться.
И Николай, великий князь,
Смут или слухов убоясь,
Велел словами манифеста
Оповестить, что царь усоп.
Гвардейца положили в гроб
На императорское место.
8
А что Кузьмин? Куда девался
Истории свидетель той,
Которым интересовался
Лев Николаевич Толстой?
Лет на десять забыт в тюрьме,
Он в полном здравье и уме
Был выпущен и плетью бит.
И вновь лет на десять забыт.
Потом возник уже в Сибири,
Жил на заимке у купца,
Храня секрет своей цифири.
И привлекать умел сердца.
Подозревали в нем царя,
Что бросил царские чертоги.
9
Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Он через степи и леса
Летел, как весть, летел на север
Через Москву. И снег он сеял.
И тут декабрь уж начался.
А ветер вдоль Невы-реки
По гладким льдам свистал сурово.
Подбадривали Трубецкого
Лейб-гвардии бунтовщики.
Попыхивал морозец хватский,
Морскую трубочку куря.
Попахивало на Сенатской
Четырнадцатым декабря.
10
А неопознанный предмет
Летел себе среди комет.
1974
Снегопад
Декабрь. И холода стоят
В Москве суровой и печальной.
И некий молодой солдат
В шинели куцей госпитальной
Трамвая ждет.
Его семья
В эвакуации в Сибири.
Чужие лица в их квартире.
И он свободен в целом мире.
Он в отпуску, как был и я.
Морозец звонок, как подкова.
Перефразируя Глазкова,
Трамваи, как официантки,
Когда их ждешь, то не идут.
Вдруг снег посыпал. Клочья ватки
Слетели с неба там и тут,
Потом все гуще и все чаще.
И вот солдат, как в белой чаще,
Полузасыпанный стоит
И очарованный глядит.
Был этот снег так чист и светел,
Что он сперва и не заметил,
Как женщина из-за угла
К той остановке подошла.
Вгляделся: вроде бы знакома.
Ах, у кого-то из их дома
Бывала часто до войны!
И он, тогда подросток праздный,
Тоской охваченный неясной,
За ней следил со стороны.
С ухваткой, свойственной пехоте,
Он подошел:
– Не узнаете? —
Она в ответ:
– Не узнаю.
– Я чуть не час уже стою,
И ждать трамвая безнадежно.
Я провожу вас, если можно.
– Куда?
—Да хоть на край земли.
Пошли? —
Ответила:
—Пошли.
Суровый город освежен
Был медленно летящим снегом.
И каждый дом заворожен
Его пленительным набегом.
Он тек, как легкий ровный душ,
Без звука и без напряженья
И тысячам усталых душ
Дарил покой и утешенье,
Он тек на головной платок,
И на ресницы, и на щеки.
И выбившийся завиток
Плыл, как цветок, в его потоке.
Притихший молодой солдат
За спутницей следил украдкой,
За этой выбившейся прядкой,
Так украшавшей снегопад.
Была ль она красива? Сразу
О том не мог бы я сказать.
Конечно, моему рассказу
Красавица была б под стать!
Она была обыкновенной,
Но с той чертою дерзновенной,
Какую могут обрести
Лет где-то возле тридцати
Иные женщины.
В них есть
Смешенье скромности и риска.
Беспечность молодости близко,
Но зрелости слышнее весть.
Рот бледный и немного грубый.
Зато как ровный жемчуг зубы.
И затаенная душа
В ее зрачках жила стыдливо.
Она не то чтобы красива
Была, но просто хороша.
Во всяком случае, солдату
Она казалось таковой,
Когда кругом была объята
Летучей сетью снеговой.
(Легко влюблялись мы когда-то,
Вернувшись в тыл с передовой.)
Я бы еще сказал о ней.
Но женщины военных дней
В ту пору были не воспеты,
Поскольку новые поэты
Не научились воспевать,
А не устали воевать.
Кое-кого из их числа
Уже навеки приняла
Земля под сень своих просторов:








