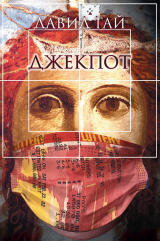
Текст книги "Джекпот"
Автор книги: Давид Гай
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
2
Из дневника Ситникова
А ты когда-нибудь думал, как жизнь проходила бы, если бы наоборот было все и жизнь со смерти начиналась? Представь себе. Сначала едят и пьют на твоих поминках, потом с кладбища несут тебя в дом, где все родственники в любви признаются. Потом ни хрена ты не делаешь, надоедаешь своими советами детям, внуков катаешь на коленках и старые добрые вспоминаешь времена за рюмочкой с соседом. Затем молодеешь без всяких усилий и на непыльную работу для пенсионеров устраиваешься. В какой-то момент вырастают все зубы и страсть к жене просыпается. Постепенно работа становится сложнее, твой чин – ниже, но это не очень важно. Еще через несколько лет в тебе страсть просыпается ко всем женщинам. Твоя дочь в школу идет, и не надо голову ломать над ее будущим. Ты привлекательнее становишься и можешь пол-литра выпить без закуси. Твоя жена к подруге уходит, и ты бесконечно можешь смотреть футбол под пиво с воблой. Еще через некоторое время уходишь ты с работы, чтобы в институте учиться, где сама учеба не очень важна, а представляют цель студенточки-первокурсницы и отмечание всех зачетов. Твой гастрит пропадает внезапно, возвращаешься ты домой, к родителям. Не надо самому готовить, стирать и полы подметать. В школе преподают то, что ты давно знаешь. Ты куришь в первый раз и идешь на дискотеку. Потом тебе не надо учиться, и ты проводишь дни в приятном строительстве башен из кубиков, размалевывании альбомов и поедании мороженого. Немного позже ты перестаешь бегать как угорелый, а валяешься в свое удовольствие в кровати. Каждая твоя рожа глупая умиление вызывает у людей, а к женской груди имеешь доступ круглосуточно. Через какое-то время ты туда возвращаешься, где тепло и спокойно, где нет перепадов температур и атмосферных бурь, где… Там ты проводишь девять месяцев и… умираешь от оргазма!!!
В какое время хотел бы ты вернуться, Костя? В каком времени почувствовал бы, что безусловно счастлив и желаешь находиться в нем как можно дольше? Увы, ни в каком, ни в детстве, ни в отрочестве, ни в зрелости (о старости ничего сказать не могу – покамест не дожил). Начинай перебирать: московское детство бесшабашное в самой что ни на есть центральной городской части, беготня по киношкам – «Колизей» и «Аврора» рядом, катание на «гагах» и «снегурках» по замерзшим Чистокам и летом на лодках, «казаки-разбойники» с прятанием клада или красного знамени во дворах и на чердаках Кривоколенного, Колпачного, Потаповского, Армянского, знаменитая 612-я в Девяткином переулке, где учились отпрыски привилегированных родителей из генеральского дома номер 12 по Чистым прудам, а ты, Костя Ситников, к ним не принадлежал, будучи сыном авиаинженера и медсестры, и жил на Чернышевке, в доме с аптекой в первом этаже; летом – дачный флигель на сорок втором километре Казанской дороги, который родители снимали каждый год, футбол до умопомрачения на сосновой поляне, где местные чаще всего безуспешно, пытались доказать москвичам свое преимущество, купание на «экскаваторе» – так почему-то прозвали искусственный водоем, вырытый невдалеке от секретного аэродрома, ловля майских жуков и обмен их на всякую всячину, «чижик», «ножички», лапта, городки – игры заполошной послевоенной мальчишни; взросление на лавочках в обнимку с такими же юными и неопытными подругами, от прикосновения к которых мигом сохло в горле, робкое распознавание покуда неведомого таинства; поступление по совету отца в авиационный, на факультет радиоэлектроники, учеба, «почтовый ящик» в Брянском переулке возле метро «Белорусская», куда распределился… И помчались годы, только успевай считать: женитьба, переезды с квартиры на квартиру, появление Дины, проба пера, отвергнутые сценарии, обучение новому ремеслу, и вот первые фильмы, первые приличные деньги, крепнущая решимость уйти из «ящика» на вольные хлеба, вольготная и нервная жизнь сценариста, но хочется большего, и появляются рассказы в «Юности» и «Октябре», тощий сборничек в «Московском рабочем». А потом – эмиграция (Полины затея), а дальше – совсем уж неинтересно, уныло, борьба за выживание: зловеще-издевательски звучит – выживание, а Полине выжить не удалось… Такая вот жизнь. Как у всех, наверное. Хотя не все писали сценарии и рассказы. Творчество все ж таки. Давно забытое, отставленное, только душу бередить.
Порой задумывается над этим, и внезапно казаться начинает, что прожитая жизнь – сплошная череда ошибок: делал не так, двигался не в том направлении, общался не с теми, говорил не то; начинает вспоминать, анализировать – и стыд берет, а еще злоба на себя: неужто, чудак на четырнадцатую букву русского алфавита, не понимал, не замечал, не видел? И никто не надоумил. Как же, надоумишь тебя, когда еще с юности стремишься ничьих советов не слушать, напролом прешь, лоб расшибаешь и снова упрямо прешь. Вроде не особенно склонный к рефлексии (так, во всяком случае, ему представляется), не может Костя перебороть себя – нет-нет и возникает свинчивающее его, как гайку, ощущение одной огромной непоправимой ошибки. В чем она, не может уразуметь, пробует разъять на составные – и странно, получается, что вовсе и не ошибки это, а правильные ходы, поступки, действия, и нечего огород городить по поводу них. Гнать глупые мысли, забыть – вот что надобно. Однако полностью, окончательно избавиться от навязчивого, волю парализующего состояния, изгнать из души само понятие – ошибка, убедить себя раз и навсегда: не было никаких ошибок и не будет – не в его силах.
Но было же в твоей жизни, Костя, светлое, неожиданное, неповторимое, всамделишное, что ошибкой уж никак не назовешь?! Было, конечно, было, напряжешь память – и проблеснут искорки, кольнет глубоко, сведет дыхание в знобком предчувствии, но все так скоротечно, летуче, всего-то счастья или того, что им называют и под ним подразумевают, – секунды, в лучшем случае минуты: первая ночь с Полиной в ноябре, в пустой неотапливаемой даче приятеля, первый раз услышанное от Дины на прогулке «папа», первая командировка на секретный полигон под Астраханью для испытания приборов, с твоим участием сделанных, первый принятый сценарий, первый напечатанный в журнале рассказ… И рядом, словно в насмешку, по какой-то странной прихоти, оживает столь незначащее, смешное, в сущности, мелкое, что диву даешься: как и зачем память хранит такую дребедень? Однако же помнится, живет в тебе. Ну, не считать же эпохальным событием детское озорство – взрослые обитатели квартиры на Чернышевке не знали о нем, а ведь могло оно стоить им лагеря: два раза в год, в самый канун праздников 1 Мая и 7 Ноября, окна коммуналки, выходящие на проезжую часть, где шли демонстранты, снаружи закрывались огромными портретами усатого вождя и его соратников, в комнаты опускалась темень, с утра включалось электричество, взрослые помалкивали, не сетовали на неудобства, маленьким же сорванцам хотелось играть, и, улучив момент, приоткрывали они окна, насколько могли, изнутри проделывали в портретах дырочки или чуть-чуть сдвигали их и бросали на улицу что придется: бумагу, ленточки, скорлупу, кожуру лука и даже картошку. Бросали и прятались. Как это сходило с рук, Костя до сих пор понять не может.
А вот эти проблеснувшие искорки уже о другом совсем. Первый гонорар на «Военфильме», восемьсот рублей за двухчастевку. Рад до смерти, таких денег в своем «ящике» отродясь не видел, а ему режиссер: «Ты – тюха, тебя нагрели, по закону положена тысяча…» А Костя счастлив, запомнит этот гонорар на всю жизнь. На «Киевнаучфильме» говорят ему знающие люди: «У нас принято делиться с редакторами». Он злится: с какой стати? Не будет делиться, не столько потому, что денег жалко, но потому, что против его естества это… И ничего, не отлучают от студии. А вот за что стыдно, так это за проваленный сценарий о химкомбинате. Рядом с Ясной Поляной находился, «Азот» назывался, потравил деревья, выжелтил их. Сценарий приняли, начал писать дикторский текст – и полная ерунда вышла. Переживал жутко.
Что случилось с ним, не понимал, ни тогда, ни сейчас, когда быльем все поросло: где Костя, где химкомбинат, где Ясная Поляна… А тогда едва заказов не лишился на «Центрнаучфильме».
В какое время хотел бы ты вернуться, Костя? Хотел бы вернуться в самое начало во всеоружии опыта сегодняшнего, чтобы жизнь свою переиначить, переделать, прожить по-другому, не совершить прежних ошибок, не наделать былых глупостей? Нет, не хотел бы. Во-первых, невозможно. Во-вторых… Тем-то и отличается живая вода из крана от дистиллированной, что она – живая, с микробами, хлоркой, всякими элементами дозволенными и недозволенными, порой со ржавчиной, дурно пахнущая, та, которую все кипятят и многие пьют сырой, ничего не боясь. Нет ничего скучнее и бездарнее безошибочной жизни. А если невероятным, сказочным образом в машине времени прикатить к начальной станции долгого пути и начать сызнова, начисто забыв или уничтожив любой намек на знание дальнейшего, всего, что после случится, разрушить предопределенность, то не произойдет ничего необычного, все обернется именно так, как уже было с тобой, Костя, или могло быть: те же (или другие, какая разница?) ошибки, глупости, потери, поражения. Но и, безусловно, радости, успехи, открытия, изумления. Что судьбой предначертано, то и сбудется, и никуда ты от этого, дружок, не денешься. Впрочем, что считать ошибками, глупостями, а что правильными, оправданными смыслом и логикой поступками? В сущности, человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, выдумывает для себя историю, которую своей жизнью считает. И Костя – не исключение.
…Только бы не попасть в «пробку». Выскакивает Костя на хайвэй, переводит дух – машины безостановочным потоком идут. Впрочем, радоваться рано – одна застрянет или авария, пусть самая мелкая, и все, движение намертво застопорится. И тогда опоздает он к Маше. Стоп, будет думать о хорошем. Солнце предзакатное, теплынь, даром что начало ноября. Осень в Нью-Йорке и впрямь лучшая пора. Затяжная, с теплом ровным и стойким, светом паутинным, как на картинах импрессионистов, и редкими дождями. А весны нет: две-три апрельские недели – и сразу жара грянет. Цветут вишня и азалия, но запаха у весны здешней нет. Сирень в цветочных лавках – невидаль, черемухи Костя сроду здесь не видел. Цветы местные вообще не пахучие. Один тип в Москве, из национал-патриотов оголтелых, коих Костя, русский по крайней мере в четырех поколениях, на дух не переносит, витийствовал по телевизору, незадолго до Костиной эмиграции: дескать, ужасная страна Америка – дети не плачут, собаки не лают, цветы не пахнут, женщины не любят. Чего детям плакать, если они ухожены и взлелеяны, а собаки накормлены, о женщинах поспорить можно, но цветы и вправду без аромата. В Нью-Йорке, Калифорнии, везде. Что касается зимы, то малоснежная, не слякотная, морозы стойкие – редкость, вот только ветра донимают. У Кости нет щеток одежной и сапожной. За ненадобностью. Манжеты брючные всегда чистые, обувь без разводов соли, которой в Москве улицы посыпали. Увлажняет кожу туфель губочкой, и порядок. Впрочем, и снег бывает, и морозы, а в девяносто шестом, помнится, столько материальцу подсыпало, что движение парализовало и по Манхэттену отдельные чудаки на лыжах передвигались. Лето же… Май, июнь, даже июль – куда ни шло, а вот август… За тридцать температура по Цельсию, по Фаренгейту, значит, к ста подбирается, и не зной страшен, а влажность чудовищная, притом без дождей – ни одной капли не выпадает, кондиционеры круглые сутки шпарят, у Кости к утру волосы на затылке, как после душа. Кошмар. Но и к этому привыкнуть можно. Зато смог отсутствует и бензином в ноздри не бьет, как в Москве. Дышать можно. Единственно – не хватает Косте былых ощущений дачных: дымка вкусного костров по весне на огородах, когда палую листву жгут и накопившийся на участках мусор, лесной вожделенной прохлады и пения дроздов, жужжания, стрекотания и иных звуков живой природы. Однако в Бруклине, где обитает Костя, свои прелести: под боком залив океанский, пляжи на Манхэттен-бич и Брайтоне – купайся, загорай вплоть до ноября, гуляй вдоль уреза воды…
Вот и перекресток Оушен авеню и М. До приезда Маши пятнадцать минут. Надо парковку найти. Сущее мучение. Проклинает всех и вся, видя ряды машин плотные, без единого просвета. Без машины в Нью-Йорке удобнее и уж точно спокойнее, если на работу за тридевять земель ездить не надо. Сейчас везет несказанно – почти у самого подъезда своего шестиэтажного билдинга паркуется. Узрел – дама пожилая выходит из магазина русского напротив, пакеты с едой в багажник укладывает и отъезжает. Быстренько на ее место. Хороший знак. Вот так бы и Маше. Иной раз по полчаса кружит она у дома. Полчаса эти – за счет времени их свидания, и без того краткого.
Сегодня определенно их день – в тридцать пять минут шестого сигнал домофона. Через минуту в двери Маша – в брюках неизменных, тонкой обтягивающей блузке, стриженая, с расчесанными на пробор волосами в легкую рыжизну, которые Костя так любит гладить. Он успевает стол сварганить на кухне: сыр «грувер» – Машин любимый, виноград, клубника, малина, «Киндзмараули». Маша полусладкие грузинские предпочитает, их полно в Нью-Йорке. Костя толк в винах знает, «Киндзмараули» здесь вовсе не то, что продавалось изредка в «Елисеевском», и уж совсем не то, что некогда пил в Грузии, но никак не может приучить Машу к итальянским и французским сухим винам. Пускай пьет, что нравится.
Маша в хорошем расположении духа, выпивает наравне с Костей полбокала, закусывает сыром, закуривает сигарету, интересуется, где и с кем он бывал, что видел за полторы недели, с их последнего свидания истекшие. «С кем» – незамысловатая игра. Прекрасно Маша знает, что ни с кем, кроме нее, Костя не встречается. Спросить об этом – значит проявить заинтересованность, показать, что следит за его личной жизнью и даже ревнует слегка, пусть и без всяких на то поводов. Косте приятно: женщина в тридцать четыре ревнует его, почти шестидесятилетнего, пусть и невсамделишно.
Маша привлекательна неброской, неяркой, не стреляющей красотой. Чуть выше среднего роста, ширококостная, ладненькая, совсем не семитская внешность, однако чистокровная еврейка. Лицо ее можно было бы назвать обыкновенным, даже простоватым, если бы не глаза. Серо-зеленые, они доминируют, в них, как и в губах, некая неопределенность, скрытность. Побаивается Костя слегка летучего, мигом возникающего и мигом гаснущего полузагадочного выражения: мнится ему, в любой момент может что-то случиться, нарушить его отношения с Машей. Такое уже бывало. Припухлые поддужья глаз говорят: опять спит мало, нервничает. Надумала покупать дом под Нью-Йорком, не имея денег на первый взнос. И сейчас разговор опять вертится вокруг злосчастного взноса.
– Ты авантюристка, – не в осуждение, скорее с поощрительными нотками произносит Костя. – Почему надо картину гнать? Собери постепенно деньги, братья и друзья помогут, – ко вторым он, понятно, причисляет и себя, – начни выбирать, а не хватай первое попавшееся.
– Не первое попавшееся, а очень хороший дом. Я уже нашла. Процент банковский сейчас низкий, ссуду мне дадут, а что будет завтра, никто не знает. Да, я решительная: если что-то нравится, беру сразу, не раздумывая. И не только что-то, но и кого-то. Тебя же сразу выбрала.
– Ну, положим, ты на меня на корриде и не смотрела.
Я ни на кого не смотрела, даже на быков. Болела, температурила. А после самолета сама пришла.
– Это потому, что с Андреем в ссоре была.
– Не только поэтому.
Маша начинает выкладывать цифры. На первый взнос собрать нужно тридцать пять тысяч. Десять процентов. Столько-то дадут братья, столько-то друзья… и делает паузу.
– Тысяч семь дам я, – фиксирует свое участие в безумном проекте Костя.
– Спасибо. Отдам месяца через три, когда возьму еще заем.
Не торопись. Могу подождать. Ты твердо решила обосноваться в Фэйрлоне?
В вопросе неприкрытое беспокойство – это же очень далеко от Костиного жилья. Как будут встречаться? Маша намеренно игнорирует вопрос.
– Да. Братья недалеко, и дом почти новый, в приличном состоянии. Хочешь, поедем в выходные смотреть? На следующей неделе начну документы оформлять. К Новому году, может, вселюсь.
– А ты считала, сколько ежемесячно будешь банку выплачивать? Это ж тысячи полторы в месяц.
– Больше, – вздыхает.
– Я стану помогать, – выдает тайно-несбыточное.
– Посмотрим, – по своему обыкновению туманно, неопределенно, не очень обнадеживающе. – Хорошо, мы будем любиться? У меня всего час. Дети у мамы ждут…
…Тепло постели, только что покинутой женщиной. Смятая простыня, в складках – неостывший любовный жар, пот, запах кожи, волос. Стены задышливый Машин крик хранят, он поднимается из потаенной глуби, идет по нарастающей, выхлестывает неуемной силой плоти и гаснет, замирает в изнеможении. Маленькая смерть. Триста лет назад монах-доминиканец написал: всех нас ждет смерть, большая, единственная для каждого, но перед ней люди испытывают маленькую смерть, и не однажды. Хорошо это или плохо, неизвестно. То, в чем сомневался монах, для остальных бесспорно хорошо, прекрасно, восхитительно, бесподобно, божественно. Все неумолимо, неизбежно остынет, выветрится – тепло тела, пот, запах, словно и не было ничего. И так до следующего раза, когда повторится с той же, а может, и большей силой. И опять наступит маленькая смерть.
Костя лежит на неубранной кровати, не хочется вставать, двигаться. Сыр и фрукты не убраны в холодильник. И черт с ними. Тарелки не вымыты. До фени. Сладкие мгновения расставания с Машиной плотью – жаль, ничего нельзя спрятать, сохранить надолго, закупорить, как флакон духов изысканных. Настораживает брошенное Машей перед уходом, будто невзначай: а в меня мальчик влюбился, американец, странный такой, он недавно у нас на фирме – и полуулыбчивое, летучее, скрытно-полузагадочное выражение глаз и губ, которого Костя боится. «Какой еще мальчик? – понарошку хмурит брови. – Хватит мне Андрея». – «Мальчик. По имэйлу шлет записки. Я тебе покажу в следующий раз…»
Весь вечер не идет из головы этот мальчик. Только засыпая, переключается на другое, вспоминает Машины просительно-настойчивые ласки, а мыслями – в мадридском вечере, когда впервые увидел ее. Плаза де Торос. Коррида. Затянутые в корсеты изумительно красивых костюмов матадоры. И быки, отданные на заклание, без единого шанса спастись. Даже насадив на рога дразнящего их человека. Афиша той корриды висит у Кости в коридоре. Антонио Бриско, Рейес Мендоза, Серхио Мартинес. С этого вечера и началось у них с Машей. Вернее, еще ничего не началось и могло не начаться, если бы не счастливый случай. И тем не менее познакомились они именно на корриде; Костя столько слышал о ней и после некоторых колебаний решил посмотреть.
Далеко не полностью заполненная арена цирка (первое Костино удивление – он думал, быки собирают столько же зрителей, сколько футбольные матчи «Реала»). Под балдахином с испанским флагом – руководитель корриды, он же президент, с двумя помощниками. Взмахом белого платка объявляет о начале парада. Литавры. Выходят квадрильи, впереди два альгвасила на конях сопровождают матадоров: справа – самый опытный матадор, слева – менее опытный, в центре – самый молодой. Правила и традиции не меняются столетиями. За матадорами – бандерильеро, следующий ряд – пикадоры, приветствуют президиум. Снова взмах белого платка. Матадоры меняют парадные плащи на боевые, и все начинается.
На арене первый бык, и следует новое Костино удивление. Даже разочарование: бык совсем не чумовой, не вылетает, сжигаемый яростью, навстречу тем, кто раздразнивает его, а нехотя выходит из загона без видимого настроя драться. Порода его специально для боя выведена, но он не желает погибать на глазах публики, ждущей от него подвигов, аплодирующей и свистящей. А может, ему просто страшно, вопреки тому, чему его учили на ферме, может, инстинкт страха не убит до конца. Помощник матадора дразнит быка накидкой, пассы выделывает, разозлить пробует. Бык взирает презрительно-равнодушно, не реагирует на ухищрения человека, он явно не намерен бороться за себя, заранее смиряется со своей участью. По правилам такого быка загнать следует обратно и выпустить другого. Но президент молчит, а значит, бой продолжается.
За дело берется главный матадор, машет перед бычьей мордой красной тряпкой. Элегантны, изящны его пассы, бык слегка оживляется, пытается боднуть покрывало; однако без энтузиазма. А вот и пикадоры, поощряемые взмахом того же платочка. Выходят на арену под барабанный бой и звуки труб. Убийство начинается. Бык три удара пиками получает в загривок. Потом втыкают ему три пары бандерилий, течет кровь, бык начинает звереть – и терять силы. Втыкание бандерилий сопровождается пасодоблем. Спектакль выверен в мелочах, зрелище продумывалось и шлифовалось веками. Но бык все портит, на него жалко смотреть.
Главный матадор сбрасывает желтый плащ, берет шпагу, подходит к президентской ложе и просит разрешения на убийство. Начинает плясать вокруг истекающего кровью быка. Тот вообще не в силах сопротивляться. Удар шпагой в загривок – и дело сделано. Если с первой попытки воткнуть шпагу не удается, матадор получает еще две. Но этот втыкает шпагу метко. Бык падает, дергается в конвульсиях на песке. Кажется, он еще не умер. Добивает его кинжалом помощник матадора. Награда победителя – ухо поверженного животного. Герой гордо обегает арену, показывает ухо зрителям, в ответ громкая овация.
Ничего гаже и омерзительнее в своей жизни Костя не видел. Гадость и омерзение. Тем большее, чем красивее и изящнее обставляется зрелище убийства. Люди раздражают быков меньше, чем лошади альгвасилов, делает вывод Костя. Наверное, быки не могут простить им предательского участия в бойне. Чего ждать от людей? Ничего хорошего от них не дождешься. А вот предателям-коням нет пощады. И пока быки в силе, поистине с бычьим упрямством наскакивают на лошадей. Те просто бесят их. Лошади в защитных доспехах и с повязками на глазах: они не должны видеть быков, иначе могут дать деру. Костя ловит себя на желании увидеть, как бык со всей мочи боднет лошадь в защищенный бок и сбросит альгвасила. Пару раз удается, и Костя свистит в азарте. Однажды и матадор свое получает – сваливает его бык и рогом поддевает. Костя на стороне быка и не стесняется признаться в этом себе. Почему, если человек убивает быка, это зовется зрелищем, а если бык насаживает на рога человека, это зовется кровожадностью?
Костя иногда смотрит по телевизору Animal Planet, передачу о жизни животных, сильные там всегда настигают и убивают слабых: тигр – антилопу, лев – зебру, волк – зайца, но омерзительнее всего видеть, как куча койотов атакует молодого, отбившегося от стада быка, вдесятером на одного. У Кости давление поднимается, словно его самого на растерзание отдают и нет шансов спастись. Гонит тигр антилопу, а Костя с робкой надеждой: умчись от гада полосатого на своих дивных стройных ногах, пожалуйста, умчись, ты такая грациозная, я не могу видеть, как желтые мерзкие клыки вонзаются в твою нежную шею… Он вырубает экран, не в силах вынести очередную гибель – подтверждение вековечного природного закона борьбы видов.
Сходное чувство сейчас на корриде. Очередной бык повержен, на арену выезжает колесница из трех лошадей, возница накидывает петлю на бычью морду и тянет бездыханное животное к выходу. На песке алый след крови. Песок тут же заравнивают.
Сбоку, выше на ряд, слышна русская речь. Трое, не из Костиной группы, две молодые женщины и парень. Парню зрелище явно по душе, спутницы отворачиваются. На четвертом убитом быке встают и идут к выходу. Парень остается. Костя, повинуясь внутреннему порыву, за ними. В коридорах людей мало. Женщины движутся по кругу, всматриваются в развешанные по стенам фотографии знаменитых тореро. Им явно не хочется возвращаться. Костя держится чуть поодаль.
Зачем он поднялся с места вслед за двумя русскими… Омерзело, кто-то должен пример показать, вот он и следует за ними. Одна – повыше, покрупнее, темноволосая, в коричневом кожаном пиджаке, другая – сравнительно невысокая, светлая, в бежевом свитере, у нее странная походка, будто на ногах тяжелые неудобные башмаки. Интересно, откуда они? Из России? Туристов оттуда в Мадриде навалом.
Мимо почему-то бегут взрослые и невесть откуда взявшиеся дети. По ходу кругового движения открывается свободное пространство в виде загона. Все – туда, скапливаются у входа, толкаются в попытке лучше увидеть, что там происходит. Отцы сажают мальчишек на плечи. Костя притиснут к незнакомкам. В прогале видны крюки со вздернутыми тушами. Туши разделывают на глазах у визжащей от восторга детворы. Это только что убитые быки. Мясо идет в мадридские рестораны, как накануне корриды рассказывал гид Костиной группы.
– Кошмар, – слышит Костя голос темноволосой. – И пацанов родители ведут глазеть…
– Не могу понять, почему именно испанцы столь кровожадны, подает реплику Костя. – В Европе бои быков запрещены.
– Кроме Португалии, – откликается темноволосая. – Но там, говорят, убивать животных нельзя. Бескровная коррида.
Спутница ее молчит, глядит куда-то в сторону. Бледная, с запекшимися губами, то и дело пьет воду из бутылочки, поводит плечами, будто ей холодно. Невзрачная какая-то, серая мышка, зато в коричневом пиджаке – симпатичная и глядит заинтересованно.
– А вы откуда, девочки, в Мадрид нагрянули? – с долей не свойственной ему развязности спрашивает Костя. – Россиянки, наверное?
– Не угадали. Я с мужем из Чикаго, моя подруга Маша, – указывает на спутницу, – из Нью-Йорка. Меня Наташей зовут. А вас?
Нехотя возвращаются на трибуну. Скоро убьют шестого быка и все наконец-то закончится.
– Вам нездоровится? – спрашивает он у Маши.
– Гриппую. Держитесь от меня подальше, а то заразитесь – и весь отпуск насмарку. Как у меня.
– А чем лечитесь?
Да ничем. Пробую водкой, толку чуть.
Через пять минут коррида завершается. Чикагская пара и Маша прощаются с Костей.
Он напрочь забывает о мимолетном знакомстве, и вдруг в аэропорту Барселоны его окликают. Наташа, не сразу узнал ее. Она с мужем и подруга улетают, как и он. Домой, в Штаты? Нет, они в Израиль к друзьям, а Маша в Нью-Йорк.
Одним рейсом, в разных концах «Боинга». Костя от нечего делать подходит к Маше, затеивается ни к чему поначалу не обязывающий треп, она сидит, он нависает над ней в проходе.
– Пойдемте в конец салона, – неожиданно предлагает Маша.
Проговорят они без малого три часа, оккупировав пространство возле аварийного выхода. Стюардессы почему-то не делают им замечаний, не просят вернуться на свои места. Маша выглядит уже не так, как на корриде. Хворь прошла, успела слегка загореть на Коста-дель-Соль, посвежела. Очень даже симпатичная. На вид ей лет тридцать с хвостиком.
На Костю находит вдохновение. Не упомнит, когда так легко и нестесненно вел беседу с женщиной. После смерти Полины долго ни на кого смотреть не мог. Отпечалился, отболел душой, завел несколько быстролетных, ни к чему не обязывающих романов – в конце концов, не монах же, – пока не остановился на одинокой немолодой русской медсестре из своего госпиталя. Понимают оба – блюстители нравственности взгреть могут за связь, поэтому на работе конспирацию соблюдают, стараются не общаться без особой нужды, даже по телефону.
Пресечение связей амурных между сослуживцами – самое в Америке идиотическое занятие среди прочих. Пользы чуть, а вреда… Друг-редактор рассказывал: врач один холостой, с двумя бабами в разное время у себя дома переспал – медичкой из своего госпиталя и пациенткой. Бабы довольны, хипеса не поднимают, напротив, зато госпитальное начальство возмущено – кто-то, видать, стукнул. И согласно правилам моральным того заведения, не имеет теперь права врач-бедолага оставаться один на один с больными. Надо срочно осмотреть пациентку, так он за медсестрой бежать должен, чтоб присутствовала. А другой случай и того чуднее. У доктора умерла жена, живет он один больше года, однажды благодарная пациентка, тоже одинокая, пригласила его домой на обед. Так повторяется раза три. Между ними обоюдная симпатия устанавливается, и доктор как-то позволяет себе обнять и поцеловать женщину. И тут же сам сообщает начальству. Этика-с. По этой самой гребаной этике обязан он три месяца не видеться с этой женщиной или переадресовать ее для лечения коллеге. Редактор рассказывает и ехидно посмеивается – «таковы их нравы», а в Косте все аж кипит. Представляет, как начнут волтузить его, мордой об стол прикладывать, коль узнают про Эллу.
А сейчас в самолете словно ветер дует в его паруса, мчится он по волнам навстречу маняще-неизведанному, брызги соленые секут щеки, и предчувствие чего-то многообещающего не покидает Костю все три часа.
Он рассказывает о себе, но еще больше узнает о Маше. Странно, она делится с ним, незнакомцем, с той степенью доверительной откровенности, на которую он при всем желании не мог рассчитывать. Какую-то струнку в ней, видно, затрагивает. Может, воспоминания о былом киношном влияют, а может, неожиданная оценка эмиграции, с которой она соглашается, – это как похороны, после которых жизнь продолжается; он острит, вспомнив афонаризм: «Судя по количеству уезжающих в Штаты, у них там еще не все штаты заполнены», – и она хохочет. О своем нынешнем житье Костя особенно не распространяется: ничего интересного, вкалывает, деньги зарабатывает и все. Зато упоминает концерты, на которые ходит в «Карнеги», приглашает составить компанию.
Машина же жизнь предстает в куда больших подробностях, и Костя поражается, сколько же испытаний и бед выпало этой совсем еще молодой женщине. Шутка ли, в двадцать собираться родить – и потерять мужа, горячо любимого: лопается дотоле дремавшая аневризма сосуда мозга, кома и смерть. Ей прожужжали уши: делай аборт. Не слушается, рожает двойню (что будет двойня, выяснилось перед самыми родами) и отбывает в эмиграцию. На четыре года раньше Кости. Хлебнула здесь полной мерой. Поначалу квартиры убирает – кому нужен ее диплом учителя музыки. Да толком и не работала в Союзе по профессии. Не успела. Выучивается на программиста – все учатся, и она идет – поветрие такое, меняет три работы, сейчас в крупной компании, ею довольны, даже занятия ведет со вновь нанятыми. Сокращения ее минуют. Пока, во всяком случае. Вот только вкалывает, как мужикам не снилось: почти все выходные. Деньги нужны, девчонки растут, то им купи, это… Личная жизнь? Много всего было, уходит от ответа. Нынешний бойфренд уже лет шесть. Женат. Был женат, уточняет. Нелегко с ним. Чем-то действует на нее, привязывает к себе. Не хватает сил порвать, хотя ссорятся постоянно. Вот и сейчас в ссоре, поэтому одна была в Испании.








