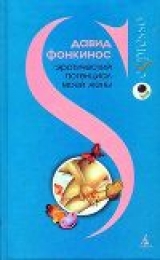
Текст книги "Эротический потенциал моей жены"
Автор книги: Давид Фонкинос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Давид Фонкинос
Эротический потенциал моей жены
Виктору
* * *
Как же достичь тебя, волна желанья,
Что крылья даришь мне…
М.
Разум мой тщетно подчеркивает и осуждает диктатуру чувственности.
Луи Арагон
Часть первая
Некая форма жизни
I
У Гектора была физиономия героя. В нем чувствовалась готовность перейти к действию, пренебречь всеми опасностями, грозящими всему огромному человечеству, воспламенить толпы женщин, организовать отпуск для всей семьи, побеседовать с соседями в лифте и даже, если он будет особенно в ударе, понять фильм Дэвида Линча. Будь у него икры покруглее, он мог бы считаться чем-то вроде героя нашего времени. И однако же он решил покончить с собой. Таких героев нам, пожалуй, не надо, видали и получше. Некоторая склонность к зрелищности подсказала ему, что можно воспользоваться метрополитеном. Так все узнают о его смерти, и она станет чем-то вроде допремьерного показа разрекламированного фильма, который обречен на провал. Гектор мягко покачивался на ногах, слушая объявления из динамиков, предостерегавшие от покупки билетов в метро у случайных лиц; если самоубийство не удастся, эта информация может пригодиться впоследствии. Ничего не зная о нем, можно было надеяться, что оно не получится, хотя бы чтобы знать, стоит ли полагаться на человеческую внешность. А внешность героя – это просто потрясающе. Тем временем глаза героя начинал застилать туман, пилюли, рассчитанные на усыпляющее действие, были проглочены заблаговременно. Во сне умирается легче. И слава богу, потому что наш Гектор грохнулся в обморок. В его зрачках сквозила пустота Его обнаружили лежащим навзничь в туннеле метро, гораздо ближе к станции «Шатле-Ле-Алль», чем к собственной смерти.
Его распростертое тело напоминало выкидыш. Двое санитаров с носилками и наружностью спортсменов, накачанных стимуляторами (впрочем, мы больше не можем полагаться на внешность), избавили его от жадных глаз всех этих рабочих, пришедших в восторг от созерцания человека, которому было еще хуже, чем им. Гектор же думал лишь об одном: провалив свое самоубийство, он обрек себя на жизнь. Его поместили в больницу, где стены только что были выкрашены заново, и, само собой, повсюду виднелись надписи: «Осторожно, окрашено!» Несколько месяцев ему предстояло маяться в отделении для выздоравливающих. Единственное доступное ему там развлечение определилось очень скоро: разглядывать дежурную медсестру, смутно мечтая ласкать ее груди. С этой мыслью он и засыпал, не успевая осознать, что медсестра была уродлива. Он пребывал в состоянии неуклюжести, казавшейся почти мифической. Подобное суждение выглядело суровым; медсестра вполне могла быть чувственной между двумя уколами морфия. И еще там был этот врач, который заглядывал время от времени, как обычно заглядывают на званый вечер. Общение редко затягивалось более чем на минуту, врач появлялся с видом человека, которому очень некогда: если заботишься о своей репутации, такой вид совершенно необходим, а репутация была единственным, о чем сей эскулап действительно заботился. Этот загорелый до неприличия человек требовал, чтобы Гектор высунул язык, дабы прийти к заключению, что язык у пациента красивый. Это было прекрасно – иметь красивый язык, с красивым языком чувствуешь себя лучше, только Гектору от этого было ни холодно ни жарко. Он и сам не знал, чего ждет, он был просто человеком в состоянии глубокой депрессии, стенающим уже в самом горлышке воронки. Ему было предложено позвонить кому-нибудь из родственников или друзей, если, на счастье, таковые имелись (ненавязчиво была также упомянута возможность найма). Оба варианта были отвергнуты путем нелюбезного молчания; что ж, нет так нет. Гектор не желал никого видеть. Точнее говоря, он, как всякий больной, не желал, чтобы кто-либо видел его в подобном состоянии. Он стыдился выглядеть человеческим огрызком, пребывающим между ничтожеством и чем-то еще худшим. Ему случалось звонить по телефону кому-нибудь из друзей якобы из-за границы: этот Большой каньон – просто чудо, какие ущелья, – и вешал трубку, будучи сам Большим каньоном.
Медсестра же находила его симпатичным, она даже сказала ему, что он – человек оригинальный.Можно ли спать с женщиной, которая считает тебя оригинальным? Вот в чем вопрос. По идее, нет; можно сказать, что женщины вообще никогда с такими не спят, и все тут. Она проявила интерес к его истории, вернее, к той части его истории, которая была ей доступна, короче говоря, к истории его болезни. Мании, мягко говоря, бывают куда более интересные. Ну сыщется ли на свете женщина, готовая предложить вам свое тело лишь потому, что ей нравится ваша манера являться по первому требованию врача для прививки полиомиелита? О, я просто балдею от вас, мужчина регулярных прививок. Медсестра частенько почесывала себе подбородок. Это происходило в тех случаях, когда она принимала себя за врача; по правде сказать, в данном случае она могла бы вполне справиться с этой ролью. Тут она вплотную приближалась к кровати Гектора. И у нее была очень эротичная манера поглаживать белую простыню – ее ухоженные пальцы напоминали ноги на лестнице, они мерили шагами белизну.
Гектора выпустили в начале марта, хотя месяц не имел никакого значения, как, впрочем, и все остальное. Консьержка, возраста которой не мог бы определить уже никто, прикинулась обеспокоенной долгим отсутствием жильца. То самое, знаете ли, притворное беспокойство, какое было в ходу у консьержек в годы немецкой оккупации, да еще в сочетании с таким пронзительным голосом, который, раздайся он вблизи железной дороги, был способен пустить под откос вражеский эшелон.
– Месье Баланчи-и-и-ин, как я рада, что вы вернулись! А то уж я так беспоко-о-о-о-илась…
Гектор был неглуп: поскольку он отсутствовал несколько месяцев, она просто пыталась выклянчить рождественские чаевые за прошлый год. Не захотев воспользоваться лифтом – главным образом из страха наткнуться на кого-нибудь из соседей и оказаться вынужденным что-то о себе объяснять, он потащился вверх по лестнице. Его громкое дыхание было услышано, и соседи приникли к дверным «глазкам». На его пути открывались двери. И ведь было даже не воскресенье; решительно дом был изнурительно праздным. И непременно найдется какой-нибудь сосед-алкоголик, с которым У вас по жизни не больше точек пересечения, чем у двух параллельных прямых, и который ухитрится затащить вас к себе, исключительно для того, чтобы трижды спросить: «Ну, как дела?» и трижды услышать в ответ: «Ничего дела; у тебя-то как?» Невыносимая фамильярность; когда тебя выписывают из отделения для выздоравливающих, предпочтительнее жить в Швейцарии. Или, того лучше, быть одной из жен в гареме. Чтобы поскорее добраться до своей квартиры, Гектор сослался на боль в печени, и сосед, естественно, отреагировал: «Надеюсь, ты не привез из своих странствий какой-нибудь цирроз?» Гектор чуть растянул губы в улыбке и двинулся дальше. Наконец он отпер свою дверь и нажал на выключатель, чтобы стал свет. В квартире ничто, разумеется, не изменилось. Гектору тем не менее казалось, что прошло несколько жизней; он словно перевоплощался. Пыль следила за квартирой, покуда не заскучала настолько, что принялась размножаться.
Как это случалось ежевечерне, стемнело. Он сварил кофе, чтобы бессонница имела естественное объяснение. Сидя в кухне, он слушал, как коты пробираются по водосточным желобам, и не знал, что делать. Он подумал обо всех письмах, которых не получил. Взгляд его упал на маленькое зеркальце, купленное на барахолке; он отлично помнил эту барахолку, и воспоминание повергло его в трепет. Он словно вновь ощутил горячку того дня, когда купил это зеркальце, подобно тому, как чувствуешь запах человека, глядя на его фотографию. Об этом ни в коем случае не следовало думать, с этим покончено; он выздоровел. Он больше никогда не пойдет на барахолку покупать зеркальце. Он поглядел на свое отражение. Собственное лицо после полугодового выздоравливания показалось ему изменившимся. Впервые в жизни будущее представилось ему надежным; разумеется, он ошибался. Однако никто здесь не собирался – пока – разрушать его иллюзии. И прежде чем двигаться вперед, навстречу временам грядущим, можно задержаться на времени прошедшем, причем весьма и весьма несовершенном.
II
Гектор только что пережил величайшее мгновение своей жизни: именно тогда, когда он менее всего мог этого ожидать, он наткнулся на бейдж «НИКСОН ЛУЧШЕ ВСЕХ!», выпущенный к предвыборной кампании Республиканской партии 1960 года. Тут следует отметить, что после Уотергейтского скандала бейджи избирательных кампаний, связанных с Никсоном, встречались довольно редко. Благородный нос Гектора едва заметно дрогнул, подобно тому, как вздрагивают веки отроковицы, чьи груди растут быстрее, чем следовало. Благодаря этой находке он мог рассчитывать на победу в национальном конкурсе на звание лучшего собирателя бейджей предвыборных кампаний. Это не слишком широко известный факт (и для нас истинное удовольствие поделиться своими познаниями), но действительно существуют конкурсы коллекционеров. Участники этих турниров в качестве оружия используют редкие почтовые марки и не менее редкие монеты, и происходит все это в атмосфере одновременно праздничной и пыльной. Гектор записался на конкурс в категории бейджей, бывшей в этом году в небывалой чести (по причине резкого умножения собирателей значков, которые самым плачевным образом ломали рынок, вследствие чего сторонники чистого искусства сосредоточились на бейджах). И надо было располагать весомыми основаниями, чтобы надеяться пройти хотя бы в четвертьфинал. Гектор не тревожился, сознавая собственное превосходство, и в уютном уголке памяти вновь и вновь переживал сладостный миг своей находки. Он шел, вытянув руки вперед, словно антенны, горячечным шагом, ибо коллекционер – это больной в непрерывном поиске исцеления. Вот уже два дня как он, словно одержимый, метался в абстинентной тоске по бейджу; вот уже полгода как он начал коллекционировать бейджи, и это были полгода безумной страсти, полгода, в течение которых сама его жизнь была не чем иным, как бейджем.
Следует неизменно опасаться шведов, которые не блондины. Гектор был невозмутим, зная, что может в любой момент извлечь из ножен бейдж «НИКСОН ЛУЧШЕ ВСЕХ!» и представить его лучистому взору шведа – взору, который напоминал о количестве самоубийств в Швеции. Невозможность сохранить в памяти его имя не позволит нам тем не менее забыть о его великолепных прошлогодних показателях, ибо этот господин стал официальным чемпионом прошлогоднего конкурса коллекционеров бейджей избирательных кампаний. В миру швед был аптекарем в какой-то шведской аптеке. Говорили, что он получил эту профессию по наследству; профессиональная жизнь коллекционеров зачастую походит на слишком большой, не по размеру, костюм. Что же до их сексуальной жизни, то она безмятежна, как двоечник во время каникул. Собирательство – один из редких видов человеческой деятельности, не связанных с желанием обольщать. Собранные предметы становятся крепостными стенами и напоминают лошадиные шоры. Только мухам дано наблюдать вблизи холодную грусть, исходящую от коллекций. Грусть, которая забывается в эйфории соревнования. В такой миг швед забывал само слово «лекарство». Родители, воспитавшие его в любви к шприцу для внутривенных инъекций, для него больше не существовали. Зрители затаили дыхание, это был один из самых напряженных финальных матчей, которые им доводилось пережить. Гектор поймал взгляд поляка, которого победил в полуфинале: чувствовалось, что поражение до сих пор стоит у того в горле комом, который тот никак не может проглотить. Но как он мог хоть на минуту понадеяться попасть в финал со своим бейджем Леха Валенсы? Шведа можно было сбить с толку разве что интеллектуальным превосходством. В зале было тихо. Время от времени швед тер себе виски, ясно, что это уловка с целью дестабилизировать противника, жалкий трюк, которым он хотел достать нашего Гектора. Нелепые попытки, наш Гектор был крепок, как скала, за плечами годы собирательства, он был уверен в своем Никсоне; тому, кстати, наверняка было бы приятно узнать, что некий Гектор одержит победу благодаря ему, Никсону. Конечно, это событие мало что изменит в книгах по истории, и вряд ли его положительная роль в нынешнем конкурсе ослабит отрицательную мощь Уотергейтского дела. И однако же все оказалось не так просто (опасайся шведов, которые не блондины). Мерзавец предъявил бейдж «Битлз». Среди зрителей пробежал смешок, но швед, не проявляя ни малейшей растерянности, разъяснил, что этот бейдж был сделан для избирательной кампании на должность председателя Клуба Одиноких Сердец Сержанта Пеппера – Sergent Pepper Lonely Hearts Club Band.Негодяй, должно быть, что-то пронюхал о Гекторовом сокровище и не нашел лучшего способа защиты, кроме как заморочить голову жюри; этакая шведская сволочь. И его план, похоже, удался, поскольку на лице жюри (состоявшего, по правде говоря, из одного-единственного бородача) появилось подобие улыбки. Гектор возмутился, но сделал это как-то нелепо, потому что возмущаться по-настоящему не умел; он, в некотором смысле, стиснул зубы. И вот чем закончилась эта постыдная пародия на конкурс: уловку шведского пройдохи признали чрезвычайно оригинальной, и Гектор был признан побежденным. Он сумел вынести это с достоинством, нашел в себе силы слегка кивнуть в сторону победителя и покинул зал.
Оставшись один, он заплакал. Не из-за поражения – у него уже было столько взлетов и падений, и он знал, что в любой карьере полно таких минут. Нет, он плакал от нелепости этой ситуации: проиграть из-за «битлов», это было просто смешно, вот он и плакал. Нелепость этого мгновения навела его на мысли о нелепости собственного существования, и впервые в жизни он ощутил силу, толкающую его к перемене, силу, позволяющую ему прекратить этот безумный процесс коллекционирования. Всю жизнь он был лишь сердцем, бившимся исключительно в ритме находок. Он собирал марки, дипломы, картинки с изображением кораблей у причала, билеты метро, первые страницы книг, пластмассовые мешалки для коктейлей и цеплялки для маслин, «мгновения с тобой», хорватские поговорки, игрушки «Киндер-сюрприз», бумажные салфетки, рождественские бобы, фотопленки, сувениры, запонки, термометры, заячьи лапки, списки новорожденных, раковины Индийского океана, звуки, которые слышны в пять часов утра, этикетки сыров – короче, он коллекционировал все, и всякий раз с одинаковым пылом. Его существование было проникнуто безумием, с неизбежными периодами чистой эйфории и глубочайшей депрессии. Он не помнил ни единого мгновения собственной жизни, когда бы он чего-нибудь не коллекционировал или чего-нибудь не искал. Всякий раз, начиная собирать очередную новую коллекцию, Гектор был убежден, что она будет последней. И систематически, по мере утоления своей страсти, он обретал в этом утолении истоки новой неутоленности. Он был, в каком-то смысле, Дон-Жуаном предметов.
В скобках
Последнее сравнение представляется наиболее точным. Подобно тому, как мы говорим о некоторых мужчинах, что они бегают за женщинами, о Гекторе можно было сказать, что он бегал за предметами. Будучи весьма далекими от того, чтобы сравнивать женщину с вещью, отметим все же очевидное сходство, и переживания нашего героя вполне сопоставимы с переживаниями прелюбодеев и вообще всех мужчин, пронзенных ощущением уникальности каждой женщины. По сути дела, это история мужчины, который любил женщин… Несколько примеров: Гектору не раз случалось разрываться между двумя коллекциями; так, посвятив полгода жизни сырным этикеткам, он внезапно оказывался сражен наповал видом случайно попавшейся ему на глаза почтовой марки и был пожираем стремлением бросить все ради этой новой страсти. В некоторых случаях сделать выбор оказывалось физически невозможно, и Гектор целыми месяцами жил в тоске и муках своей двойной жизни. В этих случаях приходилось размещать обе коллекции в противоположных углах квартиры, считаясь с особенностями каждого экспоната, ибо Гектор приписывал этим предметам человеческие свойства и нередко уличал какую-нибудь марку в ревности по отношению к списку новорожденных. Тут, разумеется, речь идет о тех периодах, когда состояние его душевного здоровья оставляло желать много лучшего. Вдобавок каждая коллекция вызывала совершенно различные ощущения. Некоторые, как, например, коллекция книжных страниц, казались более чувственными, чем прочие. То были коллекции особой чистоты, особо дорогие сердцу собирателя, которые, исчезнув, превращались в неиссякаемые источники ностальгических воспоминаний. Иные были более плотскими, их можно было в каком-то смысле назвать коллекциями на один вечер, ибо они затрагивали сферы более грубые и физические; так было, к примеру, с цеплялками для маслин. С цеплялкой для маслин жизнь не построишь.
Разумеется, он пытался излечиться, запрещал себе начинать новую коллекцию, пытался постепенно отлучить себя от собирательства; ничто не помогало, это было сильнее его: он влюблялся в какой-нибудь предмет и испытывал непреодолимое стремление коллекционировать подобные. Он читал книги: все они рассказывали о возможности подавить или изгнать вообще свой страх быть покинутым. Некоторые дети, которым родители не уделяют достаточно внимания, начинают коллекционировать, чтобы восстановить душевный покой. Покинутость – как военные времена: боишься, что чего-то не хватит, и начинаешь копить. В Гекторовом случае нельзя сказать, что родители не уделяли ему внимания. Нельзя, впрочем, и утверждать, что он был слишком избалован их вниманием. Нет, их отношение к сыну пребывало где-то на полпути между этими двумя позициями и представляло собой какую-то вечную вялость. Давайте-ка посмотрим.
III
Гектор всегда был хорошим сыном (мы уже видели, и кое-кто даже оценил по достоинству явную негромкость его самоубийства; был даже некий шик в этой попытке якобы уехать в Америку). Это был хороший сын, заботившийся о том, чтобы его родители чувствовали себя счастливыми, и лелеявший у них иллюзию, будто их отпрыск цветет и благоухает. Перед дверью их квартиры Гектор некоторое время полировал свою улыбку. Глаза его были обведены черными кругами. Но когда мать открыла дверь, она увидела сына не таким, каким он был в этот миг, а таким, каким видела его всегда. Если уподобить наши семейные отношения фильмам, которые мы смотрим из первого ряда (не видя ничего), то родители Гектора смотрели свой, вплотную уткнувшись носом в экран. Вот тут-то и можно было бы выявить связь между потребностью коллекционировать и стремлением как угодно грубо заставить воспринимать себя как существо изменяющееся(попросту говоря – живое).
Мы прибережем эту гипотезу на потом.
Мы вообще все гипотезы прибережем на потом.
Такая позиция, состоявшая в том, чтобы не разрушать миф о цветущем и благоухающем сыне, была сопряжена с различными трудностями и требовала тяжелой работы над собой. Производить впечатление счастливого человека едва ли не труднее, чем быть таковым в действительности. Чем шире улыбался Гектор, тем больший покой нисходил на его родителей; они гордились своим столь счастливым и милым сыном. С ним они чувствовали себя точно так же, как с каким-нибудь домашним электроприбором, презревшим все гарантийные сроки и претендующим на вечную жизнь, причем для своих родителей Гектор был прибором не какого-нибудь там, а немецкого производства. И сегодня ему еще труднее, чем обычно: признание в самоубийстве уже готово сорваться с его посиневших губ, и ему хочется хоть на этот раз не разыгрывать комедию, а просто быть сыном своих родителей и плакать вволю такими огромными слезами, чтобы их поток растворил и унес с собой всю боль. Но ничего не поделаешь, и на лице его снова улыбка, за которой, как всегда, надежно прячется правда. Его родители неизменно питали жгучий интерес ко всему, чем увлекался их отпрыск. Впрочем, «жгучесть»была для них явлением мимолетным, чем-то вроде оргазма улыбки. «Как, ты раздобыл еще одну мыльницу? Потрясающе!..» Вот и все. Энтузиазм их был неподдельным (Гектор ни разу не подверг его сомнению), он, однако, напоминал взлет «американской горки» – за ним тотчас следовало стремительное падение в тишину. Нет, это все же не совсем точно: отцу иногда случалось похлопать его по спине, выражая этим гордость за сына. В такие минуты Гектору хотелось его убить, хотя он и сам не понимал почему.
У родителей Гектор ел всегда, даже когда не был голоден (хороший сын). Обед проходил в безмолвии, едва нарушаемом бульканьем супа. Мать Гектора обожала варить суп. Иногда все, что мы переживаем, следовало бы свести к одной-двум деталям. В этой столовой у каждого в ушах неотвязно тикали часы. Звук напольных часов был ужасающе тяжким, а их точность, отражающая точность самого времени, сводила с ума. Визиты к родителям для Гектора прочно ассоциировались с движением маятника, тяжелого от времени, которое им управляло. И еще с клеенкой. Но прежде чем заняться клеенкой, задержимся еще немного на часах. Почему пенсионеры так любят шумные часы? Не способ ли это наслаждаться последними крохами, ощущать, как уходят последние, неспешные мгновения бьющегося сердца? У родителей Гектора можно было прохронометрировать все вплоть до времени, которое им еще оставалось прожить. А клеенка! Просто невероятно, как все эти старики обожают клеенку! Хлебные крошки чувствуют себя на ней замечательно. Гектор любезно улыбался в знак того, что обед был хорош. Его улыбка напоминала препарирование лягушки. Надо было все как следует раздвигать, обладать грубыми привычками и утрировать, как на картине поп-арта. Одна из особенностей поздних детей – отсутствие утонченности, порою даже симпатичное. Матери было сорок два, когда она произвела его на свет, а отцу – под пятьдесят.
В каком-то смысле они перескочили через поколение.
У Гектора был старший брат, старше него на двадцать лет, то есть очень старший брат. Отсюда можно было заключить, что страсть к собирательству их родителям была совершенно не свойственна. Они задумали породить Гектора (что и дало сюжет для этого повествования, а посему поблагодарим их за проявленную инициативу) в тот самый день, когда Эрнест (вышеупомянутый брат) покинул родительский кров. Не больше одного ребенка под данным конкретным кровом, и, не будь этот принцип нарушен климаксом, у Гектора появился(-ась) бы младший(-ая) брат (сестра) по имени Доминик (Доминика). Такое представление о семье считалось оригинальным и как многое, что считается оригинальным, вовсе таковым не было. Мы находимся в довольно скучной сфере, где требуется время, чтобы разобраться в явлениях. Это превосходит все хвалы в адрес неспешности. В упрощенном виде дело выглядит так: Эрнест родился, осчастливил своих родителей, поэтому, когда он улетел из гнезда, они подумали: «А ведь это было неплохо… Не сделать ли нам еще одного?» Именно так все и было, никаких сложностей. Гекторовы родители никогда не сосредоточивались на двух предметах одновременно. Эрнест, проведавший об их намерениях, был просто в шоке – он все свое детство промечтал о братике или сестричке! Это могло бы показаться чистым садизмом со стороны родителей – запустить в производство нового ребенка именно в тот момент, когда Эрнест покидал их кров, но, зная родителей Гектора, заподозрить их в садизме невозможно, это не их жанр.
Раз в неделю Гектор виделся со старшим братом, когда тот приходил есть семейный суп. Вчетвером им было хорошо. За столом царила атмосфера гайдновского квартета, только без музыки. К несчастью, и при брате обед длился не дольше обычного. Эрнест рассказывал о своих делах, и никто не умел задать нужный вопрос, чтобы задержать его еще хоть ненадолго. По части риторического искусства и умения задавать вопросы, способные продлить беседу, семья проявляла определенную бездарность. Мать Гектора, давайте на сей раз назовем ее по имени: Мирей (когда пишешь это имя, создается впечатление, будто мы всегда знали, что ее звали именно Мирей; все, что мы о ней выяснили, ужасно соответствует атмосфере этого имени) не могла удержать слезу всякий раз, когда старший сын уходил. Слеза эта долгое время вызывала у Гектора чувство ревности. Потом он понял, что из-за него не плакали потому, что он жил с родителями и не отлучался надолго: чтобы вызвать слезу, следовало расстаться с ними хотя бы дня на два. Если бы нам удалось подобрать слезу Мирей и взвесить ее, мы узнали бы в точности, когда Эрнест придет в следующий раз, – ну, например, эта слеза тянет на целую неделю! Целая слезища, и в ней, этом пузыре депрессивных жизней, Гектор вновь проецирует себя в настоящее время, в наше время повествовательной неопределенности, дабы оказаться перед страшным разочарованием: теперь, когда он уже взрослый и приходит лакать материнский суп раз в неделю, мать из-за него не плачет. И тотчас эта невесомая слеза превращается в самый тяжеленный груз, который когда-либо ложился на его сердце. Совершенно очевидно: мать больше любит брата. И странным образом, Гектору становится почти хорошо; его нужно понять, ведь впервые в жизни он столкнулся с чем-то очевидным.
Нашему герою отлично известно, что его нынешнее ощущение ложно; следует оценить эту трезвость взгляда. Гамма чувств его родителей чрезвычайно ограниченна. Они всех любят одинаково. Это простейшая любовь, которая равно относится и к мочалке, и к собственному сыну. А этот хороший сын, предполагая себя жертвой не-предпочтения, тем самым пытался приписать своим родителям некие коварные намерения, почти что ненависть. Иной раз он даже мечтал, чтобы отец закатил ему пару оплеух; вызванная ими краснота на коже позволила бы ему ощутить себя живым. Было время, когда он подумывал о том, чтобы спровоцировать реакцию родителей, сделавшись проблемным ребенком, но в конце концов так и не решился. Родители любили его, по-своему конечно, но любили. Вот ему и приходилось любой ценой играть свою роль хорошего сына.
В скобках – об отце Гектора, чтобы понять, почему его жизнь посвящена исключительно усам, а также краткое изложение теории, согласно которой наше общество построено на эксгибиционизме
Время от времени отец вздыхал, и вздохи эти были квинтэссенцией его участия в воспитании сына. В сущности, это было лучше, чем ничего. Отец (да ладно, чего уж там, – Бернар) очень рано отпустил усы. Вопреки тому, что могли бы об этом подумать очень многие, ношение усов для него вовсе не было случайным выбором или проявлением небрежности; нет, его усы были результатом напряженных размышлений и чуть ли не актом пропаганды. Чтобы лучше понять этого Бернара, позволим себе небольшую остановку, просто чтобы передохнуть. Отец Бернара родился в 1908 году и героически погиб в 1940-м. Слово «героически» подобно широкому плащу, под который можно запихать что угодно. Немцы еще не начали наступление, линия Мажино была еще девственно нетронутой, и отец Бернара находился со своим полком на постое в маленькой деревушке на востоке страны. В этой деревушке жила женщина весом в сто пятьдесят два кило, которая рассчитывала воспользоваться пребыванием полка в тех краях. Если обычно мужчины ею не интересовались, то во время войны, при вынужденном воздержании, у нее вполне были шансы на успех, и притом немалые. Короче говоря, отец Бернара решил взобраться на эту гору; там, в простынях, он пренебрег опасностью, и в положении, весь ужас которого мы не смеем даже вообразить, с ним случилось то, что обычно именуется удушьем. Историю эту – тс-с! – семье сообщать не стали, затушевав ее словом «героически». Его сыну было всего десять лет. Бернар был воспитан в атмосфере культа своего героического отца и спал под его портретом, который висел на месте образа Девы Марии. Ежевечерне и ежеутренне он благословлял это лицо, которое заморозила смерть, лицо, где в образе столь пышных усов была явлена сама жизнь. Нам неизвестно, в какой именно момент у Бернара произошел сдвиг в мозгах, в результате которого он оказался на всю жизнь ушибленным отцовскими усами. Он вознес молитву о ниспослании ему растительности на лицо и счел свои первые щетинки священными. Когда же лицу его была оказана честь принять достойные усы, Бернар почувствовал, что стал мужчиной, стал собственным отцом, стал героем. С годами он позволил себе расслабиться и уже не возмущался, обнаруживая пустыри над губами своих сыновей; каждый проживал растительно-лицевую жизнь по собственному усмотрению. Бернар полагал, что в наши дни все мужчины лишились растительности на лице и виной тому уловки современного общества. Он любил повторять, что мы живем в самую неусатую эпоху, какая только может быть.«Наше общество сбривает волосы, это же чистый эксгибиционизм!» – восклицал он. И тотчас после этих словесных всплесков возвращался к своим потаенным мыслям, в которых царила пустота.
В годы своего малопрыщавого отрочества Гектор регулярно навещал старшего брата. Он искал у него совета, пытаясь лучше понять родителей. Эрнест говорил, что утвержденной инструкции не существует, если не считать умения делать вид, будто обожаешь мамин суп. Следовало даже без колебаний позволять себе вторгаться в малопочтенную область подхалимажа и очковтирательства в тех случаях, когда хотелось отправиться в гости к приятелю с ночевкой («пожалуй, мамочка, я возьму термос с твоим супом!»). Но у Гектора не было приятелей; по крайней мере таких, к которым хотелось бы завалиться с ночевкой. Его общение с товарищами в основном сводилось к обмену игральными картами на школьном дворе во время переменок. Ему едва минуло восемь, а за ним уже установилась грозная репутация коллекционера. Итак, Гектор просил советов у брата, и вскоре брат стал его референтом по жизни. Не то чтобы он хотел быть похожим на брата, но было похоже на то. Точнее, он смотрел на жизнь брата, говоря себе, что его собственная будет, возможно, такой же. Вся штука была в этом «возможно», ибо будущее представлялось ему весьма неотчетливым, оно было как фотоснимок папарацци, сделанный тайком и второпях.
Высокий и сухощавый Эрнест женился на маленькой, рыженькой и весьма аппетитной девушке. Гектору было тринадцать, когда он впервые увидел невесту своего брата, и он даже на мгновение возмечтал, чтобы та взяла на себя его половое воспитание. Он забывал, что наши жизни уподобились романам XX века; иными словами, времена эпических лишений невинности, свойственных XIX столетию, канули в прошлое. До самого дня их свадьбы он неумеренно предавался мастурбации с мыслями о Жюстине. В самом же понятии семьи было нечто священное. Вскоре Жюстина произвела на свет маленькую Люси. Пока родители работали, Гектор часто ходил присматривать за малышкой и играл с ней в куклы. У него не укладывалось в голове, что он кому-то доводится дядей. И во взгляде ребенка он ловил ощущение, что живет какой-то не совсем нормальной жизнью: столкнувшись с невинностью, мы сталкиваемся с той жизнью, которую не проживаем.








