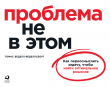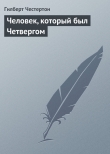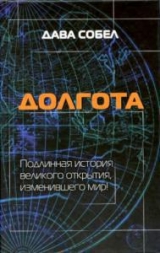
Текст книги "Долгота"
Автор книги: Дава Собел
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
9.
Стрелки небесных часов
Для навигаторов восемнадцатого века подвижный месяц засиял наконец стрелкой небесных часов. Циферблатом служило всё огромное небо, его делениями – Солнце, планеты и звёзды.
Впрочем, чтобы прочесть время по этим часам, моряку мало просто взглянуть на небо – требовались сложные наблюдательные приборы и многочисленные замеры, которые для точности повторялись до семи раз кряду, а также логарифмические таблицы, составленные для навигаторов математиками. На определение времени по небесным часам уходило примерно четыре часа – в хорошую погоду. В ненастье тучи затягивали и стрелки, и циферблат.
Небесные часы стали главным соперником Джона Гаррисона: метод лунных расстояний, основанный на движении Луны, был единственной разумной альтернативой его морскому хронометру. По удивительному совпадению Гаррисон сделал свои часы именно тогда, когда у астрономов появились наконец теории, инструменты и атласы, чтобы прочесть долготу на небе.
В гонке за долготой, где никто столетиями не мог продвинуться и на шаг, внезапно вырвались вперёд два фаворита и теперь шли ноздря в ноздрю. В тридцатые – шестидесятые годы оба метода развивались параллельно. Гаррисон, как всегда в одиночку, пробирался через лабиринт часового механизма, его противники – профессора астрономии и математики – сулили навигаторам и парламенту луну с неба.
В 1731 -м, в тот же год, когда Гаррисон составил описание H-1, два изобретателя – один англичанин, другой американец – создали инструмент, требовавшийся для метода лунных расстояний. История науки признаёт равные заслуги Джона Гадлея, сельского помещика, впервые продемонстрировавшего этот прибор Королевскому обществу, и Томаса Годфри, стекольщика из Филадельфии, которого независимо осенила та же самая мысль. (Позже выяснилось, что сэр Исаак Ньютон оставил чертёж почти идентичного инструмента, но после смерти учёного описание затерялось в кипе бумаг, оставленных Эдмунду Галлею. Сам Галлей, а до него Гук, тоже набрасывал схему подобного устройства.)
Вполне естественно, что британские моряки окрестили инструмент квадрантом Гадлея (а не квадрантом Годфри). Называли его и октант, из-за шкалы, составляющей восьмую часть круга, или отражательный квадрант – из-за системы зеркал. Под тем или иным названием прибор помогал мореходам находить широту и долготу.
Старые инструменты, от астролябии до градштока и квадранта Дейвиса, веками использовались для определения широты и локального времени по высоте Солнца и некоторых звёзд над горизонтом. Благодаря трюку с двумя зеркалами новый отражательный квадрант позволил напрямую определять высоту двух небесных тел сразу и расстояние между ними. Даже в сильную качку объекты в поле зрения наблюдателя неподвижны друг относительно друга. Вдобавок квадрант Гадлея обеспечивает свой собственный неподвижный горизонт на случай, если настоящий будет закрыт тучами. Этот прибор довольно быстро эволюционировал в ещё более удобное устройство – секстант (моряки обычно называют его «секстан»), включающий в себя подзорную трубу и увеличенный лимб. Все эти усовершенствования позволили точно определять расстояние от Луны до Солнца в дневное время и до звёзд ночью.
Теперь, располагая подробными звёздными каталогами и точными инструментами, хороший навигатор мог встать на палубу и определить лунные расстояния. (Вообще-то многие делали это сидя, для большей аккуратности, а самые старательные даже ложились на спину.) После этого он сверялся с таблицами, где указывались угловые расстояния от Луны до различных небесных тел на определённый час по лондонскому или парижскому времени. (Как явствует из названия, угловое расстояние меряется в градусах: оно соответствует углу между направлениями на два интересующих нас объекта.) Затем навигатор сопоставлял время, когда видел Луну в тридцати градусах, скажем, от звезды Регул в созвездии Льва, со временем в таблице. Пусть, например, он провёл замер в час ночи по локальному времени, а таблица сообщает, что в Лондоне такое расстояние наблюдалось в четыре утра: значит, корабельное время отстает от лондонского на три часа, и корабль находится на 45 градусах западной долготы (считая от лондонского меридиана).
«Покурим?» – спрашивало наглое Солнце в газетной карикатуре на метод лунных расстояний. «Держись на расстоянии, наглец!» – отвечала ему кокетливая Луна.
Успех квадранту Гадлея обеспечили астрономы, закрепившие координаты неподвижных звёзд на циферблате небесных часов. Один только Флемстид отдал картированию небес больше сорока человеко-лет. В качестве первого королевского астронома он провёл тридцать тысяч тщательно задокументированных наблюдений при помощи телескопов, которые изготовил собственными руками или купил за свой счёт. В окончательном каталоге Флемстида было в три раза больше звёзд, чем в атласе Тихо Браге, а точность определения их координат возросла на несколько порядков.
Из Гринвича Флемстид видел лишь часть звёздного неба, поэтому очень обрадовался, когда в 1676 году, сразу после создания Королевской обсерватории, неугомонный Галлей отправился в Южную Атлантику. Там, на острове Святой Елены, Галлей организовал мини-Гринвич. Географически точка была выбрана удачно, да только атмосфера подкачала: Галлей насчитал сквозь дымку лишь триста сорок одну новую звезду. Тем не менее и это было огромным достижением; не зря Галлея прозвали «южным Тихо».
В 1720 году он возглавил Королевскую обсерваторию и следующие двадцать с лишним лет посвятил наблюдениям за Луной: ведь картирование небес было лишь прелюдией к главной задаче – отметить маршрут ночного светила на поле недвижных звёзд.
Луна движется вокруг Земли по неравномерной эллиптической орбите, так что расстояние от неё до нашей планеты постоянно меняется. Кроме того, плоскость лунной орбиты поворачивается с периодом восемнадцать лет и несколько суток, так что для минимально точного расчёта её позиции нужны данные наблюдений за восемнадцать лет.
Галлей не только наблюдал за Луной днём и ночью, чтобы выявить причуды её движения, он ещё и проштудировал древние записи о затмениях, чтобы заглянуть в прошлое. Для будущих навигационных таблиц требовались любые данные о лунной орбите. Из этих источников Галлей вывел, что Луна в своём обращении вокруг Земли ускоряется со временем. (Сегодня учёные знают, что не Луна убыстряется, а вращение Земли замедляется из-за приливного трения; однако насчёт изменения относительной скорости Галлей оказался прав.)
Ещё до того как заступить на пост королевского астронома, Галлей предсказал возвращение кометы, обессмертившей его имя. Также он заметил, в 1718 году, что три самые яркие звезды на небе изменили своё положение с тех пор, как более двух тысячелетий назад китайцы и греки впервые определили их координаты, и чуть-чуть сместились даже со времен атласа Тихо Браге – всего за столетие с небольшим. Открытие собственного движения звёзд стало одним из величайших достижений Галлея, тем не менее он заверил мореходов, что на точность небесных часов оно не влияет – уж очень медленно происходят перемены.
В восемьдесят три года всё ещё здоровый и крепкий Галлей собрался передать свой пост Джеймсу Брадлею, но король (Георг III) не пожелал о таком и слышать. Будущему третьему королевскому астроному пришлось ждать ещё два года: Галлей скончался в январе 1742 года. Перемены в руководстве обсерватории крайне негативно сказались на судьбе Джона Гаррисона. Он утратил влиятельного покровителя; преемник Галлея, хоть и одобрил морской хронометр в 1735 году, не признавал ничего, кроме астрономии.
Брадлей в самом начале научной карьеры попытался измерить расстояние до звёзд. Правда, верного результата он так и не получил, зато при помощи двадцатичетырёхфутового телескопа впервые опытным путём доказал, что Земля и впрямь движется в космическом пространстве. Попутно он вычислил скорость света, уточнив прежние результаты Рёмера, определил огромные размеры Юпитера и заметил колебания в наклоне земной оси, которые совершенно верно объяснил лунным притяжением.
Королевский астроном Брадлей, как до него Флемстид и Галлей, главной своей задачей считал усовершенствование навигации. Он превзошёл самого Флемстида и дотошностью в составлении звёздных карт, и самоотречением: когда король предложил повысить ему жалованье, астроном отказался.
Парижская обсерватория тем временем не отставала от Гринвичской. Астроном Никола Луи де Лакайль продолжил дело Галлея: в 1750 году он отправился к мысу Доброй Надежды и составил каталог почти двух тысяч звёзд южного неба. По праву первопроходца он дал имена открытым созвездиям, назвав их в честь божеств современного пантеона: Микроскоп, Телескоп, Секстант и Часы.
Так астрономы кирпичик за кирпичиком возводили один из столпов метода лунных расстояний: они изучали орбиту Луны и картировали звёздное небо. Второй столп воздвигли изобретатели, создав инструменты для замера угловых расстояний. Недоставало лишь третьего столпа: таблиц, чтобы перевести результат измерений в градусы и минуты долготы. И эта часть задачи – составление лунных эфемерид – оказалась самой сложной. Луна упорно не давалась в руки астрономам.
Вот почему Брадлей с большим интересом взялся за лунные таблицы, составленные немецким картографом Тобиасом Майером. Майер считал, что разрешил проблему долготы, а значит, может претендовать на премию, поэтому отправил свои таблицы, вместе с измерительным прибором собственного изобретения, первому лорду Адмиралтейства Джорджу Ансону (тому самому Джорджу Ансону, который в 1741 году огибал на «Центурионе» мыс Горн по пути к островам Хуан-Фернандес). Адмирал лорд Ансон, член Комиссии по долготе, отправил таблицы Брадлею, чтобы тот высказал своё учёное мнение.
Майер работал в Нюрнберге: определял точные координаты объектов для картографического бюро Гоманна. Для вычисления долготы он использовал, помимо прочего, затмения Луны и покрытие звёзд Луной (так называется исчезновение звезды за диском нашего спутника). Майер хоть и картировал сушу, своё положение во времени и пространстве определял, как моряк, глядя на небеса. И ради собственных целей создал то, что могло разрешить проблему долготы: составил первые таблицы, в которых указывалось положение ночного светила. В этом Майеру очень помогла четырёхлетняя переписка со швейцарским математиком Леонардом Эйлером, который свёл относительное движение Солнца, Земли, Луны и звёзд к серии изящных уравнений.
Брадлей сравнил результаты Майера с собственными записями и был поражён: Майер ни разу не ошибся больше чем на полторы дуговые минуты. А значит, таблицы позволят определять долготу с точностью до полуградуса – именно такое условие ставил Акт о долготе. Брадлей немедленно рекомендовал опробовать их в море. Испытания провёл капитан Кемпбелл на корабле «Эссекс» в 1757 году и продолжил их на следующий год у берегов Бретани, несмотря на Семилетнюю войну. Метод лунных расстояний должен был вот-вот оправдать возлагаемые на него надежды. Когда в 1762 году тридцатидевятилетний Майер скончался от инфекции, комиссия выделила его вдове три тысячи фунтов в признание заслуг покойного. Ещё триста фунтов получил Эйлер за основополагающие теоремы.
Так разные люди по всему миру вносили каждый свою лепту в общее дело: создание метода лунных расстояний. Неудивительно, что и сам метод обрёл в их глазах вселенское значение.
Даже самая сложность прибавляла ему солидности. Мало было замерить высоту нескольких небесных тел и угловое расстояние между ними; требовалось ещё учесть высоту над горизонтом и внести поправку на рефракцию. Дальше навигатор вступал в борьбу с проблемой лунного параллакса, поскольку таблицы были составлены для наблюдателя в центре Земли, корабль же двигался на уровне моря, а штурман на шканцах стоял ещё футами двадцатью выше. Каждый дополнительный фактор требовал и дополнительных вычислений. Человек, который проделал все эти неимоверно сложные операции на палубе кренящегося корабля, мог с полным основанием гордиться собой.
Для астрономов и адмиралов, входящих в Комиссию по долготе, героический метод лунных расстояний был закономерным итогом всего их жизненного опыта. Они поддерживали его с самого начала, и теперь, к 1750-м годам, совместными усилиями множества людей крупномасштабный международный проект обещал вот-вот принести плоды.
А что предлагал взамен Джон Гаррисон? Тикающую коробочку!
Хуже того, в часах Гаррисона всё сложности определения долготы брал на себя механизм. Мореходу не надо было учить математику и астрономию, набивать руку в измерениях и расчётах. Для учёных и навигаторов, привыкших определять путь по небесным светилам, это было как-то не вполне достойно. Чересчур легко, а значит, и ненадёжно. В былые времена Гаррисона с его волшебной гадательной шкатулкой могли бы обвинить в колдовстве. В просвещённую эпоху он встал поперёк дороги всему научному сообществу. Гаррисон сам загнал себя в это положение чрезмерной требовательностью к себе, а скепсис оппонентов довершил дело. Вместо ожидаемых лавров ему предстояли долгие мытарства. Они начались в 1759 году, когда Гаррисон наконец завершил свой шедевр – морской хронометр H-4.
10.
Алмазная точность
Рим не сразу строился, гласит пословица. На возведение одной только Сикстинской капеллы – крохотной части Рима – потребовалось восемь лет, ещё одиннадцать – на внутреннюю отделку; с 1508 по 1512 год Микеланджело, лёжа на лесах, покрывал её потолок сценами из Ветхого Завета. От первых эскизов статуи Свободы до её отливки прошло четырнадцать лет. Столько же высекали монумент на горе Рашмор. Суэцкий и Панамский каналы рыли десять лет; примерно такой же срок отделяет решение отправить человека на Луну от посадки лунного модуля корабля «Аполлон».
Джону Гаррисону, чтобы собрать H-3, понадобилось девятнадцать лет.
Историки и биографы не могут понять, почему Гаррисон – который практически без всякого опыта изготовил башенные часы всего за два года и за девять лет смастерил два революционных морских хронометра – столько провозился с H-3. Гипотеза, будто трудоголик Гаррисон просто отлынивал от дела, не рассматривается. Напротив, есть свидетельства, что он целиком посвятил себя H-3 в ущерб семейному бюджету. Изредка он, правда, брался за обычные заказы, чтобы свести концы с концами, но все его задокументированные доходы того времени получены от Комиссии по долготе – она неоднократно переносила срок окончательной сдачи часов и пять раз выплачивала Гаррисону по пятьсот фунтов.
Королевское общество, созданное веком раньше как престижное объединение учёных, все эти годы поддерживало изобретателя, насколько могло. Его друг Джордж Грэм и другие почитатели из числа членов Общества убедили Гаррисона оторваться от верстака и принять золотую медаль Копли. Это произошло 30 ноября 1749 года. (Позже медаль Копли присуждалась Бенджамину Франклину, Генри Кавендишу, Джозефу Пристли, капитану Джеймсу Куку и другим выдающимся учёным.)
За наградой последовало и лестное предложение стать членом Общества, однако Гаррисон объявил, что уступает эту честь сыну. Он должен был понимать, что членство в Обществе даётся за научные заслуги и не переходит к родственникам, даже ближайшим, как права на дом или на землю. Тем не менее в 1755 году Уильям был избран в Королевское общество.
В сыне Гаррисон обрёл верного помощника на всю жизнь. Когда начиналась работа над морскими часами, Уильям был ещё ребёнком. Он взрослел и мужал в обществе H-3. Уильям Гаррисон вместе с отцом трудился над хронометрами до сорока пяти лет, сопровождал их в опасных морских испытаниях, поддерживал стареющего родителя в спорах с Комиссией по долготе.
Что до трудностей с H-3, для которого пришлось изготовить семьсот пятьдесят три отдельные детали, Гаррисоны на них не сетовали: не проклинали часы, отнявшие у обоих столько лет жизни. В воспоминаниях о главных вехах своей карьеры Джон Гаррисон отозвался об H-3 с благодарностью и теплотой: «...работая над третьим механизмом... я открыл много чрезвычайно важного и полезного, чего не узнал бы без этого... и что вполне оправдывает всё время и средства, затраченные на мой удивительный третий механизм».
Одно из новшеств, применённых Гаррисоном в H-3, по-прежнему используется в наши дни в термостатах и других приборах и называется, довольно прозаически, биметаллической пластиной. Она, как решётчатый маятник, только лучше, мгновенно компенсирует любые перепады температуры, способные замедлить или ускорить часы. В первых двух хронометрах Гаррисон отказался от маятников, но по-прежнему использовал решётки из латунных и стальных стержней, чтобы смена холода и тепла не влияла на балансы, а значит, и на точность хода. В H-3 он для той же цели применил куда более простое биметаллическое устройство, склёпанное из медных и стальных пластин.
Новая антифрикционная деталь, придуманная Гаррисоном для H-3, тоже дожила до наших дней: в шарикоподшипниках, без которых не обходится сейчас практически ни одна машина с движущимися деталями.
H-3 весил куда меньше своих предшественников – всего шестьдесят три фунта, на пятнадцать фунтов меньше, чем H-1, на двадцать шесть – чем H-2. Стержневые балансы с пятифунтовыми латунными шарами на концах исчезли – их заменили два кольцевых баланса, расположенные один над другим и связанные металлическими полосками.
Гаррисон стремился к компактности, памятуя, как тесно в капитанских каютах. Он не мечтал уместить морской хронометр в капитанском кармане, поскольку все знали: карманные часы никогда не дадут нужной точности. H-3, завершённый к 1757 году, имел два фута в высоту и фут в ширину – дальше уменьшать морские часы было некуда. Гаррисон был не вполне доволен своим изделием, тем не менее счёл размеры H-3 вполне мореходными.
Его взгляды изменило случайное стечение обстоятельств (если вы верите в случайность). В ходе работы над хронометрами Гаррисон познакомился с многими лондонскими ремесленниками, у которых заказывал отдельные детали. Один из них, Джон Джефрис, член гильдии часовщиков, в 1753 году изготовил Гаррисону карманные часы для личного пользования. Он явно следовал указаниям заказчика, ибо снабдил их тонкой биметаллической полоской для компенсации температурных перепадов. Другие часы того времени замедлялись или ускорялись с коэффициентом десять секунд на один градус Фаренгейта. Кроме того, они останавливались или шли назад при заводе, эти же сохраняли ход за счёт двойного храпового механизма.
Многие учёные называют изделие Джефриса первыми точными карманными часами. Всё в них говорит о Гаррисоне, хотя на крышке стоит одно имя – «Джефрис». (То, что они существуют по сей день и хранятся в Музее часовщиков, воистину чудо: часы десять дней пролежали под развалинами ювелирного магазина, разрушенного немецкой бомбой во время Битвы за Британию.)
Часы оказались на удивление надёжными. Потомки Гаррисона вспоминали, что он всегда носил их в кармане. Видимо, он постоянно носил их и в мыслях. В июне 1755 года, объясняя комиссии очередную задержку с H-3, Гаррисон упомянул часы Джефриса. Протокол заседания так излагает его слова: «Мистер Гаррисон имеет основания полагать... на основании часов, изготовленных к настоящему времени по его указаниям... что таковые миниатюрные механизмы... могут быть весьма полезны».
Хронометр H-4, законченный Гаррисоном в 1759 году – тот самый, что принёс ему долгожданную награду, – куда больше походит на часы Джефриса, чем на своих законных предков – H-1, H-2 и H-3.
В их череде он является неожиданно, как кролик из шляпы фокусников. В карман не засунешь – всё-таки пять дюймов в диаметре, но по сравнению с громоздкими предшественниками – настоящая кроха и весит только три фунта. Он заключен в двойной серебряный корпус, на изящной белой эмали циферблата четырежды повторён чёрный графический мотив из плодов и листьев. Орнамент обрамляет цифры – римские для часов, арабские для секунд; три стрелки воронёной стали безукоризненно указывают точное время. Эти часы (и даже Часы с большой буквы, как их вскоре стали называть) воплощают в себе элегантность и пунктуальность.
Свои чувства к ним Гаррисон выразил яснее, чем какую-либо другую мысль в жизни: «Думаю, что возьму на себя смелость сказать: нет ни одного механического или математического предмета, более красивого и более замечательного по устройству, чем мои часы для определения долготы... и от всей души благодарю Всемогущего Бога, что дожил до того, чтобы их в какой-то степени завершить».
Детали внутри этого чуда ещё поразительнее внешнего вида. Сразу за серебряным корпусом находится резная пластина, скрывающая механизм за густым лесом резных и гравированных завитушек. Снизу вдоль её периметра идёт надпись: «Джон Гаррисон и сын, A.D.1759». А под пластиной, среди вращающихся шестерён, алмазы и рубины борются с трением. Эти искусно обработанные драгоценные камни берут на себя работу, которую в предыдущих часах Гаррисона выполняли антифрикционные шестерни и механические кузнечики.
Как и почему он ввёл в механизм драгоценные камни – одна из самых волнующих загадок H-4. В его описании часов сказано просто: «палеты алмазные». Никаких объяснений, почему он выбрал именно этот материал и как придал камням нужную форму. Даже в отчётах бесчисленных комиссий часовщиков, препарировавших часы по требованию комиссии, не зафиксировано вопросов или обсуждений касательно алмазных деталей.
Сейчас H-4 покоится в витрине Национального морского музея и привлекает миллионы посетителей в год. Обычно туристы подходят к номеру четвёртому после того, как уже осмотрели H-1, H-2 и H-3. Большие морские часы равно завораживают детей и взрослых.
Экскурсанты качают головой в такт балансам H-1 и H-2, движущимся, как метроном. Дышат в ритме тиканья, ахают, когда внезапно поворачивается лопасть в основании H-2.
Однако перед витриной с H-4 все замирают. Вот логическое завершение многолетних трудов и раздумий – но какое неожиданное! Более того, хронометр стоит, являя разительный контраст трём своим предшественникам. Механизм полностью скрыт корпусом, стрелки застыли во времени: не движется даже секундная. H-4 не идёт.
Он мог бы идти, если бы разрешили сотрудники музея, однако они не разрешают: H-4, как священная реликвия или бесценное произведение искусства, должен сохраниться для будущих поколений. Заставить хронометр идти – значит его уничтожить.
После завода H-4 идёт тридцать часов. Другими словами, его надо заводить ежедневно, как H-1, H-2 и H-3, но если им это не вредит, то H-4, справедливо называемый самым важным хронометром в истории, молча, но красноречиво свидетельствует о том уроне, который нанесло ему человеческое вмешательство. Ещё пятьдесят лет назад он лежал на подушке в своём собственном футляре, вместе с ключом для заводки. И футляр, и ключ утрачены из-за того, что H-4 перевозили с места на место, выставляли в различных музеях, заводили, чистили, перевозили снова. Даже урок с утраченным футляром никого ничему не научил: в 1763 году H-4 отправили за океан на выставку в Военно-морской обсерватории Вашингтона.
Первым трём механизмам Гаррисона, как и его башенным часам в Броксли-парке, ежедневный завод не страшен благодаря тому, что в них практически отсутствует трение. Гаррисон сумел устранить его за счёт выбора материалов и пионерской конструкции деталей. Но даже Гаррисон не мог уменьшить антифрикционные шестерни и роликовые подшипники настолько, чтобы втиснуть их в H-4. И поэтому номер четвёртый требует смазки.
Смазку в часах надо регулярно менять (и здесь со дней Гаррисона ничто не изменилось). Она постепенно густеет и впитывается, становясь помехой движению и грозя испортить механизм. Чтобы хронометр H-4 шёл, музейные хранители должны были бы чистить его каждые три года, а для этого часы надо полностью разобрать – с неизбежным риском попортить миниатюрные детали.
И это не единственная причина. Трущиеся детали, даже если их смазывать, постепенно стачиваются, и тогда их надо заменять. Музейные работники прикинули, что в таком случае лет через триста – четыреста в H-4 мало бы что осталось от оригинальной работы Гаррисона. В нынешнем замороженном состоянии он может прожить века, если не тысячелетия – достойное будущее для хронометра, который называют «Моной Лизой» и «Ночным дозором» часового искусства.