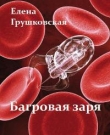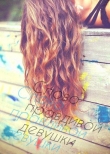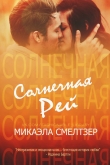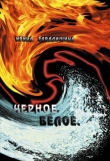Текст книги "Заговор"
Автор книги: Даниил Гранин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
Нашему командованию тогда в голову не приходило, какая неразбериха может быть у немцев. Мы знали, что они имели тщательно разработанные планы операций, все у них рассчитано наперед по часам. А тут вся эта слаженная машина заскрежетала, забуксовала, стала сбиваться с курса.
Для меня отрывались неожиданные вещи. Военные дневники Лееба и Гальдера, несмотря на их суховатость, создавали удивительные чувство, оно позволяло видеть одновременно то, что творилось по обе стороны фронта, открылись замыслы противника, его метания, его маневры, резервы. Если бы подобное знать в то первое лето войны, если бы знали наши командиры про неразбериху в немецком Генштабе. Как у начальника Генштаба Гальдера и командира группы «Север» Лееба росло взаимное раздражение, как Гальдер стремился отобрать танковые части в группе «Центр» для наступления на Москву, как фон Лееб противился этому, ему нужно было захватить Ленинград. Прежняя их дружба разрушилась, они стали расходиться.
В середине августа Гитлер решил стереть Ленинград с лица земли. Бомбежка, артиллерийский обстрел, любыми способами. Ему подсчитывают, что для этого нужно девять эшелонов только для мортир, восемь эшелонов для тяжелых гаубиц. Это невыполнимо. Гальдер открыто возмущается: «Из-за вмешательства фюрера положение становится нетерпимым».
23 августа 1941 года наконец появилось в военных дневниках фон Лееба наше ополчение: «…мучительная борьба с противником». Это на Лужском рубеже, это мы за него зацепились: «Из-за того, что враг оказывает ожесточенное сопротивление, вводя в бой все свои наличные силы, имея явное намерение остановить 18-ю армию, ее продвижение идет совсем медленно». Это снова мы! Это наше ожесточенное сопротивление, мы на Лужском рубеже!
Кода Лужский рубеж пал, немцы занимают Павловск, Пушкин, подступают вплотную к городу, все это известно, неизвестно мне было, что там творилось у немцев. А их сжигало нетерпение, намеченные сроки взятия города не сбывались, офицеры в частях спрашивают: «Что будем делать с населением, когда город сдастся?» Для них капитуляция бесспорна.
Началась блокада. Сентябрь, октябрь… Немцы узнают, что в городе начинается нехватка продуктов. И вот уже подступает голод. «А что, если голодные люди будут пытаться выйти из города? – допытываются офицеры. – Выпускать население?» Приказано: «Ни в коем случае!» «Что же делать – стрелять в женщин, детей?» Но генералы предупреждают Берлин – это «может отразиться на нервной системе солдат». Такие опасения появляются во всех частях. «Немецкий солдат потеряет внутреннее самообладание». Ответов нет. Командование не находит приемлемого решения. Генерал Лееб полон озабоченности, по шоссе из Пскова движется поток беженцев. Голодные люди гибнут в пути. «Это негативно действует на немецких солдат, занятых на дорожных работах», – отмечается в штабных дневниках. А тут еще немецкие листовки и радио призывают противника переходить к немцам. Ежедневно переходят по 100–150 солдат, их надо кормить. Это невозможно, отмечает Лееб. Командование добивается капитуляции и не знает, что делать, если она произойдет.
Читая перипетии военных будней противника, видишь, как много сходства с тем, что творилось в наших штабах. Сравнение это было интересно, при этом куда-то терялось чувство вражды. Слишком много общего открывалось и в солдатской жизни, и в офицерской. Как будто передо мой разыгрывалась шахматная партия, не важно было – кто за черных, кто за белых, интерес сместился на ход поединка. А я на нейтралке между окопами. Комбинации разыгрывались и там и тут, и там и тут звучали голоса командиров: «Ни шагу назад!», «Стоять до последнего!» Они повторяли друг друга буквально, фон Лeeб пытался сберечь своих солдат, но Гитлер не думал о потерях, требовал: «Держаться любой ценой!»
Несмотря на расхождения между Леебом и Гальдером, несмотря на то, что Гальдеру в конце концов удалось склонить Гитлера и взятие Ленинграда отодвинулось на второй план, а главным стало взять Москву, несмотря на это, еще любопытнее мне было, как обострялись отношения военных специалистов Гальдера и фон Лееба с главнокомандующим Адольфом Гитлером. Они вынуждены были исполнять его приказы, но пришел момент, когда вздорность Гитлера и то, что он требовал, настолько настолько становились несовместимыми с профессиональными знаниями фельдмаршала и начальника штаба, что это стало затрагивать их честь, и дальше подчиняться приказам Гитлера они не могли.
В январе 1942-го фельдмаршал фон Лееб подал в отставку. Гитлер не хотел его отпускать, но Лееб настоял на своем. Он не мог простить себе неудачной операции, связанной с Тихвином. Сказалось еще растущее возмущение непостоянством решений Гитлера, какой-то его умственный сумбур. Удалиться в разгар войны «с поля боя» прославленному генералу не так-то просто, но затронута была его профессиональная честь, и более не хотелось исполнять то, с чем он был не согласен. Ничего похожего на поведение наших военачальников. Вроде никто из них по причине несогласия с начальством в отставку не подавал. Это их отправляли в отставку.
В сущности, оба – и Гитлер и Сталин, если сравнивать главнокомандующих, оба были дилетанты, оба в своих решениях не утруждали себя мотивировками, оба не заботились о потерях. Гитлера боялись, но Сталина куда больше, страх перед ним исключал свободное обсуждение военных решений.
Легкая победная война в Европе укрепила самоуверенность Гитлера. Породила великолепное настроение среди генералитета вермахта.
Однако уже через месяц у Лееба появилось уважение к противнику: «Русские сопротивляются отчаянно, с гранатой идут на танки». План блицкрига все чаще нарушается. К концу июля 1941 года Гальдер понимает, что наступление следует сосредоточить только на Москве.
Когда Гитлер был на вершине власти, генералы считали, что план вторжения в Россию гениален. К началу августа они стали считать, что план плохо исполняется, а еще через пару месяцев они почувствовали себя умнее Гитлера. Оказалось, что открыть второй фронт: напасть на Россию – не такое легкое дело. Они оккупировали четырнадцать европейских стран. К 1941 году слава Гитлера утвердилась: «Величайший в мире полководец». И уверенные в этом его генералы без возражений отправились в Россию.
На самом деле Гитлер был негодный психолог. Как военный он еще что-то мог, но он не понимал, что советско-финская война не пример, для русского солдата она была не понятна, финны на Россию не нападали, с чего ж на них ополчились? С немцами было другое – это они напали на Россию, целовались-обнимались, а уехав из Москвы, тут же подняли самолеты бомбить Россию. Так поступать нельзя, Россия была пятнадцатой страной для Гитлера, но первой страной, с которой началась совсем другая война.
Ключевую роль в плане «Барбаросса» играл Ленинград. Что такое этот город, они представляют плохо, считали, например, что в Ленинграде полтора-два миллиона жителей, на самом деле там было намного больше, а с учетом беженцев из пригородов тем более. Гитлер требует взорвать этот город, не представляя, что это то же самое, что взорвать Альпы.
В конце июля Гальдер опять пробует убедить фюрера, что основной удар надо сосредоточить не на Ленинграде, а на Москве. Но Москва Гитлера не интересует, все его внимание направлено к Ленинграду, Гальдер продолжает настаивать. На тридцать пятый день войны Гальдеру удается переубедить Гитлера, решено город не захватывать, а лишь окружить. Но через несколько дней Гитлер возвращается к своему плану – сперва Ленинград. Что-то его влечет к этой цели. Приказывает направить на Ленинград еще один авиакорпус.
Вот почему так участились бомбежки города. С тяжелым урчанием пролетали над нашими окопами бомбардировщики. В бессильной злобе мы палили по ним из всех винтовок. Они плыли, не обращая внимания на нашу стрельбу, и вскоре со стороны города начинался частый стук зениток, а затем доносилось глухое уханье бомбежки. Иногда к нам доходило содрогание земли.
Судьба ни одного города не вызывала столько споров, как военная судьба Ленинграда.
В тот же знойный день, 30 июля 1941 года, в Кремле Жуков пытался убедить Сталина сдать без боя Киев и увести войска Юго-Западного фронта. Сталин назвал этот план чепухой и тут же снял его с должности начальника Генерального штаба. Сталин не позволял никому оспаривать свое мнение. То и дело подвертывалось сопоставление обоих главнокомандующих, их поведение порой совпадало до странности, но и расходилось поучительно.
Военные дневники немцев почти ничего не говорят о солдатской жизни, о происшествиях. Только иногда проскакивает что-то неожиданное. Так, например, в начале августа 1941 года упоминается, что группа советских танков с экипажами перешла на сторону немцев. Ничего подобного я не слыхал. Зато тут же Гальдер признается, что план блицкрига сорван, в ротах осталось всего сорок-пятьдесят солдат, русские, оказывается, сопротивляются отчаянно. Это лучшая похвала нам. Удивительно, как спустя десятилетия оживает прежнее солдатское чувство.
Жизнь моя – дуновение, повторяю я слова Иова, и она не возвратится, как не может возвратиться назад облако, листок дерева.
* * *
Вдруг где-то в глубине памяти послышалась песня:
Зачем-зачем вы слово дали,
Когда не можете любить.
Наверно, вы про то не знали,
Что я могу себя сгубить.
Это когда-то пела мама. Я услышал ее высокий нежный голос, память вдруг, спустя восемьдесят лет, почему-то вытолкнула на поверхность и этот романс, и мелодию, а главное, ее саму, поющую…
* * *
Легкой жизни я просил у Бога:
Посмотри, как тягостно кругом.
Бог ответил: подожди немного,
Ты меня попросишь о другом.
Вот и дожил, не длинна дорога,
Тяжелее груз и тоньше нить.
Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить.
Лишь недавно узнал, что автор – Иван Тхоржевский, эмигрант. Правда приведенная редакция слегка отличается от напечатанной в книге И. И. Тхоржевского «Последний Петербург», изданной у нас в 1999 году его племянником, писателем Сергеем Тхоржевским.
* * *
Выросло поколение, которое не мечтало о коммунизме, которое вообще не думает о будущем обществе. О себе – да. О новой машине, как больше получать, как забраться повыше.
* * *
Открыли курсы патриотов. Для пламенных стипендия повышенная.
* * *
Личность академика Леонтовича была окружена легендами. Он отличался яростной нетерпимостью ко всякого рода непорядочности. Мог не подать руки. Мог публично отчитать. Этика его была безупречна. Но тут же с некоторой мудрой самоиронией мог заметить: «Справедливость – это удовлетворенная зависть».
* * *
Л. Д. Ландау делил науки на четыре категории:
1. Науки естественные (физика, химия, биология)
2. Науки неестественные (история, лингвистика и пр.)
3. Науки противоестественные (философия и т. п.)
4. Науки сверхъестественные (теософия, астрология, богословие, оккультные науки).
* * *
В 2010 году в Комарове наша вполне респектабельная дача стала превращаться в скромную избушку, еще год-два, и она станет халупой. Не ветшая, не дряхлея. Ее стали окружать шикарные большие сооружения, и ее скромность начинает выглядеть убогостью. Комарово становится поселком состоятельных, богатых людей. Остаются воспоминания, легенды, само же интеллигентное наполнение исчезло.
* * *
У нас умирают как-то наспех, на ходу. Раньше причащались. Чувствовали приближение смерти. Разглядывали прожитую жизнь. Толстой в дневнике рассказывает о крестьянине – умирал с удовольствием, вспоминая, сколько он наработал: «Редко кому удается столько». Две недели умирал. Уходил удовлетворенный.
* * *
– Живи мы в нормальной европейской стране со свободой выезда, со свободой печататься где угодно, у нас было бы куда больше нобелевских лауреатов. В физике – и Я. Зельдович, и Н. Вавилов, и В. Фок, и И. Тамм. А в литературе и Ахматова, и Мандельштам, и Булгаков, возможно Паустовский. Думаю, могли бы претендовать и Б. Ахмадулина, и Е. Евтушенко.
Подумав, он сказал:
– Так-то оно так. Но были бы при этом Булгаков и Мандельштам теми, кем они стали?
* * *
18 декабря 1709 года родилась Елизавета Петровна, будущая царица России. Точнее – русская императрица. Дочь Петра и Екатерины Первой. Наполовину русская. Петр был последний русский царь, дальше пошли немцы. О дате я узнал случайно. В наших календарях нынче таких юбилеев не отмечают. 300-летие – ведь это юбилей, да еще какой!
Веселая царица
Была Елисавет:
Поет и веселится,
Порядка только нет.
В нашей монархической галерее она действительно помнится как «веселая царица». Строгие немцы, немки, работяги, чиновные служаки, венценосные ревнители своей славы, они вели и наслаждались жизнью-то украдкой, «делу время, потехе час», угрюмо старались над Россией. А эта? Наряды, балы, романы, и, между прочим, кой-чего успевала! К примеру, основала Московский университет, в Питере – Академию художеств. Украсила столицу гранитными набережными, Смольным собором по проекту Растрелли – самым, на мой взгляд, красивым собором России.
Оглянулся я и обнаружил, что нигде и никто не собирается отмечать юбилей Елизаветы. 300 лет – не шуточки. Дочь Петра. Красавица. Как же так? Спросил в мэрии, спросил у губернаторши нашей В. И. Матвиенко. «Какая Елизавета? Что за юбилей? Никаких указаний нет. Чего это будем выпендриваться? Нет, ни в коем случае».
А давайте мы сами. Без указаний. Подговорил Николая Бурова, директора Смольного, Исаакиевского и прочих соборов. Человек легкий, заводной. Согласился. И 18 декабря 2009 года в Смольном соборе состоялось. Вступительное слово – Н. Буров. Затем хор собора исполнил кантату XVIII века. Какую, не знаю, но пели хорошо. После них была прочитана ода Сумарокова, обращенная к императрице Елизавете Петровне. Между прочим, поэтически весьма даже. Выступил и я. Смольный собор внутри чисто белый, никаких росписей. Без алтаря, иконостасов. Строгая белизна делает его воздушно-легким. Я говорил не о Елизавете Петровне, а о нашей памяти, о благодарности, о том, как мы охотно забываем плохое и хорошее без особого различия. Когда-то я думал, что хорошее, доброе забыть нельзя, поэтому оно прочно остается в нашей душе. Ничего подобного, и оно подвержено забвению.
Нас было совсем немного в соборе. Слушало человек тридцать. Но это никого не смущало. Наоборот. Царило какое-то возвышенное чувство доброты – мы единственные в России собрались здесь, кто вспомнил Елизавету Петровну, поклонился ее памяти. Просто так, во имя человечности. Без телевизионных камер, казенных венков, казенного ритуала.
Это было необычно. Думаю, для всех. Для меня тоже.
Потом выпили по бокалу шампанского, и все. Разошлись. Довольные как никогда этой сорокаминутной церемонией.
* * *
Есть несколько вопросов, время от времени они посещают нас, мы пытаемся ответить на них и не можем. Они уходят и вновь возвращаются.
«Правильно ли я живу? Нет, что-то не то. А как надо жить?»
«В чем смысл жизни?»
«Зачем я появился в этом мире?»
«Каково мое назначение? Неужели я родился, чтобы быть бухгалтером или инспектором торговли? Что-то ведь должно быть во мне, какие-то способности, какой-то хоть небольшой дар?»
* * *
«Не так давно на партактиве одного из подразделений КГБ под гром аплодисментов осуждали Рыбакова, Шатрова, Гранина как отщепенцев, превозносящих предателей и ползучую контрреволюцию» (Московские новости. 1990. № 25. 24 июня).
«Предателей» – это, очевидно, про мою повесть «Зубр», Рыбакова – за его роман «Дети Арбата», Шатрова – за его пьесы о Ленине.
Вещи эти разные, но объединяло нас – «отщепенцы». Ругательство позабытое, да и в девяностые годы исчезающее, оно из тридцать седьмого года, из времен Большого террора – «враги народа», «вредители», «наймиты», «последыши» и т. п.
«Гром аплодисментов» хорошо выражал удовольствие от возвращения к прежнему чекистскому разгулу, но и досаду от того, что нельзя этих голубчиков доставить сюда, в наши кабинеты, и привести их в порядок.
Теперь ругательства читаются по-другому. Стали они как признание нашего сопротивления.
* * *
Пережитков тоталитаризма в нашей жизни полно. Куда больше, чем было пережитков капитализма. Настоящего капитализма в России не было, настоящий тоталитаризм был. Большой террор не прошел бесследно. Дети репрессированных, дети охранников, следователей, судей, стукачей – все они нахлебались страхов из одного и того же источника, и они принимают любые объяснения властей, призывы, сообщения. Боятся не верить. В советской идеологии сотрудничали все, вся страна.
Говорят, надо покаяться. Надо осудить культ, террор, ложь, партийную систему, то есть систему правящей партии. Посмотрите, как голосуют в Европе. Вот Польша выбирает президента. Два кандидата. Разница голосов – 8—10 процентов, то есть много несогласных, много инакомыслящих. Покаяться – значит осудить, значит разоблачить. Какое может быть покаяние, когда архивы закрыты: судебные, военные, партийные. Прекратили издание документов террора, начатое А. Н. Яковлевым. Чего власти боятся?
* * *
А. Пушкин уже тогда – в свое время – задавался вопросом – куда нам плыть?
* * *
Мы знать не знаем, какие вызовы нам готовит будущее. Даже в ближайшие десять лет. Эра Интернета нагрянула на Россию внезапно. За каких-то пять-семь лет страна обзавелась сотнями тысяч, миллионами пользователей. Практически – сразу. И все преобразилось. Перестали читать газеты. Зачем они? Интернет отодвинул библиотеки, подчинил их. Домашние библиотеки не так нужны. Интернет присоединил нас к Всемирной сети. И пограничная служба потеснилась. Остатки цензуры исчезли. Знание языков сразу продвинулось. У меня появились сотни знакомых. Мои сочинения не зависят от издателей. Могу вывесить на сайте все, что хочу. Блоги.
А мобильники, что они сделали со всеми, с детьми, со стариками, с туристами, с фотографией. Снимает каждый. Отправляю эсэмэску в любой конец света… Вспомним, как изменилось использование нефти после изобретения бензинового двигателя. Как вырос радиус жизни, когда появился автомобиль. Он потребовал другие дороги, автострады, они изменили культуру стран, туристские репутации, доступность других народов и т. п. Нефть перекроила мировую политику. То же относится к атомному оружию, космическим спутникам.
Завтра на место нефти придут «возобновляемые источники энергии». Солнечные батареи, ветродвигатели, водородные двигатели. Будут ликвидированы нефтяные королевства, нефтяные деньги кончатся.
Изобретения и открытия в естественных науках непредсказуемы. Так было с каучуком, с пластмассами…
* * *
Спор – кто мы, Восток или Запад? Насколько мы Восток? Это ведь не так важно, едим мы палочками или вилками.
* * *
Мои друзья из Ханты-Мансийска рассказали мне про шаманов наших северных народов. Когда-то (1937 год стал «когда-то») их всех собрали на съезд. Может, это называлось «фестиваль», точно никто не помнит. Набралось больше двухсот человек. Состоялся ли сам фестиваль, никто тоже не знает, сведений, по их словам, не сохранилось. Зато известно, что их всех расстреляли. Для этого и собрали.
Нечто подобное рассказывал мне Юра Рытхэу. Легенда эта звучит приглушенно, без подробностей, некое устное «сказание». Конечно, сделано это тогда было без суда и следствия, никаких упоминаний в печати. Я спросил у архитектора Славы Бухаева, было ли что-то подобное у них в Бурятии. Он вспомнил из своего детства, как у них арестовали и потом расстреляли известного в их краю шамана.
Если не стеснялись репрессировать священников, то вряд ли церемонились с беззащитными народами Севера. В газете «24 часа» за март 2008 года (№ 322) я прочел в отрывке из воспоминаний Шостаковича о том, как в середине 1930-х годов на Украине собрали съезд бандуристов, лириков. Это были слепцы, которые издавна бродили по селам. Со всей Украины сошлись они, несколько сот слепцов, на свой съезд. «Это был живой музей. Живая история страны. Все ее песни. Вся ее музыка и поэзия. Почти всех их расстреляли. Зачем это сделали?» – спрашивает автор. Песни их цензуру-то не проходили. Таков был уровень мотивировки властей. Какая может быть цензура для слепых? Исправишь текст, так ведь не дашь ему прочитать. Приказ надо в устной форме сообщать, с него, слепца, подписи не взять. Бедняге никак не оформить запрет. Проще расстрелять. Так «пришлось» сделать, и сделали.
Все, что не поддавалось контролю, – внушало опасение. Страх преследовал больших и малых властителей. Они насаждали страх, ссылали в лагеря, расстреливали, но от этого их собственные страхи росли. Они стали бояться детей, репрессированных братьев, сестер. Списки разрастались. Террор ширился. Достиг размеров чудовищных. Не знаю, было ли подобное в истории других народов. Всю страну вогнали в страх. Не известно, кто больше боялся, народ или власть, которая раздувала ужас террора. Члены Политбюро старались не появляться среди людей. Только на трибуне или в президиуме.
Цензура. Мне пришлось нахлебаться ее, когда мы с Адамовичем закончили «Блокадную книгу». Журнал «Новый мир» получил 65 (!) цензурных замечаний по рукописи. Хотели поговорить с цензором, доказать, объяснить. Нельзя. Нельзя встретиться. Нельзя даже узнать его фамилию. У себя в Питере я не мог узнать, где она, цензура, находится, ее адрес, все скрывалось, действовало анонимное существо, некая неземная инстанция, недоступная жалобам. Соблазнительно было бы опубликовать некоторые материалы, привести примеры цензурных изъятий 1950—1970-х годов. Взять интервью у бывших сотрудников. Невозможно. Все рассеялось, исчезло, словно ее не существовало. Призрак растаял. Остались покалеченные книги, статьи, изуродованные романы, стихи. Урон, нанесенный литературе, научной, художественной, театру, кино, – огромен. Хотя бы приблизительно представить уже невозможно.
* * *
Душа имеет свою структуру. Она включает совесть, стыд, предчувствие, еще какие-то части, они независимы от разума, живут своей таинственной, неподвластной даже человеку жизнью.