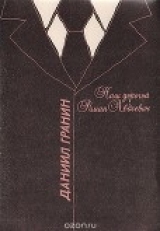
Текст книги "Наш дорогой Роман Авдеевич"
Автор книги: Даниил Гранин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Власть – понятие неограниченное, в том смысле, что власть не имеет пределов, она постоянно стремится все к большему. Ведь почти у каждого человека есть какой-то шматочек власти. Власть над детьми, над несколькими подчиненными, над покупателями или больными. Казалось бы, Роман Авдеевич обладал властью немалой, и над тысячами и тысячами людей. Мог дать квартиру, осчастливить орденом, назначением, мог прославить, упомянуть, послать в загранкомандировку. Ему льстили, старались угодить, о нем писали, его боялись. Но эта власть была неполной. Стоило ему выехать за пределы области, и власть кончалась. Приезжал он в Москву и стоял в очереди в буфет наряду с другими персеками и даже вторсеками. Появлялась обыкновенность, пропадала единственность.
С точки зрения обывателя, занятого добыванием сарделек, обоев, колготок, книг, ваты, жизнь Романа Авдеевича была завидно-роскошной: никаких очередей, живи на всем готовом. Оно вроде и так. Больше того, этот обыватель, он не знал некоторых подробностей, потому что не соприкасался. И с ним Роман Авдеевич не соприкасался. И если бы даже хотел, то все равно не мог бы соприкоснуться. Никоим образом. Так было все устроено, что соприкоснуться их жизни не могли. Лечился Роман Авдеевич и его домочадцы в спецполиклинике, а в этой спецполиклинике был отдельный вход, то есть подъезд для персека и вторсека. Питались они в особой столовой, где была еще особая комната. В магазины он не ходил, ни в какие магазины, даже в радиомагазины, даже в посудные. Взять, например, книги. Ему приносили списки вышедших книг, и он ставил птички против тех книг, которые ему нужны. То есть нужны не для прочтения – книг он не читал,– а нужны потому, что надо иметь. Кроме того, он их расставлял. Это он любил. Разглядывать. Знакомиться. Память у него была хорошая, так что он запоминал и автора, и название, и обложку. Или взять транспорт. Тоже никакого соприкосновения. Ездил он в отдельном купе. Позже – в отдельном салон-вагоне и спецсамолете. Отдыхал в спецсанатории. Там все было огорожено, даже пляж. И кусок моря. Товарищи на лодках дежурили, следили, чтобы посторонние купальщики не подплывали близко.
Одна знакомая автора, будучи в Крыму, ходила по горам, потом спустилась вниз к морю по какой-то козьей тропке. Вышла на пляж. Пустой. Разделась, легла на лежак. Подходит к ней сестра в белом халате – чего желаете, боржом, нарзан или сок какой? Она говорит – боржомчику. Принесли. Выпила. Спрашивает – сколько с меня. Вопрос этот и погубил все. Поднялся переполох. Появился милиционер, и ее под белы рученьки выпроводили с пляжа, да еще протокол составили.
Улицы, по которым ехал на работу Роман Авдеевич, заасфальтировали под паркет. Покрытие поддерживали в идеальном состоянии. Машина катилась не шелохнувшись, так что Роман Авдеевич мог газету читать. Впереди мчалась милицейская, завывая и сгоняя всех на край к поребрику. "Хозяин едет, – раздавалось на панелях,– хозяин в городе". Роман Авдеевичу нравилось, когда его звали хозяином. Правда, к этим фразам еще кой-чего добавляли, но об этом гаврики не сообщали. Роль гавриков в жизни персеков велика. Гаврики – это такой народ или племя, которое своего лика не имеет, никто из них не считает себя гавриком, по отдельности они не существуют и не могут существовать, как муравьи, но все вместе они окружают персека, славят его, раздувают его значение, тащат его наверх. Это их способ существования.
У всякого персека имеются гаврики, которые должны создавать авторитет, положение, значимость. Они играют на повышение своего персека. Точную границу между "должны" и "хотят" установить трудно. Взять ту же историю с трассой поездок Романа Авдеевича. Гаврики в своем рвении пытались вообще закрыть движение по улицам "следования". Выяснилось, что для этого придется строить новые мосты и объезды. Тогда закрыли проезд грузовиков. Гаврики этим не удовлетворились, шумели, шумели и сняли с "правительственной трассы" автобусы и троллейбусы. Жители попробовали жаловаться, им укоризненно сказали: вы что же, против безопасности правительства? Другие гаврики прикрыли овощной магазин в доме, где жил Роман Авдеевич. Чтобы не было шума от очередей и завоза.
Колбаса, ветчина, которыми питался Роман Авдеевич, доставлялись из особого цеха мясокомбината. Костюмы ему шили в спецателье. Вход в здание обкома был у него отдельный, он имел свой лифт. Никто и никогда не видел Романа Авдеевича в трамвае, а также в кинотеатре или, допустим, в бане. Невозможно даже представить его в метро на эскалаторе, в потоке прочих пассажиров. Невольно перебираешь – где и как мог обыкновенный горожанин соприкоснуться с бытием своего персека. Нет, конечно, общее было: например, электричество или телевидение общее, вода одна и та же, что в чайнике автора, что у Романа Авдеевича в ванной. Так что какие-то вещи нас соединяли.
Сам Роман Авдеевич порой жаловался на отъединение от народа. Однако, как он говорил, порядок этот был заведен не им, он являлся всего лишь жертвой установленных и утвержденных правил, которые лишали его простых человеческих радостей. Выпить с прежними дружками не мог. С бабами гулять не полагалось...
Родным пришлось от дома отказать. Слишком много их объявилось, откуда-то понаехали племянники, дядья двоюродные, шурины, свояки. Слетались, как мухи к столу. Всех устраивать надо, некоторые сами устраивались от его имени. Хорошо Генеральному, тот строго ограничил своих родичей. Только ближайшие получали спецудостоверения, книжечки, коричневой кожей обтянутые, фотография и текст, заверенный печатью особого отдела: "предъявитель сего является родственником такого-то". Все остальное несущественно. Покажет книжечку, и далее не требуется качать права, грозить, намекать. Действует безотказно. Вполне достаточно, чтобы не надоедать своему родственнику. Замечательное это организационное изобретение сберегло много драгоценных часов государственного времени Главы.
Наш же дорогой Роман Авдеевич не имел таких прав. Ему пришлось отбиваться самолично, засекретить свои телефоны, запретить доступ. Он лишился родных: ни именин, ни свадеб, ни поминок. Себя показать не мог. Надо отдать должное родственникам, многие поняли, "иначе с нами вельзя", как выразился кум Романа Авдеевича, назначенный директором бани, "вам острастка нужна".
Соответствующие гаврики смотрели за персеками, кроме того персеки смотрели друг за другом ревниво. Большой Хозяин тоже следил за их толкотней, не желая нарушать равновесие. Все у него было сбалансировано. Каждый держался за другого и держал его. Чтобы не рыпался. Этим достигались сцепление, монолитность и сплоченность. Никто не падал и не передвигался. Вообще перестали шевелиться. Стабильность нужна, повторяли они, не учитывая, что Роману Авдеевичу каждый день был дорог.
17
Делегацию в город-побратим возглавил Роман Авдеевич, выучил кой-чего по-французски, поскольку побратим находился во Франции, и взял с собой гостинцы. В гости-то надо с подарками ехать. Чем их, французов, можно поразить: книги, вазы, пластинки – все не то, не поразишь. Капстрана, надо что-то беспартийное дарить, и такое, чего у них нету. А чего у них нету? Референты-консультанты судили-рядили и явились с рекомендацией: поднести несколько картин. Абстрактных, из музейных запасников. То, что у нас пылится без пользы, всякие квадраты-гипотенузы. А у них там, у французов, большая мода на такую мазню. Уговорили. Вызвали директора музея. Ее недавно поставили на это место, поскольку не справилась в райкоме. Выслушала она и робко сослалась на правила, на закон, на министерство. Для Романа Авдеевича министерство не препона, тем более министерство культуры. Звонок по ВЧ, и порядок, избавимся от формалистов. Гаврики отобрали несколько холстов. Рамки не понравились Ромаву Авдеевичу – копеечные, стыдно дарить, велел подобрать золотые, резные. Но тут воспротивился главный хранитель, умоляя чуть ли не на коленях не губить картины, не нарушить волю художников.
В первый же день по приезде Роман Авдеевич вручил один гостинец на приеме в мэрии. Мэр, похоже, смутился, невозможно, такой драгоценный подарок. Французы от восторга заахали. Роман Авдеевич похлопал мэра по плечу – бери, не тушуйся, пользуйся нашей добротой. Другую картину вручил Клубу промышленников, потом какой-то ассоциации. Газеты напечатали большие фотографии подаренных картин, портреты Романа Авдеевича, правда, подлецы-фотографы сняли его с открытым ртом, да еще в рост – совсем маленький рядом с мэром. Пресса писала про знаменитых русских авангардистов, авторов картин, оценивали картины баснословно дорого. Роман Авдеевич был доволен. Знай наших, держава на высоте!
После одного из обедов повезли его осматривать соборы. Витражи, орган, фрески, все древнее, один собор древней другого, и все уникальные. Куда-то в подземелье спустились, где вообще восьмой век, гробницы, алтари, химеры. Следующая еще древнее. Роман Авдеевич делал внимательное лицо, кивал и покачивал головой из стороны в сторону, что должно было означать: "Надо же!" Мелкие эти движения производил он машинально, сказывался навык долгого сидения в президиумах, где Роман Авдеевич освоил трудное искусство изображать внимающего. На самом деле ему не было дела до происхождения этих витражей, росписи куполов, до этих статуй, тщательно реставрированных деревянных распятий, алтарей. Прошлое его не интересовало, тем более чужое. Роман Авдеевич хвалил, удивлялся, пока ему не надоело, да еще к тому же немного развезло от вина, и он вдруг рассердился. Что это они своей стариной чванятся, у нас тоже, слава богу, не меньше. У нас церкви есть тоже древние, третьего века до нашей эры!
Тут даже переводчик вылупился на него, и тихонько переспрашивает: "Вы, наверное, хотели сказать – после рождества Христова".
– Я как сказал, так и переводи,– гаркнул на него Роман Авдеевич.
– Но позвольте...
– Твое дело переводить, – угрожающе повторил Роман Авдеевич. И тот перевел. Французы переглянулись, говорят: "Это удивительно. Неужели такое возможно, мы понятия не имели". Тактично сказали так, что Роман Авдеевич ничего не почувствовал кроме гордости за то, что сумел сбить с них спесь.
Вместо церквей и соборов Роман Авдеевич попросил показать ему трущобы, в которых ютятся безработные. По словам хозяев, трущобы давно уже, лет двадцать назад, ликвидированы. Безработных мало. Пусть мало, но есть ведь, настаивал Роман Авдеевич, не верил он буржуям ни на грош. Должны же быть контрасты. Повезли его в какой-то район мелких коттеджей. Цветники, качалки, в аккурат дачный поселок обкомовский, который он строил у нашего озера. Понял он, что правды от них не добиться. "Знаем мы эти приемчики,– сказал он помощнику.– Сами пользуемся". И все же ему удалось найти. На газоне спящего оборванца. Попросил разбудить его. Заговорил с ним. Оказалось, что тот не работает, то есть безработный, бродяжничает, то есть бездомный. Роман Авдеевич обрадовался, хотел сфотографировать его, но тот почему-то не дался.
– Скажите ему, что я из Москвы, Советский Союз! – зачем-то громко, как глухому, прокричал Роман Авдеевич.
На оборванца это не произвело впечатления. Роман Авдеевичу пояснили, что он клошар, то есть убежденный бродяга, не работает потому, что не желает, и пособия не желает получать, и еще чего-то не желает, какой-то благотворительности...
Брехня, сказал Роман Авдеевич, и обратился к бродяге, давай, говорит, перебирайся к нам, в страну трудящихся, чего тебе здесь гнить. Бродяга зевнул, почесал бороду, а был он весь заросший, пышный, как Карл Маркс, спрашивает: много ли народа к вам уезжает и можно ли у вас не работать? Дальнейшие их переговоры сложились не в пользу нашего персека, тем не менее он сфотографировал его рядом с собой, и снимок этот показывал на своей лекции пропагандистам.
Переводчика после этого сменили, Роман же Авдеевич укрепился в своем превосходстве и на следующем обеде произнес тост, опубликованвый в газетах без всяких комментариев. Это вообще типично для Романа Авдеевича. Все, что он делал и произносил, заграничная пресса приводила, не комментируя.
Бокалы, которые наполняли добросовестные официанты, Роман Авдеевич столь же добросовестно опорожнял. Белое, красное, а также розовые вина, всю эту кислятину, он за серьезный напиток не держал.
– Позвольте поднять этот тост,– Роман Авдеевич всегда тост не произносил, а поднимал,– за процветание вашего города.– Тут бы ему остановиться, и все были бы довольны. Но идеология не позволяла. Идеология требовала обличать проституцию, безработицу, наркоманию, кризисы... Перечисляя их беды, он расчувствовался, готов обнять был, прижать их к своей груди, научить их жить, чтобы они поняли, что сопротивление бесполезно, они исторически обречены, им не выбраться из противоречий. Никакое НАТО им не поможет. Он даже пропел куплет:
Всю Европу за три перекура
Из конца в конец пройдем мы хмуро
И дойдем до города Чикаги
Через речки, горы и овраги.
Новый переводчик переводил без всяких купюр. Впечатление было громадное. Особенно когда он стал рекомендовать им провести коллективизацию. "Почему еще держится наш капиталистический строй?" – спросил его какой-то обозреватель. Роман Авдеевич сразу же поставил его на место: "Да потому держится, что у вас противоположные взгляды, ваша идеология обанкротилась!"
После обеда он потребовал показать ему разложение, как это все происходит. Если рассматривать события обратным ходом, то видно, как неукоснительно Роман Авдеевич приближался к невероятному происшествию, тому самому, которое будет занесено в его досье и сыграет свою роковую роль.
Заведение, куда привезли Романа Авдеевича, было дорогое и фешенебельное. Посетителей немного, каждый располагался в мягком кресле. Всего рядов десять. Полутемно. Стойка бара, за стойкой полуголая барменша, воздух пряный, пахнет вином и пороком. Сцена маленькая, уютная, задрапированная. На сцене представление идет. Обычное для таких подвальчиков: мужчина и женщина раздеваются, готовясь к любовному поединку. Затем на широкой постели начинается показательная схватка, со всеми приемами, каждый демонстрировал свою технику. Музыка, охи, зубовный скрежет. Бегущий свет вроде и усиливает, вроде и дразнит, мешая уловить самое этакое. За натуральным актом последовали вариации, то двое мужиков, то две красотки наслаждались, то появлялся треугольник – две девицы терзали одного парня.
Роман Авдеевич возбудился, при этом негодовал и поносил, и сравнивал наше общество, которое никогда не позволит подобного срама. Уйти, однако, отказывался. Он вертелся, вскакивал и все требовал, чтобы ему переводили. А что, собственно, было переводить? Чего тут непонятного? Измучил и переводчика, и провожатых французов. Это тоже сыграло свою роль. Катастрофа разразилась во время номера со знаменитой мадам Жюли. Она славилась своей находчивостью, репликами, умением вращать грудями, поднимать их кверху, как спаренные зенитные пулеметы, или наставлять на зрителей. Все ее семьдесят килограмм были распределены наиболее аппетитным образом.
Дальнейшие события излагаются на основе очерка в одной из бульварных газет, которая не постеснялась бы исказить факты, но была и другая статья в эмигрантском листке, где другой журналист позволил себе исказить факты точно таким же образом. Пользуясь этими двумя искажениями, автор примерно восстановил ход событий.
В этот вечер Жюли изображала любопытную простушку. Она как бы впервые увидела столько мужчин, к тому же респектабельных, и никак не могла сообразить, чего ради собрались здесь. Сверкая белыми зубами, она обращалась к залу с вопросами, ей отвечали со смехом, чтобы развлечь гостей, она спела им несколько куплетов, но ведь не за этим же они сюда явились. Спрыгнув со сцены, она пошла по рядам, расспрашивая, удивляясь. На ней была коротенькая юбка, высокие сапожки и больше ничего. "Бронзовое тело Жюли на фоне алых кресел соблазнительно блестело. Ее звонко шлепали по заду, пощипывали, гладили". Описания эмигранта были красочнее, и доброхоты, перечитав его очерк, послали в Москву, откуда он пошел распространяться. Итак, напевая и переговариваясь, садясь на колени, поигрывая своими прелестями, она не переставала выяснять, неужели всего этого у них нет дома? Роман Авдеевич восхищенно вскрикивал. "Ну стерва, ну дает!" – аплодировал и не чувствовал опасности.
Подойдя к ряду, где восседал Роман Авдеевич, она наметанным глазом выделила его из приезжих провинциалов и немцев-туристов, как нечто экзотическое. Может быть, тому способствовал его парадный черный костюм, накрахмаленная рубашка, может, некоторый испуг, когда они встретились глазами. Он вдруг забеспокоился, потребовал у переводчика, чтобы к нему она не подходила со своим похабством. Переводчик перевел это провожатым французам, те что-то сказали Жюли. Неизвестно, что они сказали, как они это сказали. В конце концов, Жюли, свободная гражданка свободной страны, могла ослушаться. Или заинтересоваться. Почему это не подходить и чего, собственно, боится этот господин. Он что, советский? – спросила она. Откуда-то они всегда узнают советских. Вроде бы не так уж часто имеют с ними дело, а узнают. Не исключено, что эти французы из мэрии могли сказать ей: валяй, валяй, посмотри, что у него там. Во всяком случае простушка Жюли проявила живое любопытство к советскому гостю и, громко рассуждая, как у них там, разрешают ли коммунистам заниматься этим делом и каким способом, направилась вдоль ряда к нему. Роман Авдеевич всерьез испугался. "Не допускайте ее, остановите",– шипел он. Физиономия его вспотела. Был момент, когда он хотел бежать, но Жюли успела ухватить его, обнять, прижаться к нему. Волнение Романа Авдеевича привлекло особое внимание зала. Жюли обыгрывала свою находку, расспрашивая, есть ли у них такие части, и вот такие. Если бы он воспринял это со смехом, шлепнул бы ее по заду, тиснул за грудь, все, может, и обошлось бы, но он стал вырываться от нее, кричать: "Это провокация! Я протестую!" Всеобщий интерес усилился. Такое поведение здесь было в новинку. Кассирша вышла из кассы. Жюли приговаривала: "Это же очень приятно, чего ты боишься?" "Что она говорит,– кричал Роман Авдеевич,– я официальное лицо!" – отбивался он, плюхнулся в кресло. Жюли немедленно уселась к нему на колени и стала хозяйничать над его брюками, причем с такой многоопытной ловкостью, что как Роман Авдеевич ни удерживал свое прикрытие, оно пало. Лучи прожекторов скрестились на них, высвечивая подробности сражения. Попытки Романа Авдеевича высвободиться Жюли пресекала, сбросить ее с седла было невозможно. Незнание языков позволяло каждому вести свою партию, не вступая в полемику. Усилия Жюли увенчались успехом. Роман Авдеевич кричал: "Вы не имеете права! Я буду жаловаться!" "Тем временем свершилось восстание плоти,– как описывал эмигрант.– Подобно любому восстанию, тщетны были угрозы, ни заклинания, ничто не действовало на восставшего. Коммунистическая идеология терпела поражение. И бдительность, и соображения карьеры, страхи перед последствиями, все отступило. Глупенькая Жюли недоумевала над паникой хозяина. Она предпочитала иметь дело с более разумной его частью. Ей удалось целиком освободить эту милую и привычную ей часть".
Далее эмигрант в своем рвении переходит на порнографию, французский журналист вдается в размышление об Эросе, боге, соединяющем народы, о сладостном языке любви, едином для всех, не требующем переводчиков:
"Под руководством нашей очаровательной Жюли-освободительницы зал, наконец, увидел победу над партийными органами. Блеснуло несколько фотовспышек. Хозяин его был в ужасе, но Жюли нежно приветствовала борца за свою свободу и независимость".
Копии этого очерка ходили по рукам. Их изымали, делали все возможное, чтобы погасить нежелательные толки. Впоследствии в наших органах появились каким-то образом добытые фотографии и положены в досье. Положены, подклеены, пришиты – автор не знает, как это у них заведено. Автор многое бы дал, чтобы ознакомиться с досье на своего героя. Без сомнения, там собраны драгоценные материалы, которые не найти ни в одном архиве. Сам Роман Авдеевич не знает про многие донесения на него и отчеты, записи. Даже в зените его славы это досье оставалось недоступны. Видел ли вообще хоть кто-то свое собственное досье? Вряд ли. Чужое еще могут показать. И то листочек-другой.
Автору известно, что и на него имеется папка. Пухлая, увесистая. Она стоит где-то на стеллаже, имеет номер, цвет. Все время туда что-то добавляют. Недошедшие письма, сведения о друзьях, о поездках, о жене, детях, и то, как он собирал материалы о персеках. Все это пронумеровано, разложено хронологически, аккуратнее, чем в собственном архиве. Целая жизнь, которая бесшумно шла по пятам: разговоры за спиной, сообщения людей, которых он считал приятелями, шелест магнитофонных лент!.. Там хранятся давно забытые случаи, встречи, его женщины, его признания и страхи, неосторожные слова, перетолкованные, подчеркнутые. Собрано все подсмотренное, подслушанное, присочиненное, и в результате сложен портрет почти незнакомый. Но как знать, может, то были блестки жизни подлинной, загнанной в подполье, в шепот, той жизни, которую не удалось прожить.
18
Тем временем в Хозяине происходили заметные перемены. Первыми это заметили аппаратные люди, гаврики высшего эшелона. Появилась путанность в мыслях. Но это было еще ничего, темную мысль, ее можно перетолковать по-нужному. Хуже, что в речах сбивчивость появилась. Забывать стал. Мог в речи одну и ту же страницу дважды зачитать. Верные люди посоветовали Роману Авдеевичу не медлить. Шутка ли, столько сил ухлопано на расположение, первый кандидат, чтобы забраться в тележку... Другие кандидаты ведь не дремали. Наговаривали на него, устроили, например, подвох в момент награждения. Было так: среди прочих нашему Роману Авдеевичу должны были орден вручать. Церемонию передавали по телевидению на всю страну. Генсек оглашал фамилии и давал ордена маршалам, генералам, затем очередь дошла до его сына, который кем-то работал, скорее всего за границей (дети начальства большей частью работали за границей). Зачитав собственную фамилию, Генеральный несколько удивился и впал в задумчивость. Довольно долго он пребывал в отключке, пока до него дошло, что это не его будут награждать. Вручил орден своему сыну. Камера нацелилась на Романа Авдеевича, чья очередь подошла. Персек наш засиял, устремился к своему Генсеку. Стал замшево-нежный, такой любящий, каким мы никогда его у себя в городе не видели. Приблизился он к Создателю всех персеков, подскользил, как по льду, что-то произнес, переливается перламутром, губы приготовил для поцелуя. Перед этим кто-то из маршалов удостоился поцелуя, и наш Роман Авдеевич тоже всем своим коротким корпусом устремился к поцелую, губы его стали вытягиваться все длиннее, длиннее, образуя хоботок, как у муравьеда. Хоботок этот дотянулся почти до самого лица первого лица, но тот оставался в неподвижности, не сделал никаких ответных перемещений. Возможно, он опять отключился, а возможно, интрига сработала. Тяжкая это была минута для Романа Авдеевича. Областной же народишко ликовал. И что поучительно,– в других регионах зрители также получили удовольствие, о чем есть данные в письмах и телефонных переговорах, что свидетельствует об ожесточении нравов и накопленных чувствах к руководителю.
Сорвался всесоюзный поцелуй. Можно считать, на всю страну произошел конфуз. Автор боялся, что Романа Авдеевича хватит сердечный удар. Но в который раз автор убеждался, что герой его великий человек, не предусмотренный никакими правилами. Нервное устройство его не имело ничего общего с устройством обыкновенного человека. Хоботок Романа Авдеевича повисел в пустоте, втянулся, а лицо стало еще более любящим и счастливым. Прямо-таки обожающим. Будто он удостоился наивысшей милости. Тут нечеловеческая сила духа требуется. Или полное его отсутствие – духа то есть.
Вскоре после награждения выяснилось, что завод, о котором Роман Авдеевич рапортовал, вовсе еще не построен и продукции не дает, только строительная площадка огорожена глухим забором. Радиопередачу даже об этом протолкнули. Роман Авдеевич огорчился, но не за себя, за Хозяина, в какое, мол, его положение ставят, некрасиво это, не человечно. На активе одна работница выступила, спросила: правда ли, что содержат специальную корову, которая обеспечивает молоком персека и его семью. На что Роман Авдеевич расхохотался: до чего дезинформация доходит, как клеветники распоясались, надо же как партию атакуют! Ни в одном глазу смущения не было. Он обладал прямо-таки потрясающей неуязвимостью. Автор полагал, что может, это от сознания безнаказанной своей власти. Но и после катастрофы Роман Авдеевич ни в чем не усомнился. Что касается несостоявшегося поцелуя, то всему окружению было заявлено, что это происки одного южного персека, козни нерусской группы. Южные люди, опекавшие Старшего на курортах, они раньше других обнаружили маразмированне и "захватывают позиции, оттесняя нас".
К сожалению, автор плохо знает историю других персеков. Внешне они все выглядели одинаково, произносили одни и те же речи, одинаково хекали, ездили в одинаково длинных черных "Чайках", имели неразличимую охрану. Когда персеков перемещали из одного города в другой, обывателю лучше не становилось.
В тот год кто-то из самых ветхих членов Верхотуры "ушел в стену", как выражались гаврики, место в "тележке" освободилось, и толкотня вокруг нее усилилась. Все старались пробиться, успеть что-то получить, захватить, утвердить. Метались, подсовывали бумаги, упрашивали, умоляли, чтоб вырвать последние блага. Отпихивали друг друга, ставили подножки, нашептывали, обещали, везли подарки, заключали соглашения, мелькали рога и хвосты, пахло серой, бесовская карусель вертелась все быстрее. Кто-то, вышвырнутый на обочину, застрелился, с кем-то произошла автомобильная катастрофа, с другим инфаркт. Игра пошла по-крупному.
Патриарху пора было на покой, но его крепко держали гаврики всех мастей: и персеки, и министры, и помощники, и референты, и советники,– вся великая рать начальников не желала отпускать его. Их не смущало, что он уже плохо соображал, плохо двигался, они боялись перемен и готовы были без конца поддерживать полужизнь Вождя. По-своему они любили это мычащее, с трудом ходящее тело. Им нужно было, чтобы оно продолжало существовать. Пока он был кое-как жив – они жили, дивно жили, полнокровно жили...
Ему ставили стимуляторы, непрерывно лечили, заменяли органы. В одном соседнем государстве Глава таким образом прожил больше года. Лежал, дышал, мычал. Сердце билось – считался живой. В отставку не подавал – считался Главой. А раз Главой, значит, все остаются на своих местах. И у нас хотели достигнуть такого положения. К тому же наш еще двигался, мог ходить.
Южные и восточные персеки наперебой зазывали Патриарха к себе. Каждый рассчитывал, что если удастся заполучить, то во время визита, в размягченном состоянии можно будет договориться.
Для визита нужен был предлог. Нечто основательное, непреложное, требующее приезда Самого именно в наш город. Мобилизовали местных краеведов, ученых всех направлений, чтобы искали круглую дату основания, открытия – что-нибудь этакое инициативное, мирового замаха. Роман Авдеевич имел ум дальнозоркий, вообще мозг его работал непрерывно. И вот однажды находят ему среди старых проектов царских времен проект возведения Великой Защитной Стены, должной заслонить город от постоянных северных ветров. По расчетам, такая стена обеспечивала городу постоянный теплый климат. Экономия только на топливе дала бы десятки миллионов рублей. Проект царем Александром Третьим был отдан на экспертизу известному немецкому академику Куперману, затем Петербургскому академику Фокину и забракован ими обоими, как безумный. Рукою его величества было начертано "Curieus!", что Роману Авдеевичу перевели как "любопытно" – Роман Авдеевич велел не отвергать с ходу, а подсчитать, прикинуть. Строительство получалось грандиозное. Ничего подобного в Европе не было. Это могло выглядеть почище великих строек коммунизма, если подать с толком. Выгоду, тоже при умелом подсчете, удалось увеличить. Эшелоны сбереженноro угля, плюс окон не надо заклеивать, шубы не нужны, насморк и грипп исчезнут, следовательно, выход на работу возрастет. Уборка снега отпадает. Сохранность крыш обеспечена. Травмы зимние долой. Ежегодно тысячи людей не ломают руки-ноги на обледенелых улицах – неисчислимый эффект получался! Защитное сооружение окупало себя за какие-нибудь три-четыре года, а дальше наступал сплошной доход и благополучие. Призваны были все средства информации. По телевидению показывали страшные деиствия северных ветров, обморожение, заносы, красивые многоцветные проекты сооружения. Нашлись, как водится, противники. Скептики уверяли, что город обходился триста лет без Стены и обойдется. Экономисты доказывали, что лучше строить больницы, жилье, дома престарелых, библиотеки, овощехранилища, гостиницы. Всерьез нельзя было принимать такие рассуждения. Не пригласишь же на закладку дома престарелых Первого человека. Не тот повод. Да и какая в этом слава городу. Другое дело Стена, сооружение уникальное, единственное, которое может прославить страну. Хуже было, что взбудоражились некоторые специалисты, они доказывали, что ветры нужны, без них город задыхаться будет от заводских выбросов. Сколько их ни уговаривали, как ни взывали к патриотизму, они твердили свое. Форменные фанатики. До того дошли, что отправились в Москву протестовать. Их, конечно, вернули назад, кое-кого поместили в психбольницу, со всеми ихними таблицами и диаграммами. Кто признал свои ошибки, тех вскоре отпустили, других пришлось лечить.
На каком-то совещании по Стене вдруг к Роману Авдеевичу пробился один профессор и стал криком кричать о губительности проекта. Сыпал словечками – турбулентность, ламинарность, волюнтаризм; упрекал в том, что не было объективной экспертизы, грамотного моделирования. Как он проник на совещание, неизвестно. Если бы речь шла только про аэродинамику, на него можно было спустить специалистов, они уже рвались со всех сторон. Но профессор выставил и экологию и экономику, поставил под сомнение не размеры Стены, а ее необходимость. Утверждал, что от Стены город задохнется, и ссылался на расчеты свои и иностранных коллег, с которыми он, оказывается, консультировался. Был он длиннющий, носатый, склонялся над Романом Авдеевичем, как цапля. Нужно было его проучить, чтобы другим не повадно было. Роман Авдеевич зашел с тыла, не там, где ожидал профессор. Наша партия, сказал он, живет коллективным разумом, чем же аэродинамика лучше нашей партии. Время одиночек в науке кончилось, все делают коллективы. Только им под силу решать комплексные задачи. Напрасно профессор так много берет на себя, позволяет столь пренебрежительно отзываться о заключении коллектива специалистов. Говорят, что профессор ведущий ученый, заслуженный. Может быть. Но ученых незаменимых сегодня нет. Надо будет, поставим еще десять, двадцать специалистов и заменим. Профессор настаивает на своей объективности? Спрашивается, кому нужна такая объективность, если она непатриотична и демобилизует.







