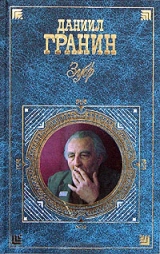
Текст книги "Зубр. Бегство в Россию"
Автор книги: Даниил Гранин
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Далее шел рассказ о том, как снова помогали греки-единоверцы, устраивали побег за побегом, как переправляли беглецов в Малую Азию, пока они не собрались всей компанией и опять долго разбойничали на Анатолийском побережье. Несколько раз я слышал этот рассказ, он повторялся – с мелкими разночтениями – в точности, но с вариациями и новыми подробностями, такими, которые появляются, когда проезжаешь одну и ту же станцию. Ни в каких печатных источниках история эта не зафиксирована, может, историк и сумел бы кое-что разыскать, но Зубр знал ее изустно была она одной из внутрисемейных легенд, что передавались из поколения в поколение. Таких легенд набиралось много. Каждая имела сюжет, построенный на самобытном характере, действующем в гуще российской истории, подобно Аннибалу де Коконнасу из «Королевы Марго». Раньше я думал, что наша русская история слишком серьезна и мрачна, поэтому у нас не хватает таких героев, как в «Трех мушкетерах», как герои «Острова сокровищ», «Одиссеи капитана Блада». Ничего подобного, история тут ни при чем. Зубр показывал, что и у нас она богата и смехом, и отчаянными приключениями выдумщиков, пиратов, мечтателей, шутейством, авантюрами и такими анекдотами, которые украсили бы любой плутовской роман.
– …новенький линейный корабль и фрегат под турецкими флагами. Команда пировала на берегу. Ночью испытанным способом оглушили часовых и уплыли на север. Там князь Потемкин формировал в низовьях рек Таврический флот. В один прекрасный день видят, как два турецких военных корабля приближаются к нашим берегам. Однако они идут под русскими флагами. Поднялся переполох. Решили – обман какой-то, хитрость, но тут им на родном языке доступно разъяснили, что на кораблях не басурмане, а вполне русские люди. Было превеликое торжество и винопитие. Были отправлены гонцы к матушке Екатерине. Она распорядилась приобрести турецкие корабли у благополучно прибывшего из-за границы бригадира и включить их в состав российского флота. Бригадиру же через чин пожаловать генерал-лейтенанта и придворный чин гене рал-адъютанта. Деньги немалые позволили ему возместить убытки экспедиции, выкупить именьице, наградить своих мужичков…
Оказывается, имелись на эту эпопею документы и грамоты. В семейном архиве хранились дела о приобретении кораблей. Пожертвовали дела эти в Румянцевскую библиотеку, но не успели передать из-за войны.
– … Не так-то просто государству что-нибудь подарить. В двадцать втором году калужские власти наконец разрешили нам вывезти архив, но к этому времени директор совхоза, украв все, что мог, стал заметать следы, устроил поджог. Сгорели дом, мебель, архив, уже принятый Румянцевской библиотекой и приготовленный к отправке. Черт с ней, с рухлядью, архива жаль. Я бы должен был содействовать, так я на фронты ходил, а когда возвращался, бежал в зоомузей к своим карповым рыбам и бычкам.
Архив сгорел, осталась память, прочная из за обязанности знать и хранить родословную. Иначе быть не могло. Гордился ли он или стыдился кого из них, но все они составляли его прошлое, его корни в этой земле, в его жилах текла их кровь, в нем жили их гены, он был их продолжением.
Фамильной чертой и по отцовской и по материнской линиям были поздние браки. Отец – Владимир Тимофеев родился в 1850 году, мать в 1866 году, поженились они в 1895 году, то есть когда отцу было сорок пять, а матери двадцать девять лет. Он же, Николай, Колюша, родился в 1899 году, то есть еще в девятнадцатом веке. Обе бабки родились еще при Александре I. Одна из них умерла при Ленине – вот какой отрезок захватила. В имении деда жили три старика повар, садовник и звонарь. Они еще дедом были переведены на пенсию, построили себе три избы и доживали там. Всех троих в 1912 году вывозили в Москву на празднование столетия Отечественной войны, наградили их бронзовыми медалями с надписью «Не нам, не нам, а имени твоему!»
– …Поскольку я в своем поколении был старшим, то первый к ним прилепился, они меня очень любили, я после обеда бежал к ним пить чай. Готовила им Надька, с их точки зрения девчонка, ей восемьдесят лет было, нянька моей матери. Тоже жила на покое. Я сидел, уши растопыря слушал их байки начиная с наполеоновских времен. Все это было ими пережито, весь девятнадцатый век, так что для меня это было как современность. История шла ко мне от людей, а не от книг…
В гимназии он живо почувствовал разницу в восприятии истории им и однокашниками. Для них что Отечественная война, что севастопольская кампания были одинаковой стариной, а для него в севастопольскую повар был уже пожилым человеком, служил казначеем в севастопольском ополчении, которое собирали по всей России…
Теперь могу признаться – слова надписи на медали я при случае проверил в Эрмитаже, в отделе нумизматики. Сперва специалисты сказали, что, очевидно, я перепутал: с подобной надписью медали давались сразу после победы участникам кампании 1812 года, серебряные и бронзовые. В столетие же, в 1912 году, медали были отчеканены с другой надписью. Я расстроился: одна неточность, другая – и рассказы Зубра могли превратиться в россказни, тень подозрения могла покрыть многое. Я проверял для того, чтобы обрести уверенность. Мне нужна была уверенность. Я вернулся в Эрмитаж и попросил перепроверить. Они покопались в каких-то других справочниках и выяснили, что старикам-солдатам, участникам Отечественной войны, то есть тем, кому за сто лет, давали те самые медали 1812 года, их специально изготовили со старого штампа, сохраненного в Монетном дворе: «Не нам, не нам, а имени твоему!» Рассказ Зубра подтвердился. Кроме поразительной памяти можно было положиться на его добросовестность ученого.
По морской линии в предках у него были: адмирал Сенявин, тот, который кильватерную колонну выдумал; адмирал Головнин, который кругосветку плавал, у японцев в плену сидел; адмирал Невельской, который присо единил незаконно Дальний Восток к Российской империи, за что был разжалован Нессельроде.
– …Почти разжалован! Почти! У этого Киссельвроде – так у нас дома его звали – не получилось. А было так…
Какое счастье, что я хотя бы часть дослушал, записал… Когда-то отец мой пытался рассказать мне про его деда, моего прадеда, и про какого-то чудака дядьку, но мне было некогда. Мне всегда было некогда, когда речь заходила о прошедшем, в котором меня не было. Так я и не узнал ничего о своих предках, а теперь уже спросить не у кого. Позади, за детством, за отцовскими братьями и мамиными молодыми польскими фотографиями, смутно шевелятся безымянные фигуры, а дальше – пустошь, холодные просторы опустевших земель и селений…
Глава четвертая
– …Этот отличился в турецкую кампанию восемьсот семьдесят седьмого – семьдесят восьмого годов на Черном море. Успешно применял мины против турецкого флота. У турок флот был железный. Русские вместо брандер запускали паровые катера с шестовыми минами, их заводили под корму или еще куда. Два добровольца, один обязательно офицер, другой – матрос, при попутном ветре разгонялись на полный ход против неприятельского корабля, который по ним, естественно, палил изо всех пушек. Иногда они успевали его боднуть в бок бомбой. Она взрывалась и доставляла одним радость, другим – неприятности. Матрос и офицер, ежели не успевали назад, то выпрыгивали и спасались вплавь. Так что они далеко не всегда погибали. Геройство лишнее у нас не поощрялось.
Так и произошло с моим двоюродным дедом, братом моего деда. Сам дед был одним из деятелей освобождения крестьян. Служил директором казенной палаты в Симбирске. Брат же его, моряк, был чудаковатый холостяк, однако офицер был превосходный. В данной истории взорвали они не какую-то посудину, а линейный корабль турецкого флота, вовремя сиганули в воду, потом выбрались на какую-то косу, спаслись. Наградили его золотым георгиевским оружием и офицерским Георгием четвертой степени – я его помню: белый тяжеленький крестик. Сделался он затем контрадмиралом и наконец полным адмиралом.
Послали его с учебной флотилией по Средиземному морю. От порта к порту добрались они до Тулона. Стали там. Недалеко Ницца, Монте-Карло. Потянуло его туда, а как увидел рулетку, шарик этот журчащий, так решил рискнуть. Рулетка чем хороша? Это риск в чистом виде. Никакого умения, все расчеты исключены. Касаешься судьбы, выбор у тебя большой: можешь приблизиться к ней с любого бока… Психология играющих в рулетку – занятная штукенция. У многих людей эта страсть дремлет. Проснулась она и у моего адмирала. Человек он был небогатый по тогдашним понятиям. Жалованье адмиральское – и только. Министерское жалованье и то было небольшое. Мой отец, например, получал вдвое больше министра. А профессор получал вдвое, а то и втрое больше министра. Адмирал взял с собою все золотые франки, какие у него были, немного, и никак не мог их проиграть: куда ни ставит, все ему прибавляется. Бог игры взял его за руку и повел. Игроки знают такое наваждение. Тут не рассуждай и не отрывайся. Дошел он до редкого события – сорвал банк Монте-Карло. Сколько это в точности – не помню, три миллиона или же пять миллионов франков. Одним словом, в этот день банк прекращает платежи, и вся музыка кончается до завтрашнего вечера. Выплатили ему деньги. Он послал длинную телеграмму моему деду, своему братцу: присмотри, мол, хорошее именьице поблизости. И отправил сколько-то тысяч франков на задаток. Сам же пошел со своей эскадрой дальше. Он не был ни кутила, ни пьяница, но, приезжая в очередной порт, отправлялся в ресторан и открывал его для местного населения, чтобы пили и гуляли в честь российского флота. Будучи в Италии мальчиком, мы с отцом заставали еще в портах людей, которые вспоминали, как один русский поил и кормил горожан. Так он добрался до Константинополя. Оттуда дед получил от братца телеграмму – вышли сто рублей. Все миллионы спустил. Было это в начале девяностых годов. Вышел в отставку высокопревосходительством. Я видел его в парадной форме. Ослепитель ное зрелище! С этой формой тоже был случай на моей памяти, в девятьсот шестом году.
В Калуге сидел тогда отвратный губернатор. Земцы с ним не ладили. Они старались завести ветеринарные пункты, чтобы присматривать эпизоотическое состояние бессловесных скотов, кормящих всяких словесных скотов. Губернатор же чинил им препятствия. Адмирал слушал, слушал жалобы земцев, которых мало уважал, да как закричит на них: «Что вы языками попусту чешете! Как так губернатор противится? Раз дело правое, значит, заставить его надо». Велел заложить карету четвериком, на козлы – кучер, на запятки – матрос его бывший (он любил ездить по-старинному), а в карету приказал посадить полдюжины овец. И поехал в Калугу. Подкатил к губернаторскому дому. Там увидели, что вылезает полный адмирал во всем обличье, при всех регалиях, лентах. Доложили губернатору. Тот выбежал на крыльцо приветствовать. Высокопревосходительство вошел в переднюю. «Мне, – говорит, – сообщили, что ты против ветеринарных мер». На «ты» его, начальственно. «Надо, – говорит, – вводить пункты ветеринарные. Но раз ты против, привез я тебе, милейший, полдюжины своих овец, лечи их». Хлопнул в ладоши, и матрос загоняет их в губернаторский дом. Губернатор в ужасе. Лепечет, что неправильно его поняли. «Ну, раз неправильно – другое дело. От тебя только бумажка требуется. Присылай в ресторан, я там обедаю. Пришлешь?» – «Пришлю».
Адмирал погрузил обратно своих овец. Поехал разыскивать земских деятелей. Повез их в ресторан. Сидят выпивают. Является нарочный от губернатора с бумагой. Земцы обалдели…
Адмирала Зубр хорошо помнил и кончину его помнил. Отпраздновав свое восьмидесятипятилетие, адмирал привел все дела в порядок, огласил завещание и застрелился из револьвера системы «бульдог».
Кончено дело, зарезан старик,
Дунай серебрится, блистая, —
заключал он своей излюбленной присказкой.
Глава пятая
– …По случаю такой жары все участники семинара заходят в воду по горло, а докладчик по пояс, – предложил Зубр.
Докладчик, Владимир Павлович, хоть и фронтовик и в те годы отнюдь не пожилой, пришел в некоторое смущение, счел это неуместной шуткой, более того – неуважительной по отношению к докладчику: слушание в воде – обстановка явно неподходящая. Происходило это в Миассове в девятьсот пятьдесят восьмом году. К такому еще не привыкли. По крайней мере, биологи. Тогда Зубр со всей серьезностью поставил вопрос на голосование: подходящая обстановка или неподходящая? Разумеется, большинством голосов признали, что в такую жару нахождение семинара в воде – вполне подходящая обстановка. После чего все слушатели разделись и полезли в воду – студенты и доктора наук, девицы и пожилые люди, и сам Зубр. Докладчик, хоть и остался на берегу, должен был разоблачиться до трусов. Свои графики он чертил мелом на опрокинутой лодке.
Из всех заседаний запомнилось более всего это, в воде. Запомнилось и самому Владимиру Павловичу, несмотря на то, что оно вроде бы шокировало его. Запомнилось всем участникам и его сообщение. Потому что – в воде. Хотя оно и само по себе заслуживало.
– После доклада он меня поцеловал. Это было посвящение. Я почувствовал: у меня отрастают золотые шпоры. – Он замолчал, пораженный какой-то мыслью, потом сказал: – Помните, в «Фаусте»: «Ты равен тому, кого понимаешь». Зубр был выше меня, потому что я его не понимал. Но дело в том, как я его не понимал. Так не понимал, что он был на две головы выше меня.
Владимир Павлович о себе достаточно высокого мнения. Он человек скорее скептический, чем восторженный. Характеристики, которые он дает людям, едки и разоблачительны, а здесь… Я раздумываю, в чем же непонятность Зубра.
– Он обладал стратегическим подходом к биологии. Это так же, как если бы я, мысля на уровне командира батальона, пытался понять мышление командующего фронтом.
Снова он вернулся к тому поцелую, которым гордился не меньше, чем фронтовыми орденами.
По вечерам на берегу Можайского моря устраивали костер и большой общий треп. Главой трепа был Зубр. Он заставлял выступать старых профессоров, докторов и прочих мэтров. Кто о чем: о своих путешествиях, о картинах Рериха, о женской красоте, о стихах Марины Цветаевой.
В желтом танцующем свете костра совершались превращения: некоторые известные, заслуженные ученые оказывались бесцветными рассказчиками, многословными, лишенными собственных мыслей. Они сообщали вещи банальные, от приближения эти люди проигрывали. Выйдя из храма науки, жрецы становились скучноватыми обывателями. Но были и такие – чем ближе, тем интереснее. Были сочинители весьма неплохих стихов, были остроумцы, были талантливые рассказчики, были знатоки истории. Тем не менее все это рано или поздно приедалось, и тогда обращались к Зубру, упрашивали его что-нибудь рассказать о себе. Жизнь его казалась неисчерпаемой…
Глава шестая
Наступали на юг, он был рядовым красноармейцем 113-го пехотного полка, потом военное счастье перевернулось, и они стали отступать перед «дикой дивизией», как называли мамонтовские части. Его назначили командиром взвода. Командовал он недолго, подхватил сыпняк. Его пришлось оставить на каком-то хуторе. Полк его расколошматили. Он лежал без призора не помнит сколько. Зима еще держалась. В бреду он выскакивал наружу, на снег. Мимо проходила красная воинская часть. Хозяин хутора постарался сбыть его. Санитары взяли его и, как тогда выражались, «ссыпали» на сыпной пункт, то есть на солдатский сыпнотифозный пункт. Разместился пункт на сахарном заводе километрах в двенадцати от Тулы. Лежали вповалку и ко мандиры и красноармейцы в главном заводском корпусе. Окна были повыбиты. «Ссыпали» туда солдатиков сыпнотифозных, брюшнотифозных, с возвратным тифом, с пятнистым тифом – со всеми тифами; а также контуженных, простуженных и прочих. В конце концов все получали тот или иной тиф в придачу к тому, с чем их привезли. Около двух тысяч лежало там. Колюша наш выжил прежде всего потому, что крепок был исключительно. Кроме того, по его теории, еще и потому выжил, что лежал у самого окна, на морозце. Уход за сыпнотифозными, поскольку врачей не имелось, заключался в том, что через день приезжали на санях солдатики, привозили свежих сыпняков, забирали очередные трупы, сваливали их рядками на свой транспорт и увозили. А заодно с больными привозили по два ведра на каждый зал «карих глазок». Суп варили такой из голов и хвостов воблиных. Сама вобла шла куда-то, видно воюющим солдатам, может, в детские сады, в детприемники, – кто его знает, а вот обрезки кидали в суп, туда же добавляли чуток пши, была такая дальневосточная дикая культура вроде проса. В Москве из всех каш была пша. Осточертела она всем до предела, поговорку даже переделали: тля ест травы, ржа – железо, а пша – душу.
Ведра с «карими глазками» ставили у входа, и проблема была – доползти, ибо сил не хватало. Когда Колюша чуть оклемался, почувствовал он голод, зверский аппетит. Вернее так: почувствовал голод и понял, что перемогся, не помер. Слабость была ужасная, сил хватало только на то, чтобы на брюхе, крокодилом, переползать между больными. Подползал к покойничку, у солдата над головой в вещевом мешке всегда какая-нибудь жуйка хранится. Пошарит, пощупает – глядишь, корочку нашел. Сосал. Грызть сил не было. Потом добирался до ведра. Надо было подняться, чтобы мордой залезть в ведро. В зеленой водице плавали вываренные воблины глаза, кругленькие, со зрачками, потому и назывался супок «кари глазки». Сухая корочка да «кари глазки» – вот чем душа держалась, не отлетала. Возможности человека в смысле голода велики, голодать человек может долго, если не паникует.
Начальствовала над этим учреждением сестра милосердия. Время от времени она появлялась, как фея, в красных резиновых сапогах, поверх шубки белый халат. Заглянет в зал, заплачет и уйдет. Ни лекарств у нее, ни санитаров. Случилось как-то раз – дошла она до Колюши. А он уже шевелил руками, двигался. Вокруг трупы. Ну она, естественно, обратила внимание на живого. Спросила:
– Ты кто?
Колюша докладывает: так, мол, и так, воюю краснопупом, а был студентом-зоологом Московского университета.
Студенту она очень обрадовалась и сообщила, что она тоже студентка-медичка из Москвы, мобилизована.
– Очень у нас тут ужасно, – И опять слезы побежали.
Колюша утешает ее: бывает, мол, хуже. Конечно, не сладко, конечно, жалко людей, но вот он, например, выжил! Теперь задача не загнуться от голода. Жрать охота до безумия. Может, он и добыл бы пропитание, но подняться не в силах. Пока до «карих глазок» доползет, измучается.
– Ну это, – говорит она, – я вам помогу, это я сейчас.
И принесла ему котелок гущи, корочку какую-то. У Колюши друг-приятель был Шура Реформатский. А у того сестры тоже медички-студентки. Так что общие знакомые нашлись. Милосердная сестрица с того дня приносила кусочки клейкого хлеба из жмыха. Видно, часть собственного пайка отдавала. И Колюша стал быстро поправляться. Только его организм мог на таком рационе ожить и силу набирать. К стенке спиной прижмется и, помогая руками, всползает, поднимается. Стоял на дрожащих ногах. Сестрица брала его под руку, несколько шагов он делал. Потом сам ходить стал, держась за стенку. В один прекрасный день сестрица Принесла ему бумагу и литер: «Красноармеец такой-то, перенесший сыпнопятнистый тиф, отправляется для поправки на шесть недель домой».
Были у нее на руках еще бумаги такие же на одного возвратника, то есть больного возвратным тифом по фамилии Сергеев. Вроде он выздоравливал, выписывался, а ночью умер.
– Возьми, – предложила она, – тебе пригодятся.
И действительно пригодились.
На следующий день, с рассветом отправился Колюша пешком в Тулу. Одолеть двенадцать километров для него было что отправиться за тридевять земель. Спотыкался, падал, а упав, полз до забора, до дерева, потому что на гладком месте встать не мог. До Тулы добрался к ночи. Пятнадцать часов полз эти пятнадцать километров.
В Туле он знал лишь казармы 113-го полка, где квартировал однажды. Туда и побрел.
В своих рассказах о той поре Зубр ничего не обходил, не выгораживал себя. Что было, то было, не снисходил к объяснению того времени и тех обстоятельств. Воровал, мошенничал, побирался – только что не злодейничал.
Начал он воевать с берданкой 1868 года (как тогда величали ее – «пердянка»), а кончил как-никак с кавалерийским карабином. Отличная по тем временам штука – шестизарядная, надежная, а главное дело – легкая, он с солдатской нежностью вспоминал ее. Раздобыл он ее у какого-то деникинца из «дикой дивизии». Всю гражданскую войну он улучшал себе оружие. Был казацкий карабинчик, был германский, под конец достался этот, деникинский, японский. Когда в тифу лежал, все прижимал к себе свой карабин, боялся без него остаться. Полные карманы обойм сохранил.
Ничего не меняется, слава богу, в человеке. Солдат он всегда солдат. Тридцать лет спустя, на моей войне, я также старался добыть себе автомат. Выменивал на свою семизарядную. Сперва ППШ, потом достался мне ППД… Чисто солдатское стремление. На войне кроме стрельбы, атак и обороны идет еще мена, торговля, всякие бесхитростные комбинации. Кто-то загоняет полушубок, меняет белье на консервы, кирзу на хром. Сколько разных коммерции в маршевых ротах, в госпиталях совершалось, как хвалились удачливой меной. Хвастались друг перед другом своей ловкостью, умением смухлевать, переторговать, махнуться не глядя. Это так же, как храбрый солдат любит рассказывать не про подвиг, а как оробел при бомбежке, как растерялся. В палате из всех фронтовых баек, а их там травят день и ночь, большая часть про то, как драпал, как на мины напоролся, как сплоховал, под наказание попал.
Колюша тоже никогда не расписывал свои доблести, все больше про то, как вляпался в плен к бандитам, как в курицу стрелял.
Добрался-таки, вполз в храпящую духоту ночной казармы и – к дневальному, что кемарил у ночного фитилька. Умолил пустить переночевать. Тот вертел, вертел бумаги, позволил прилечь рядом на топчане. Прилечь Колюша прилег, но спать не мог. Тело болело, ноги ныли. Разговорились. Колюша рассказал, что идет в отпуск, в Москву. Дежурный оживился, и у него сон пропал. Был он коренной москвич, портняжничал на Смоленском рынке. Колюша обрадовался: соседи! Он-то жил рядом. Подымили. Дежурный завидовал – в Москву вернется. Насчет вернется Колюша сомневался: как ползти, неизвестно, ноги не держат, руки не берут, на чем добираться, пропадет он, не одолеть ему дороги. Вспомнил он тут про добавочный документ покойного Сергеева. Показал бумагу дежурному. Тот посмотрел ее на свет, так и этак повертел.
– Замечательный документ, многого стоит, – заключил он. Повздыхал, осторожненько примерился: сколько запросит за та, кую бумагу. Колюша открылся напрямую.
– Бери задаром. Одно условие – не бросай меня. Будь я здоров, я бы не глядя отмахал пешим эти двести верст до Москвы. Ныне в товарный вагон самому и то не влезть. Помоги мне добраться.
Взял с него Колюша клятву, и тот, как ни уклонялся, жуликовато зыркая глазами, вынужден был повторить про смертную лихорадку, что найдет на всех родных, про сепсис ног и лишаи – самому себе, если обманет, бросит… Сепсис наибольшее впечатление произвел на Петю Скачкова – так дежурного звали.
– Ни за что не обману. Мне только моих проведать. – И Петя бил себя в грудь. – Ты ведь мне подарил, себя обделив, за такую бумагу дом в Москве купить можно.
– Да зачем мне дом? – удивился Колюша. – Лучше хлеба в дорогу раздобудь.
Про хлеб он так уверенно сказал потому, что недавно из этих же казарм Колюшу посылали на охрану хлебных вагонов. Охранять-то их охраняли, но голод не тетка – наламывали себе корок хлебных, да впрок. Изнутри шинели нашивали карманы глубокие, куда корки опускали. На это Петр Скачков отвернул полу своей шинели, где такой же карман был нашит. Выходит, нынешний состав «своим ходом» добрался до такого же «органа». Сильно поразила тогда Колюшу эта способность следующих поколений изобретать в точности то же самое, приобретать те же «органы».
Скачков отправился на промысел. Колюша же со своим карабином уселся в казарме дежурить. Часа через два, до побудки. Скачков вернулся, притащил мешок хлебных обломков, где-то еще спер два ломтя шпика и тяжелый кус спекшейся на пожаре соли.
– Лучше всего мотать сейчас, – предложил он. – Я уже присмотрел на путях не шибко разбитый вагон.
Пришли на товарную станцию. Там, где надо было пробираться под эшелоном, Скачков тащил Колюшу за шкирку. Поднял в товарный вагон. Разместились с подветренной стороны по ходу. Скачков побежал раздобыть буржуйку: весна стояла холодная, утром лужи хрустели. Буржуйку где-то стащил, досок наломал от забора. Устроились солдатики совершенно замечательно. Буржуйку калили нещадно, благо тяга на ходу была исключительная. Кипяточек – в любое время, хлебушком заедали да еще сальце сверху. Скорость была километров сорок в сутки. До Москвы неделю тащились. Вышли на площадь – все на месте: Казанский вокзал, Николаевский, бабы в ряд сидят с корзинками. А в корзинках – семечки, печеная картошка, лепехи. Москва! Счастье-то какое! Извозчики стоят. В цилиндрах, важные.
Колюша тем не менее предлагает:
– Давай наймем? Въедем в стольный град на коне.
– Это на какие же шиши наймем?
– А за кусок сала.
Выбрали, у кого лошадь белая. Ну не совсем белая, чалая была.
– Ты сало любишь?
Извозчик на них сверху прицелился.
– Сало в Москве не растет. Показали ему большой шматок.
– Хочешь? На Смоленский рынок нас, только чтобы рысью.
На рысях, на чалом коне ехали они, стоя в пролетке, до самого дома в Никольском переулке.
У матери в доме была благодать. Работало центральное отопление. Несмотря на разруху, газ подавали. В ванной была горячая вода, и Колюша три дня лежал в ванне, отмачивая грязь госпитальную, копоть паровозную, наслаждался покоем, превращался, как он говорил, в недорезанного буржуя.
В ту пору он был для всех Колюша. Во многих старых московских семьях и до сих пор его зовут Колю-шей. Когда я «завожу» на рассказы о нем, то и дети и внуки повторяют: «Колюша, Колюша», что мне странно, поскольку я узнал его могучим Зубром в мерцающем ореоле славы и легенд, свойственных великим личностям.
Глава седьмая
Это началось в гражданскую войну и в послевоенные годы. Военный коммунизм, нэп – годы, дух которых мы знаем меньше, чем дореволюционную жизнь. Пушкинскую эпоху, екатерининскую, даже, может, петровскую представляем себе лучше, чем парадоксы двадцатых годов.
– Повоюем немножко, отгоним беляков, отдохнем, снова воюем, а как часть нашу разобьют, возвращаюсь в Москву, в университет, к своим рыбам, в кружок, которым тогда увлекался: логико-философский с математическим уклоном. Потом опять в армию, катим на фронт. Потому что стыдно – все воюют, а я как бы отсиживаюсь. Надо воевать! Постигнуть мозаику той жизни вам не дано. Неделю занимаешься какой-нибудь Софией Премудростью Божией, на следующей – едешь на деникинский фронт…
Не будем приукрашивать: Колюша шел в Красную Армию не из политических убеждений. Не было этого. Политика не затрагивала его глубоко ни в юности, ни позже. Политические убеждения, как он полагал, есть у коммунистов и беляков. Коммунистом он не был. Беляком тоже. У беляков всяких мнений-убеждений, как он насчитывал, было не менее пятнадцати: и монархия абсолютная, и ограниченная, и диктатура, и буржуазно-демократическая республика одного типа, другого, третьего… У Колюши и близких к нему людей убеждения были не политические, скорее патриотические. Чего это на Россию лезут всякие прохвосты – зеленые, белые, бурые, казаки, поляки, французы, японцы, англичане, антанты и прочие оккупанты? России нужна народная власть. Всю жизнь Колюша упрямо считал, что именно из-за этого первичного чувства их, голоштанных, разутых краснопупов, вооруженных однозарядной «пердянкой» образца 1868 года, не могли одолеть ни беляки, ни их союзники, вся эта шатия.
Насчет разутых – не случайно. В 12-й армии его зачислили в особую лыжную роту 17-го отдельного батальона. Лыж там и в помине не было. Дали им лапти. Да не липовые, как положено, а из ивовой коры, совсем негодные лапти, непрочные и жесткие. Вот так жизнь эта невероятная и шла: «то воевали, то философствовали, то добывали себе чего-нибудь пожрать».
В смысле пожрать он устроился на одно лето пастухом. И был счастлив, ибо убедился, что это лучшая профессия в мире. Во-первых, заработал за сезон во много раз больше ординарного профессора Московского университета. (Тогда профессора разделялись на ординарных и экстраординарных.) Получил натурой два куля ржи. А куль – это семь пудов! Во-вторых, ходил в одежде, которая была выдана: куртка, ватой подбитая, да еще на красной подкладке: очень живописный был вид, двое порток получил, сапоги. Подпаска имел, собаку. Кормился «в очередь». Утречком он собирал коров песней. Шел по деревне, распевая «Выйду ль я на реченьку», и под эту песню вел их. Двустволочка за плечами, – это он гусей диких бил. С приятелем, местным фельдшером, наловчились они валерьянку – а у того было ее две четверти – превращать в спирт. Перегоняли. И гусей запивали этой жидкостью. «Великолепная была жизнь!» На интеллигентную умственную работу устроиться было невозможно. Деньги в цене падали катастрофически. Счет шел на «лимоны», то есть миллионы. Заработать можно было физическим трудом.
Логико-философским кружком руководили Густав Густавович Шпет, смущая умы неслыханными парадоксами, расшатывая самые незыблемые основы этого мира, и Николай Николаевич Лузин, который, будучи крупнейшим математиком, умел находить в ней философскую мысль. Были там философы Сергей Булгаков, Бердяев, которого кружковцы прозвали Белибердяевым.
Семен Людвигович Франк читал пронзительно-напевным голосом: «Искусство есть всегда выражение А что такое выражение? Это самое загадочное слово человеческого языка. Скорее всего оно означает отпечаток. Процесс отпечатывания чего-то в другом. Что-то незримое, духовное таится в душе человека; он имеет потребность сделать его зримым, явственным… Духовное облекается плотью. Но что именно он хочет выразить? Не только себя, а нечто объективное. Что это за „нечто“?»
Из философствующего отрока Колюша превращался в добросовестного зоолога, готового день и ночь возиться со всякой водной нечистью, изучать ее, описывать, довольствуясь скромным положением ученого-ихтиолога Превращение естественное, но с такой же легкостью он превращался в лихого вояку. Руби, коли, вперед, за власть Советов! – и ничего не оставалось от старательного студента. Можно подумать, что в нем вскипала кровь его военных предков.








