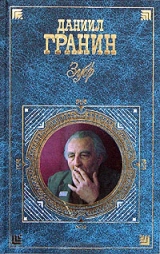
Текст книги "Зубр. Бегство в Россию"
Автор книги: Даниил Гранин
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Авиация перемалывала Берлин в развалины, улицы превращались в горящие тоннели, горели целые кварталы. Огонь с воем поднимал в небо пылающие смерчи. Корчились стальные балки, плавился камень, огонь бесновался, словно выжигал дотла все, бывшее здесь, – парады, пытки, страхи, надежды…
В топку войны фашизм бросил наспех собранные отряды ополчения из шестнадцатилетних школьников, пенсионеров… Женщины, волоча детей, метались со своими чемоданами, выискивая, где бы укрыться.
При этом происходило невероятное: развалины объявлялись площадками для строительства новой столицы. Над дымящимися руинами вешали лозунг: «Мы приветствуем первого строителя Германии Адольфа Гитлера!» Никто не видел в этом абсурда.
Геббельс заставлял всех работников пропаганды смотреть добытый за границей фильм про оборону Ленинграда, чтобы на примере противника они научили берлинцев стойкости и самоотверженности. Однако почему-то фашизм не порождал ни героев Сопротивления, ни героев подпольной борьбы. Ни в Восточной Пруссии, ни в Силезии не было слышно о немецких партизанах. Когда мы продвигались к Кенигсбергу, никто нас не беспокоил в тылу. Фашистские части дрались ожесточенно, в них были фанатики верности фюреру, но не было фанатиков идеи, за которую можно биться после поражения.
Берлинские друзья, знакомые Тимофеевых бежали из города в Бух. В доме Тимофеевых можно было видеть тех, кого выручали в свое время, – советского военнопленного пианиста Топилина, Олега Цингера, какого-то француза-механика, появлялся и исчезал Роберт Ромпе.
В институте наступила тишина и безлюдье. Куда-то пропал Гирнт. Никому уже не было дела до лаборатории. Сошел снег. Парк стоял пустой, почернелый, готовый к весне. Прилетели птицы.
Фюрер взывал по радио: «Я ожидаю, что даже раненые и больные будут бороться до последнего!»
Рядом с институтом на больничной ограде появилась надпись: «Лучше умереть, чем капитулировать!» И еще: «Драться до ножей!»
На следующий день черной краской наискосок было написано: «Нет!» Это «нет!» кто-то бесстрашно выводил и в Берлине на стенах министерств, на стеклах витрин, у входа в метро.
Разноязычный, разноплеменный Ноев ковчег лаборатории то делился, то соединялся. Немцы, воспитанные в беспрекословной дисциплине, хотели выполнить приказ – отбыть в Геттинген. Они боялись оставаться. Повсюду твердили, что русские будут мстить, станут угонять в Сибирь. Ученый, не ученый – разбирать не станут. Тем более церемониться с генетиками, в России генетиков не жалуют
– Зачем мы нужны в стране победившего Лысенко? – пытали они Зубра, имея в виду и его самого. – Они своих генетиков ссылают, нас тем более.
Все сходились на том, что Зубру с семьей следует уехать на Запад. И англичане и американцы охотно примут его, слава его там велика, там полно его друзей, любой университет почтет за честь взять его. Обеспечат чем угодно. Изголодавшиеся, обносившиеся люди, они думали прежде всего о том, где сытнее, теплее. Доводы их были логичны. Логика была за то, чтобы он уехал. И чтобы они тоже двинулись на Запад.
Мимо Буха тянулись повозки беженцев. Катились высокие фуры, запряженные битюгами, вперемежку с мальпостами, садовыми тачками, велосипедами. Несли детей, укутанных в газеты, в портьеры. Брела полубезумная старуха, сгибаясь под тяжестью портрета Гитлера Пригороды Берлина бежали. Поток с каждым днем нарастал. Электричка не работала, связь с городом прервалась. Паническое желание бежать заражало самых рассудительных сотрудников Только воля Зубра могла их удержать. Он же молчал, скрывал свое решение, и они топтались вокруг него. Формально они могли ему не подчиняться. Он ничего не приказывал, но он был вожак.
Он в самом деле не мог знать наперед, как с ним обойдутся, так что никакой уверенности у него не было. Наверняка он понимал, что безопаснее уехать в Геттинген хотя бы на время, отсидеться там, не попадаться никому под горячую руку – ни немцам, ни русским, потом всегда можно будет вернуться. Но он не двигался.
Иногда он все же что-то приказывал Действия его в это период отмечены предусмотрительностью, я бы сказал, дальновидностью, так что, как говорится, он владел ситуацией. Около института в пустом доме Паншин нашел брошенное фольксштурмовцами оружие. Вместе с Перу-старшим, офицером французской армии, они предложили всем вооружиться, чтобы в случае чего дать отпор рыскающим бандам эсэсовцев. Зубр не разрешил С ним спорили, он накинулся на них, категорически запретил брать оружие. И, как потом оказалось, был прав.
Трудно объяснить, почему ему верили, еще труд нее – почему слушались… Политически он был наивен, формально – безвластен. Может быть, потому, что он был для всех русский, советский человек? Он ведь оставался советским гражданином, советским подданным. Но, с другой стороны, все остальные – советские военнопленные, да и немцы, – говорили между собою, что ничего хорошего его не ждет после прихода русских.
Надежды сменялись отчаянием.
Линия фронта приближалась медленно, слишком медленно. Это – для Зубра. Для немцев она приближалась слишком быстро. Для Зубра все выглядело иначе, как в негативе Слухи об армии Венка, идущей на помощь осажденному Берлину, приводили его в уныние. Для него победа шла вместе с советскими танками, она была и спасением Фомы.
Думать иначе, чем думают все, удается не каждому, это всегда трудно, особенно же трудно было среди истеричного крика геббельсовской пропаганды, среди немцев бегущих, замороченных. Два десятилетия жизни в Германии не прошли для Зубра бесследно, в нем накопилось немецкое. И это неудивительно, удивительно другое – как мало он онемечился. Теперь немецкое в нем сочувствовало окружающим, ужасалось, отзывалось на рыдания и смерти, а русское – ликовало, радовалось возмездию.
Советские танки двигались не по бетонным лентам автострад, они пробивались сквозь заградогонь, засады, укрепрайоны. Они должны были форсировать реки, выбивать из дотов… Но как невыносимо было ожидание! Успеют ли они освободить Маутхаузен?
Время испортилось. Нет ничего хуже застрявшего времени, когда все останавливается, часовая и минутная стрелки не крутятся, в голове проворачивается одна и та же бессмыслица. Спрятаться от этого паралича Зубр пробовал единственным способом – хватануть спирта и забыться, отключить ожидание.
Могучий организм мешал ему напиваться до бесчувствия. Выпучив красные глаза, шатался он по институту, по парку, однажды приволок за рога чью-то корову с криком: «Черт! Поймал черта!»
Появился у него собутыльник, немец, маленький горбун из соседнего института. Немец был не то стекло дув, не то монтажник. Он с пьяной бесцеремонностью доказывал, что, когда русские придут. Зубра повесят.
– А тебя? – спрашивал Зубр.
– У меня видишь какие руки? – И он растопыривал свои обожженные, изувеченные работой пальцы. – Я рабочий класс. А если Гитлер удержится, все равно тебя повесят.
– За что?
– За то, что ты устроил тут убежище врагам рейха. У горбуна под Тильзитом погиб восемнадцатилетний сын.
– А где твой Фома?
Они обнимались и плакали, потом горбун отталкивал Зубра:
– У меня русские убили сына, а у тебя его забрали наци. Ты мне враг, а выходит, никакой разницы. Мы оба остались без детей.
– Фома жив! – кричал Зубр.
– Если его казнят, то русские тебя за это помилуют. Зачтут тебе. Но зачем тогда тебе спасение, профессор?
Горбун жалил его, язвил. Зубр мог пришибить его одним ударом, но он становился на колени.
– Так мне и надо. Горбун тряс его за плечи:
– Где моя идея? Ведь у меня была идея жизни – великая Германия. Я ее внушал Ральфу. Где она? Германия – одно большое дерьмо. Ральф погиб за дерьмо.
В апреле в день начала штурма Берлина горбун повесился. Накануне он принес Зубру известие о том, что команду «Мелк», в которую включен был Фома, вернули из Вены в Маутхаузен, вероятно, для уничтожения.
Впоследствии это подтвердилось. В ответ на мой запрос Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма ГДР, подняв все источники, смог сообщить следующее: «Дмитрий Тимофеев, рождения 1923 года, 11 сентября, студент, был препровожден в Маутхаузен 10.8.1944 г.; в команду „Мелк“ послан 14.11.1944 г. Возвращена команда 11—19.4.1945 г.». Установить, что с Фомой стало далее, Центральный архив не мог. Известно лишь, на каких строительных объектах в Австрии использовали заключенных этой команды. Работники архива посоветовали продолжить розыски в венском архиве документов Сопротивления. Оттуда на мой запрос ответили, что дополнительных данных у них нет, и переадресовали меня во французский архив, где хранятся документы Маутхаузена Мне было известно, что Елена Александровна посылала и туда запросы и ничего толком не могла узнать Где-то кто-то сказал, что Фома погиб во время восстания заключенных в Маутхаузене перед самым приходом американских войск Слухи эти дошли до родителей позже, осенью 1945 года А в ту весну они верили, что он жив, ежедневно ждали от него вестей. Фома должен был вернуться, и они должны были дождаться его.
Все понимали, что Зубр остается не только из-за Буха, куда прежде всего кинется Фома. Он нашел бы их и в другом месте. Зубр не та фигура, чтобы затеряться.
Все ученые связаны между собой. Не будучи лично знакомы, они тем не менее знают друг о друге много – о характере, о семье, о пристрастиях. У них действует некое международное сообщество, братство, система оповещения и взаимовыручки. Так, оба брата Перу появились в лаборатории Зубра в результате хлопот научного издательства Пауля Розабуда. Издательство было связано с учеными разных стран Старшего из братьев, Шарля Перу, французского офицера и физика, удалось освободить из концлагеря под предлогом перевода литературы для атомщиков Помогли в этом немецкие физики. Когда Шарля пристроили к Зубру, приехал младший брат. Он привез от Жолио-Кюри обещание оградить Шарля от всяких обвинений в сотрудничестве с нацистами, которые после победы могли быть ему предъявлены
Через эти тайные связи к Зубру поступило первое сообщение о том, что его ждут в Штатах и будут рады предоставить ему лабораторию в одном из университетов, где работали его друзья – Дельбрюк, Гамов, Морган. Он никак не отозвался на это предложение Тяжелый хмель не выходил из него Р. Ромпе был единственным, кто как-то сумел завлечь в эти дни работой, они написали совместную статью «О принципе усилителя в биологии»
– Только силища его таланта могла вытащить его из трясины алкоголя,сказал мне Ромпе.
Глава тридцать третья
Они были тезки и одногодки. Зубр звал его Миколой. Риль звал его Колюшей. На людях они говорили между собой по-немецки, оставаясь вдвоем – по-русски. Николаус Риль происходил из прибалтийских немцев. Начинал он работать как физик у таких великолепных ученых, как Отто Ган и Лиза Мейтнер. Высокие нравственные правила этих физиков несомненно повлияли на Н. Риля. Придет день, когда это поможет ему совершить выбор. Но путь его был витиеватым. В первые годы фашизма Риль был вдохновлен возможностями, которые открылись перед ним, – применить свои способности физика в промышленности. Надо помнить, что изнутри для немецкого обывателя фашизм выглядел совсем иначе, чем снаружи. Все в гитлеровской Германии делалось под лозунгом: для блага народа, во имя будущего великой Германии. Это создавало иллюзии. Да, конечно, антисемитизм, национализм – плохо, но зато отчизна воспрянет!
Перед войной Риль уже заведовал центральной радиологической лабораторией фирмы «Ауэргезельшафт». Он обнаружил предприимчивость, деловую хватку и притом данные незаурядного экспериментатора Ученый причудливо сочетался в нем с промышленником и коммерсантом. С 1939 года он способствовал Зубру в его радиологических исследованиях, помогал радиоактивными веществами. Любовь к Зубру была его тайной данью воспоминаниям детства, России и той верности чистой науке, которая быстро исчезала в Германии.
Разворачивалась война с Англией. Риля вызвали в военное министерство, предложили заняться производством урана для уранового проекта. Скоро стало ясно, что на самом деле заказ имеет цель наладить получение урана для атомных бомб. Немцы, как известно, первые, раньше американцев, начали работы над атомной бомбой. Проблема увлекла Риля. Для ученого всякая интересная проблема – великий соблазн, часто перевешивающий нравственные соображения. Риль работал самозабвенно. Его энергия, изобретательность позволили в короткие сроки развернуть промышленное производство металлического урана. Пришлось создавать технологию нового производства. К тому времени Риль стал главным химиком «Ауэргезельшафт».
История работ над атомной бомбой в нацистской Германии запутана, таинственна. Несмотря на усилия историков, многое в ней остается неясным. В одном серьезном исследовании сказано:
«Неудачи Германии в деле создания атомной бомбы и атомного реактора часто объясняют слабостью ее промышленности в сравнении с американской. Но, как мы теперь можем видеть, дело заключалось не в слабости немецкой промышленности. Она-то обеспечила физиков необходимым количеством металлического урана».
Действительно, семь с половиной тонн урана было произведено уже в 1942 году.
Мнения историков расходятся: одни считают, что немецких физиков преследовали неудачи, бомба не получилась из-за просчетов, досадных случайностей, другие полагают, что и Гейзенберг, и Вайцзеккер, и Дибнер незаметно саботировали атомные работы. Их неудачи – неслучайность, а умысел. Они ясно понимали, что нельзя давать в руки Гитлеру столь страшное оружие. Делали вид, что занимаются изготовлением, темнили, ловко использовали льготы, избавляя от армии талантливых ученых, спасали немецкую физику. Не науку ставили на службу войне. «Война на службу немецкой науке!» – вот каков был их тайный лозунг.
В Бухе атомщики работали рядом с Зубром. Это был другой институт, но Зубр знал их, во всяком случае группу Гейзенберга. Что касается Лизы Мейтнер, то он помог ей устроиться в Англии, куда она бежала от нацистов. Известно, что он помогал и другим физикам. На мои расспросы о Гейзенберге Зубр отвечал, что вряд ли Гейзенберг и его окружение старались сделать бомбу, не похоже. Во всяком случае поначалу они не торопились. Более определенных высказываний он избегал. Работы эти были секретными, и он мог лишь о чем-то догадываться по настроению Гейзенберга, по некоторым его замечаниям. Но мнение Зубра существенно. Когда дело касалось чьей-то репутации, он становился осторожным.
С 1942 года Риль стал собирать все запасы тория в оккупированных европейских странах. Это был реальный капитал, ценность которого понимали только осве домленные. Постепенно в его руках сосредоточились огромные богатства – уран, торий…
Кроме группы Гейзенберга над бомбой работала вторая, не зависимая от нее группа физиков Дибнера. Работали они успешно, дух соперничества подстегивал их. Все благие намерения вскоре стали отступать перед азартом гонки: кто – кого, кто первый. Оправданием была любознательность. Чистое, казалось, бескорыстное чувство, из которого родилась наука. Опасное чувство, когда забываешь о любых запретах, лишь бы проникнуть, узнать, что там, за занавеской…
Но и Риль, и Гейзенберг, и Дибнер, и Вайцзеккер, как ни хитрили, в конце концов оказались в ловушке. Даже если поверить безоговорочно в их антифашистские настроения – все равно им не удалось удержаться. Тот, кто вступал на эту дорогу, попадался в капкан.
То одна группа, то другая получала обнадеживающие данные. Еще немного, совсем немного – и реактор заработает как следует. Бомбы тут ни при чем, уверяли они себя, реактор будет означать только атомную энергию. Точнее, возможность цепной реакции с имеющимися у них материалами. Ясно, что Германия проигрывает войну, зато реактор поможет ей выиграть мир, она опередит все страны в такой решающей области, как атомная энергия. Германия станет продавать энергию, чтобы восстановить разрушения…
Впоследствии Вернер Гейзенберг так сформулировал свое отношение к созданию бомбы: «Исследования в Германии никогда не заходили столь далеко, чтобы потребовалось принимать окончательное решение об атомной бомбе».
Не заходили потому, что наступление Советской Армии не позволило зайти.
Да и кто бы принимал окончательное решение? Вряд ли бы оно зависело от физиков.
А если бы зашли далеко? Удержались бы немецкие физики от искуса сотворить бомбу? Испытать ее?..
Что происходило дальше с немецкой бомбой. Об этом придется рассказывать, ибо она связана с судьбой Николауса Риля, которая в свою очередь, связана с судьбой Зубра.
Итак, разгром Германии приближался, броневой вал советских танков накатывался, и обе группы физиков изо всех сил торопились изготовить практический атомный реактор. Мешали тревоги, бомбежки, эвакуация.
В берлинском бункере в конце января 1945 года принялись собирать большой реактор. В эти дни из Берлина побежали те, кто мог. Нарастала паника. Персонал нервничал. Когда эксперимент, в сущности, был подготовлен, поступило распоряжение об эвакуации. Еще каких-нибудь два-три дня, и эксперимент осуществился бы. Но этих дней не было.
Счет пошел на часы. Обливаясь слезами, проклиная и Гитлера и Советскую Армию, физики демонтировали реактор, не успев его испытать. 31 января груженые машины двинулись в Тюрингию. Из городка Штадтильм пришлось переезжать дальше, в Хейгерлох. В конце февраля группа Гейзенберга обосновалась и стала собирать в пещере Хейгерлоха новый котел. Наконец в последний день февраля котел запустили. Реакция не получилась. Гейзенберг подсчитал: надо добавить тяжелой воды и урана. Эти материалы были, но доставить их из-под Берлина оказалось невозможно. Опоздали. Нарушилась телефонная связь, не хватало электроэнергии, бомбили дороги. Германия агонизировала.
Еще в сентябре 1944 года при бомбардировке Франкфурта сгорели заводы по очистке урана. Пробовали налаживать завод в Рейнсберге, но пустить не успели, подошли советские войска. Остались заводы в Ораниенбурге. Вместе с Бухом Ораниенбург должен был отойти в зону советских войск. Американцы к тому времени уже прознали об атомных работах немцев. Подробностей они не знали, знали, что немцы работают вовсю. Была создана «Миссия Алсос», проще говоря, спецгруппа для захвата материалов, документов по атомной бомбе и ученых-физиков. Американцы боялись, чтобы все это не попало русским. Генерал Гровс, руководитель американского атомного проекта, указал «Миссии Алсос» на Ораниенбург как на важнейший объект. Прикинули и решили послать туда инженерную команду демонтировать урановый завод, захватить специалистов во главе с Н. Рилем. Перед этим были захвачены профессор Флейшман, специалист по разделению изотопов урана, и еще семь физиков. Таким же манером были «добыты» Отто Ган, Багге, Вайцзеккер, затем – Дибнер, Лауэ и сам Гейзенберг. Война гналась за атомщиками уже в прямом смысле. Немцы спохватились, но было поздно. История отомстила гитлеровцам за пренебрежение наукой, за презрение к высоколобым, за ненависть к интеллекту, к своей собственной культуре.
Проникнуть в Ораниенбург не удавалось. Генерал Гровс просил командование ввести туда американскую часть, но военные побоялись осложнений, которые могла вызвать незаконная акция. Тогда Гровс потребовал у генерала Маршалла, пока не поздно, разбомбить завод. Маршалл медлил, не видя военной необходимости. Гровс настаивал, угрожал и все же добился:
15 марта шестьсот бомбардировщиков – «летающих крепостей» несколькими волнами обрушились на этот город, превратив его в развалины. Уничтожено было все начисто.
Риль чудом выбрался из пылающего города и ушел в Бух к Зубру. Подлинная причина этой страшной бомбардировки была ему ясна. Американцы не могли не знать хотя бы от захваченных ученых, что ни о какой немецкой бомбе не могло быть речи. Реактор и тот не успели испытать. Следовательно, урановые заводы разрушили только затем, чтобы они не достались русским. Для этого Ораниенбург сровняли с землей. Не нам, американцам, – значит, никому! Риль негодовал, ругался. Получилось, что русские еще воюют с фашистами, а американцы, союзники, тем временем воюют с русскими. Разве союзники так поступают?! Что бы ни говорилось о политических соображениях, никакие высокие слова тут не могут служить оправданием. Уничтожить производство, в которое он, Риль, вложил столько сил, его детище, его выдумку! Постыдная акция! Он повторял слова Ратенау о том, что если средства безнравственны, то и цель безнравственна. Цель – любимое оправдание безнравственных.
Бомбардировка подтолкнула Риля. Решение, которое он принял, было не столько за Россию, сколько против Америки.
– Пока гром не грянет… – обиженно заметил Зубр. – Ну, ладно, аминь тому делу!
Приободренный Зубром Риль остался вместе с ним ждать прихода русских.
Тем временем среди развалин Ораниенбурга Риля искали эсэсовские офицеры. Они получили задание проверить, не осталось ли поблизости от фронта важных засекреченных исследовательских групп. Кого находили, тому приказывали немедленно отправляться на юг в «Альпийский редут». За неподчинение – расстрел. В «Альпийский редут» собирали конструкторов, связанных с проектом новых баллистических ракет, с про изводством Фау-2, стали собирать атомщиков, узнав, что за ними охотятся американцы. «Редут» помещался на стыке границ Германии, Австрии, Швейцарии.
Буховским институтом не интересовались. Лаборатория генетики не принадлежала к важным объектам. Там возились с какими-то мушками, никаких спецзаданий они не имели. Риль мог спокойно отсиживаться здесь до прихода Советской Армии. Спокойно – так говорится. Спокойных не было. «Как меня примут русские?» – размышлял вслух Риль. «Прекрасно примут», – уверял Зубр. И насчет американцев из «Миссии Алсос» успокаивал: «Сюда они не сунутся, они нас боятся». Нас – означало русских.
Шла охота за мозгами – первая в истории охота такого рода.
Риль понимал, что; уговаривая его, Зубр ничего определенного знать не может, что уверенность его ни на чем не основана. Тем не менее она действовала. Более всего действовало то, что сам Зубр оставался, и не так, чтоб примеривал, где лучше, где выгоднее.
Ему нужно было оставить не только Риля, но прежде всего своих сотрудников-немцев, ядро лаборатории. Порознь они не представляли той силы и ценности, как вместе. Последние дни, последние часы давала им война для выбора. Бежать или остаться? Восток или Запад? Куда податься? Циммер привык верить шефу, слишком часто тот оказывался прав. Борн нервно высмеивал его веру – чем может шеф поручиться? Где гарантии? Каторжный труд в Сибири – вот что их ждет.
Среди русских в Германии действовала специальная организация по переброске желающих на Запад. Раздувались гнетущие страхи, посулы и предложения сбивали с толку растерянных людей.
А «час ноль» приближался.
– Помните, Николаус, как вы трусили, когда мы к Нильсу Бору ехали? – Зубр начинал крупно трястись, изображая Риля.
Все смеялись, но как-то принужденно, а Циммер говорил:
– Вам-то что, вас Бор принял, вас и большевики примут, а что они сделают с нами?
Все разговоры, размышления сводились к этому подступающему «часу ноль».
Ни доводы, ни логика не действовали, требовались иные силы, чтобы удержать людей.
В эти дни появился молодой англичанин, вернее ирландец, еще вернее – ирландский австриец, который мог выдавать себя за немца, за швейцарца, а также за голландца, датчанина, тирольца и фламандца. Известно, что он был биохимиком, имел рекомендательные письма из Кембриджа. После первого же разговора Зубру стало ясно, что этот симпатичный веселый парень в солдатских сапогах и шапочке с пером послан к нему той самой «Миссией Алсос», на сей раз с деликатной миссией. Зубр был трезв и слушал его не перебивая, свесив губу.
– На что вы надеетесь?
– На своих, на русских, – буркнул Зубр.
Парень этот взглянул на него внимательно, некоторое время продолжал про условия в американских университетах, про ставки, коттеджи, потом как бы между прочим обронил о слухах насчет Вавилова, есть сведения, что он погиб, его уничтожили.
– Николай Вавилов? Николай Иванович?
Голос у Зубра перехватило. Не может быть, невозможно! Но чутье подсказывало ему, что это правда. Вавилова нет, его не существует. Треснула подпора, оборвалась часть его собственной жизни. Он стал уже не таким живым, каким был, и эту мертвую часть, холодеющую часть души он ощущал. Там было погребено будущее, надежды, связанные с победой.
Очнулся он в парке. Крепко держа гостя под руку, он вел его к шоссе Подумал, что гость не случайно сказал про Вавилова, что был у него расчет использовать и это: все годится, все идет в дело.
У него не было сил озлиться. Ровно и тихо выложил он, как претит ему бесцеремонность, с какой американцы торопятся захапать башковитых немцев, как грабят они интеллект этого и без того изуродованного народа. Как будто собирают трофеи своей победы. Можно подумать, что это они, американцы, разбили немцев.
Биохимик нисколько не обиделся.
– Любая политика – грязь, – сказал он. – Мы с вами не политики. Нам, ученым, хорошо там, где есть условия заниматься наукой. Здесь ведь вам было неплохо, не так ли?
Этот второй удар он нанес без всякой жалости, безошибочно. Зубр скривился от боли, представил, сколько таких ударов его ждет впереди. Бесполезно было объяснять что здесь он был советским гражданином, а там, в США, он будет эмигрантом. Что здесь он оставался, а туда, в Штаты, он убежит…
Он выпроводил биохимика на шоссе, запретив ему говорить с кем-либо из сотрудников. Как вожак он охранял свое стадо от рыскающих хищников.
– Почему вы думаете, что вас не повесят? – спрашивали в лаборатории. – А заодно и нас?
– Да потому, что это русские, а не фашисты. Они спасли Европу, – отвечал он, понимая, что такие ответы их не удовлетворяют. Ничего, кроме ожесточенной веры, у него не было.
Он вдруг почувствовал, как сильны его корни, которые, оказывается, не засохли за все эти годы. Теперь ничто его не могло стронуть с места.
Это не был даже выбор. Под мощным прессом пропаганды человек практически не мог устоять, его сминало, «божья глина» расплющивалась, принимала всеобщую форму. Свободы выбора не было. Непонятно, каким образом он сумел сохранить себя.
В парке находили трупы самоубийц, трупы расстрелянных. Никто не покидал Буха. Все жались к Зубру, затихшие, готовые ко всему. А жена Паншина считала в пробирках мух и пела. Советские школьные песни и пионерские песни.
Глава тридцать четвертая
В одном из писем Олег Цингер довольно красочно описал мне эти дни 1945 года:
«Я жил в Берлине, делать было нечего, еды тоже не было, и я обычно лежал на койке или слонялся по разрушенному городу Ночи проводил где-нибудь в бомбоубежище. Сговаривался с друзьями, чтобы попасть в более надежный бункер. Питался кое-как, носил на себе сразу три рубашки, три пары носков и всегда при себе чемоданчик с самыми нужными вещами. Квартира наша сгорела, с женой мы развелись, обитал я в ателье одного приятеля, который уехал в Австрию. Жена с сынишкой сняла комнату в Бухе, неподалеку от института Тимофеевых. Однажды весной я решил навестить жену, что я регулярно делал. На подземном вокзале я узнал, что поезда идут только до Буха, а не до конечной станции Кэро. Бросилась в глаза небывалая суета, множество солдат, вооруженных, в касках и со связками сеток для маскировки. В поезде все говорили, что русские уже в Кэро и поезда обстреливают. На станции в Бухе я увидел дыры от обстрела с самолета. Жена была дома. Наш друг Селинов сидел у нее. По радио просили уходить в бункер. Мы втроем отправились в главный, большой бункер в парке. Там мы провели две ночи, и там я открыл двери первым русским солдатам. Это были парни лет девятнадцати. Не буду описывать эти трогательные сцены. Тут было все!
Комната моей жены в Бухе была конфискована военными, мы, чтобы не остаться на улице, потащились с нашими чемоданчиками, конечно же, к Тимофеевым. Колюша и Лелька встретили нас радостно. Они успели пережить много за эти волнующие часы».
Тут я подверстаю отрывок из письма Игоря Паншина:
«Ночью все собрались в подвале дома, где живут Тимофеевы. Н. Риль, Р. Ромпе, оба Перу, Канелис, все наши, немцы – Циммеры, Эрленбахи – и другие неизвестные мне люди. Ночью тихо. Спим на полу вповалку… Утром и днем звуки боя все ближе. Из отступающих немецких частей только две батареи на конной тяге. Затем близко автоматные очереди. Редкие. Выхожу из дома. По полю идет несколько наших солдат (отделение, не больше). Беру белую тряпку, иду навстречу, кричу:
«Тут русские, свои, немцев нет!» Один из солдат, наставив автомат, идет ко мне, говорит: «Знаем мы этих своих…» Подходим к дому Тимофеевых, заходим в вестибюль, тут уже многие говорят по-русски. Со стороны института входит другая часть, там есть старшие офицеры. Я впервые вижу погоны, путаюсь в знаках различия, а Николай Владимирович все знает. Начинаются объяснения – что мы за люди. Вникать в подробности нет времени, части идут штурмовать Берлин. Я было хотел пойти с ними, лейтенант спросил: «Берлин хорошо знаешь? Если да – то возьмем». Берлин я знал плохо…»
Далее снова идет одно из писем Олега Цингера:
«…И вот мы оказались в опустевшем Бухе. Очень много людей покинули институт. Некоторые врачи покончили с собой, на территории институтского парка остались только кой-какие немцы, Колюша с женой, семья Царапкиных, один советский пианист, научные сотрудники и лаборанты Колюши. Как это произошло – не знаю, но мы сразу превратились в какое-то „собственное государство“, и Колюша превратился в главнокомандующего. Колюша дал себе титул „директора института“. Это было наивно и чревато последствиями, ибо всего института Колюша не знал, не знал, что происходило в госпиталях, да и не мог знать, он заведовал только генетическим отделом. Первая задача была оградить институт от всяких грабежей и порчи оборудования. Для этого был послан Селинов с грудой плакатов, написанных мной, чтобы он разместил эти плакаты по территории. По-русски было написано, что это научный институт, запрещается ломать, портить, брать… Первое время плакаты не помогали».
В институте хранились запасы метилового спирта. Зубр приказал уничтожить его, чтобы избежать несчастных случаев. Ночью сотрудники спустили весь спирт в канализацию.
Сумел договориться с медиками какой-то части, и к институту поставили советского часового с винтовкой. В институт перестали наведываться кто попало.
Весна 1945 года в Бухе была теплой, солнечной. Пока ни один человек из лаборатории не уехал, не ушел. Все ждали чего-то. Работать никто не мог, сидели за столами, кормили животных, переставляли приборы с места на место.








