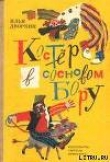Текст книги "Дорога на Стрельну (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Даниил Аль
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Он правду говорит, – возразил Андрей. – У нас был серьезный бой с противником.
– А ну, дыхни, – сказал лейтенант Шведову и приблизил нос к его лицу. – Ясненько. Пьяные дезертиры. Ладно, хватит толковать. Клади оружие.
– Товарищ лейтенант, разрешите...
– Кладите оружие, я вам приказываю!
Андрей покачал головой, вздохнул и бросил на кучу трофеев автомат, потом пистолет.
– Ишь, чего только не насобирали, – с укоризной сказал один из красноармейцев.
– Убитых обобрали, – отозвался другой.
– Зачем выдумываете?! Зачем врете?! – воскликнул я. – Вам же сказано: мы взяли оружие в бою у врага.
Карнач ехидно усмехнулся.
– И пистолет ваш командирский – тоже у врага?
Я ждал, что Шведов сейчас объяснит, откуда у него пистолет. Но он молча взялся за ремень винтовки, чтобы снять ее со спины. Тут я не выдержал.
– Эй вы! – закричал я лейтенанту. – Не смейте оскорблять этого человека. Андрей, не отдавайте винтовку! Они не имеют права! Надо их самих проверить! Что они тут делают?! Не отдавайте винтовку, Андрей!
– Что?! – воскликнул лейтенант. – Взять его.
Красноармейцы приблизились ко мне, но я отскочил назад, на шоссе.
– Не подходить! – заорал я и положил руку на автомат.
– Отставить! – гаркнул на меня Андрей. – Выполнять приказание старшего без разговоров!
Он подскочил ко мне, выхватил автомат и бросил на кучу других.
– Что ты делаешь, дурень?
– Я правду говорю! Правда на нашей стороне!
– Главная правда на войне – это дисциплина. Не будет ее – конец всем нашим правдам... Ваше приказание выполнено, товарищ лейтенант, – обернулся Андрей к лейтенанту. – Оружие сдано. А на ваши неправильные действия я буду жаловаться, товарищ лейтенант. Доставьте нас в штаб. Дело не ждет.
– Доставим. Доставим куда следует. А потом жалуйтесь сколько влезет.
Лейтенант скомандовал:
– Снять с них ремни. А вы оба – руки назад!
Карнач подошел ко мне и, обхлопав меня ладонями, обшарил карманы. У Шведова он забрал кремень и кресало.
– Добрая машинка. Пускай у меня побудет. – Он положил огниво к себе в карман.
Нас повели в сторону Сосновой Поляны. Двое красноармейцев понесли плащ-палатку с оружием.
За день обстановка резко переменилась. Утром на шоссе и по обеим сторонам его было пустынно. Теперь здесь стало очень оживленно. По склону возвышенности, что тянется справа вдоль дороги, между кустами и деревьями осторожно спускаются раненые. У кого перевязана голова, у кого рука, кто прыгает, опираясь на винтовку или на палку.
Впереди, возле обочины, стоят запряженные лошадьми медицинские повозки с красными крестами на бортах. Медсестры подсаживают раненых. Легкораненые бредут к городу пешком...
Еще дальше, впереди, стоит выкрашенный в бурый цвет автобус. В него через дверь, открытую в задней стенке, с носилок грузят раненых.
За возвышенностью, которую занимают наши войска, идет бой. Отчетливо слышится неумолкающая пулеметная стрельба. Тяжелые снаряды наших пушек, перелетающие за дорогу, рвутся теперь где-то совсем близко за горкой. В отдалении грохочут разрывы бомб: фашистские самолеты бомбят наши позиции под Урицком и Пулковом. То и дело стегают по ушам залпы небольших пушек, стоящих на горе над дорогой.
На склоне, на самом шоссе и слева от него, на болотистой равнине между шоссе и заливом, то здесь, то там, изредка вздымаются столбы земли, поднятые вражескими снарядами и тяжелыми минами. Весь этот грохот, свист, вой, треск сливается в непреходящий общий гул. "Если цепочка наших частей на противоположном склоне возвышенности будет прорвана, – подумал я, сюда, на дорогу, вслед за ранеными, которые идут все гуще, начнут спускаться фашисты".
На равнине между шоссе и заливом теперь тоже много людей. Рабочие растаскивают по полю броневые колпаки. Каждый колпак за буксирный крюк тянет тросами целая артель человек из десяти – двенадцати рабочих парней в кепках и ватниках. У всех за плечами винтовки. Такие же парни катят по полю станковые пулеметы. Очевидно: под броневыми колпаками тотчас после их установки должны расположиться пулеметчики...
Солнце садилось в тучи. С моря подул жесткий ветер. Ноги в промокших ботинках застыли. Подошва на левом ботинке, которую я зацепил за корягу, еще когда бежал в атаку на трамвай, теперь и вовсе оторвалась. При каждом шаге она мерзко хлопала...
Красноармейская каска, ранец, гражданская тужурка и брюки, хлопающая подошва – вид у меня и впрямь дезертирский.
Чтобы поглядеть на нас, раненые приподнимали головы над бортами повозок.
Мне казалось, что даже лошади неспроста покачивают головами.
Над бортом одной из повозок поднялась забинтованная голова. Из-под повязки были видны только глаза. Встретив взгляд, полный презрения, я не удержался и крикнул:
– Товарищ! Мы не дезертиры! Это ошибка! Честное слово!
Повязка там, где был рот, зашевелилась. Я не слышал, что раненый произнес. Но глаза смотрели на меня все так же презрительно и зло.
– Будешь орать – дальше не поведу. Отдам на их суд. – Лейтенант кивнул в сторону группы раненых, которые стояли возле повозок.
– Ну и отдавайте! Любой поймет: нас не за что наказывать!
– Молчи, Саня, молчи! – процедил Андрей. – Разберутся.
Бойцы в окровавленных повязках, скопившиеся у повозок, тоже смотрели на нас с презрением.
– Куда их ведете? Шлепнуть надо на месте, – деловито сказал один из них.
– Шлепнут где положено, – заверил его наш лейтенант.
Все кипело во мне от обиды. "За что? Почему такая несправедливость? Почему такое недоверие? Кто он такой, этот злобный лейтенант? Кто дал ему право так поступать? Ну, ничего! Андрей сказал, что мы будем на него жаловаться. Уж я распишу его начальству, какое барахло его подчиненный! Я про него в газету напишу!"
Андрей шел молча. Без ремня, без оружия, со сложенными за спиной руками, с опущенной головой, он был совсем на себя не похож.
Я смотрю на него, и мне вдруг начинает казаться, что человек, понуро шагающий передо мной, лица которого я не вижу, вовсе не Андрей, а кто-то другой, незнакомый... Дезертир какой-то, которого поймали и ведут под конвоем. Шведов в это же самое время живет в моем сознании отдельно от этого, бредущего впереди. Живет таким, каким он был: подтянутым, при оружии... И в бою, с пулеметом... И там, в трамвае, с трофейной картой... Ни с того ни с сего в моей голове громоздятся странные воспоминания далекие, неуместные. Я вижу себя в самый первый день в школе. Вместе с такими же малышами я топаю по кругу в большом двусветном зале. Мы разучиваем песенку и в такт шагам поем:
Вейтесь, красные знамена,
Славься, красная звезда,
Пролетарская пехота
Не сплошает никогда!
В момент этого хоровода-игры я, конечно, ощущал себя "пролетарской пехотой". Позднее пришло понимание, что я – это мальчик Саня, а боец Красной Армии – это тот взрослый человек, советский часовой, изображенный на плакатах в буденовке и в длинном тулупе, сжимающий могучей рукой свою винтовку со штыком... Людей в серых остроконечных шлемах я встречал постоянно. Они шагали строем по улицам – то на парад с винтовками у плеч, то в баню с полотенцами и мочалками под мышками... Каждую весну они шли в летние лагеря. Тогда винтовки висели у них за плечами, мерно покачивался строй штыков... Ходили они с песнями. Одну песню пели чаще других:
Но от тайги
До британских морей
Красная Армия всех сильней!..
Это была сама правда: конечно, всех сильней!.. И от этого было радостно. Разве это не прекрасно, что армия, рожденная революцией, армия защиты свободы и равноправия всех людей на земле – белых, желтых, черных сильнее, чем армия буржуев, помещиков и фашистов?! И я всю жизнь люблю ее, нашу и мою Красную Армию, непобедимую и справедливую. Потому и непобедимую, что справедливую...
Вот я, кажется, уловил кончик нити моих мыслей и понял, почему они приняли такое направление. Да потому, что Андрей Шведов, о котором я думал, – это и есть Красная Армия. Он олицетворяет в себе все то хорошее, что связано в моем сознании с ее бойцом – красноармейцем. Он мужественный, умелый воин. А главное – он хороший и честный человек. Я убеждался в этом не раз за сегодняшний день. И я уверен: таким он будет всегда, всю войну. И когда война кончится – тоже. В какую бы страну ни пришел такой боец, как Андрей Шведов, он принесет справедливость и помощь. Его рука, которая не дрогнет в бою с врагом, никогда не поднимется на слабого и безоружного. Никогда не протянется за чужим имуществом... Я и сейчас, шагая по этой дороге, не сомневаюсь в том, что Красная Армия всех сильней, несмотря на то что от британских морей до самого Финского залива прошли по Европе фашистские полчища. Не сомневаюсь потому, что бойцы Красной Армии – это такие люди, как Андрей Шведов... Однако толстолицый лейтенант – это ведь тоже Красная Армия... И сержант, положивший себе в карман огниво Шведова, тоже Красная Армия... И как это может быть, что такой человек и такой храбрый воин – Андрей Шведов – объявлен дезертиром, обезоружен, унижен, опозорен?! Как это может быть, что его ведут как пленного врага в то время, когда враг настоящий тут, рядом, когда кадровые бойцы так нужны в рядах защитников Ленинграда, среди которых много таких же вояк, как я... Нет, такого просто не может быть! Тем не менее это происходит. Передо мной со сложенными за спиной руками шагает Андрей Шведов. За ним в таком же положении бреду я. Нас сопровождают четыре бойца во главе с лейтенантом. Вместе мы чуть не целое отделение. Нам бы всем сейчас на передовую, влиться бы в оборону. Чего бы не отдал я в эти минуты за то, чтобы взять в руки винтовку, пойти туда, на возвышенность, и вместе с другими вступить в бой. Ну, почему нам так не повезло? Почему меня не ранила ни одна фашистская пуля? Недаром сказано: пуля дура! Тут мне приходит в голову мысль, страшная тем, что она одновременно и отвратительная, и правдоподобная. А что, если дезертир этот лейтенант? Что, если мы для него удобный предлог для того, чтобы уйти подальше в тыл? Каким же надо быть негодяем, чтобы ради спасения собственной шкуры так опозорить, а то и погубить ни в чем не повинных людей, вырвать из обороны стольких бойцов?! Гоню эту мысль прочь. "Нет, нет. Нет у тебя оснований так думать", говорю я себе. Но ведь у него, у этого лейтенанта, еще меньше оснований думать, что мы с Андреем дезертиры!..
Чем дальше мы шли по шоссе, тем дальше вправо уходили звуки боя. Линия фронта изгибалась на юг, к Пушкину.
В небе над Урицком четко обозначилась граница между закатом и заревом. Отсветы пламени, запаленного здесь людьми, были куда ярче отсветов солнца. Мы свернули с шоссе и поднялись по отлогой дороге. Она привела нас в сад, обнесенный дачным забором. У края сада, возле дороги, стоял большой сарай. К его задней, обращенной к шоссе стене прижались машины. Одна "эмка" и две полуторки. В середине сада темнел двухэтажный кирпичный дом.
На крыльце я увидел часового с автоматом. Рядом с ним стоял старшина в фуражке пограничника. Завидев нас, старшина воскликнул:
– Що це хиба за опэрэта, товарищ лейтенант?
– Дезертиров задержал, – по-деловому отвечал тот, – аж от самого Ораниенбаума драпанули.
– Притомились, значит, бедолаги, – усмехнулся старшина. – А сюда-то зачем приволокли, товарищ лейтенант?
– Как то есть зачем? В Особый отдел.
– Не по адресу, – сообщил старшина. – Особый часа три назад как отсюда выехал.
– А куда? – с тревогой в голосе спросил лейтенант.
– Да бис их батьку знае. Хиба ж воны станут старшине Доценке докладывать. Вроде бы к Лиговскому каналу перебазировались. Поближе к первому эшелону штаба дивизии.
– А здесь кто же остался?
– Строевая часть. Начфин-майор со своими писарчуками. Взвод охраны штаба. Ну и старшина Доценко за коменданта второго эшелона штаба дивизии. – Последние слова старшина произнес сугубо серьезно.
Лейтенант был явно озадачен.
– Куда же мне их девать? – спросил он упавшим голосом.
– Ведите в Особый, куда же еще.
– Так ведь там, у канала, где их теперь найдешь?! Там теперь такая каша – не разберешь, где наши, где немцы... А эти субчики, чего доброго, в перестрелке к противнику перемахнут.
– Этот лейтенант боится идти туда, где стреляют, – злорадно заявил я, чувствуя, что попадаю в цель.
– Молчать, дизик! – рявкнул лейтенант. – Слушай, Доценко, – обратился он к старшине, – возьми ты их пока и запри в какой-нибудь комнате. А я переговорю с начальством. Пусть решают, что с ними делать.
– Для хорошего человека чего и не сробишь, – согласился старшина. Эй вы, вояки, – крикнул он нам, – заходьте до хаты!
В сенях у меня отобрали ранец. Потом нас завели в пустую комнату. В ней не было никакой мебели. Мы с Андреем сели на пол возле стены. Не хотелось ни говорить, ни думать. Я вытянул ноги, гудевшие от усталости. Сил не было даже на то, чтобы стянуть с себя тужурку. Хотелось только одного – спать. Заплетающимся языком я сказал:
– Хорошо, что здесь не Особый отдел... Хорошо, что этот трус лейтенант нас туда не повел.
– Чего ж хорошего, – ответил Андрей. – Там-то уж точно нас допросили бы. А ведь нас если выслушать, сразу все ясно станет. Да и положение на фронте в Особом наверняка лучше знают, чем здесь, в тыловом эшелоне штаба дивизии. Значит, поняли бы: не прошли мы в Ораниенбаум, и все тут... Таких, как мы, сегодня должно быть немало. – Андрей говорил, кажется, еще что-то, но я уже ничего больше не слышал.
Во сне я побывал дома. Мама объясняла Андрею, что во время бомбежки лучше всего стоять в дверном проеме капитальной стены. Даже если дом обрушится, стена может уцелеть. И тот, кто стоит в дверном проеме, спасется.
"А как же потом спуститься с голой стены?" – с улыбкой спрашивал Андрей.
"Почему же с голой? Ниже на стене что-нибудь обязательно повиснет. Например, бра... Или рояль. Или никелированная кровать. Или бывает, что куча обломков и битого кирпича доходит до второго этажа, а над ней торчат погнутые балки перекрытий. Наконец, в крайнем случае можно позвать на помощь", – закончила мама свои объяснения. Потом началась тревога, и я встал в проеме стены... Но стена повалилась на землю. Полетел вниз и я... Все ниже, ниже. И вот ударился головой. Оказывается, я повалился на бок, и голова моя стукнулась об пол.
Андрей не спал.
– Ушибся?
– Нет, ничего.
– Вставай. Вызывают.
В дверях стоял старшина Доценко с наганом в руке.
Он привел нас в одну из соседних комнат, где за небольшим конторским столом сидел плотный майор. В комнате было темно. На столе у майора горела коптилка. Она освещала его широкоскулое лицо и интендантские петлицы с двумя зелеными шпалами. Возле стола стоял и другой командир. Он был в черном кожаном реглане. На ремне через плечо у него висел маузер в деревянной кобуре. Ни лица, ни петлиц, ни даже цвета фуражки этого командира я разглядеть не мог. В дальнем углу комнаты виднелись очертания еще одного человека, высокого и худого.
– Товарищ майор, по вашему приказанию задержанных доставил, – доложил старшина Доценко.
– Старший сержант Первого стрелкового полка Девяностой стрелковой дивизии Шведов, – вытянулся Андрей.
– Отставить! – сказал майор. – Доложить как положено: "Задержанный такой-то, ранее находившийся на службе там-то и там-то..." Ясно?
– Ясно, товарищ майор административной службы.
– Гусь свинье не товарищ.
– Так точно. Однако вас за гуся не признаю, а себя за свинью, товарищ майор административной службы.
– Ишь ты, ишь ты, говор-говорок. – Майор явно разозлился. – Из Девяностой дивизии, говоришь? Кадровый, что ли?
– Так точно, служу в кадрах Красной Армии, – отчеканил Андрей.
– До армии кем был?
– Рабочий я.
– Рабочий?! – В голосе майора прозвучала ирония. – Какой же ты рабочий?!
– Токарь пятого разряда.
– Не всякий, кто стоит у станка, рабочий! Рабочий – это почетное звание! Настоящие рабочие сейчас Ленинград защищают, грудью! Рабочие с фронта не бегут!
– Мы тоже не бежали!
– Не бежали?! Верно. Вы просто шли. Все известно! Вот акт о вашем задержании лежит.
– Товарищ майор, – вмешался я, – задержавший нас лейтенант не пожелал нас выслушать.
– А он не доктор, чтобы выслушивать.
– Товарищ майор, а где карта немецкая, которая при мне была? спросил Шведов.
– Цела карта, – вмешался командир в кожаном реглане. – Вам придется объяснить, как она к вам попала.
– Давно бы объяснил. Просил ведь, доставьте в штаб, на карте я отметил немецкие батареи. Их можно накрыть. Они, наверно, еще и сейчас на том же месте.
– Карта доставлена в штаб Сорок второй армии. Там артиллеристы разберутся, что к чему.
– Ну, тогда хорошо, – облегченно вздохнул Андрей. И хотя было почти совсем темно, я разглядел на его лице улыбку. – Это хорошо, если разберутся, – повторил он. – Однако мне и лично надо доложить...
– Вот лично и доложишь капитану – начальнику разведки дивизии, сказал майор. – Можете располагаться в соседней комнате, товарищ капитан. Доценко, обеспечь там стол, стул, чернила. – Майор сделал паузу. – А этому табуретку найди. – Майор кивнул в сторону Шведова.
– Спасибо за заботу, товарищ майор административной службы! – гаркнул Шведов, снова вытягиваясь. Нетрудно было заметить, что нарочитое подчеркивание Шведовым "майор административной службы" было тому не очень-то приятно.
– Прекратите болтать, – цыкнул он на Шведова. – Идите с капитаном.
– Есть идти с капитаном, товарищ майор администр...
– Отставить! – закричал майор.
– Есть отставить...
– Ну, ладно, ладно, пошли, – сказал Шведову капитан.
Мне в его голосе послышался смешок. Это еще больше расположило меня к нему. До этого я отметил, что в отличие от майора капитан говорил с Андреем спокойно и обращался к нему на "вы".
Андрей по-уставному повернулся и пошел к двери. Капитан двинулся за ним.
– Товарищ капитан! – крикнул я. – Разрешите и мне с вами. Мы ведь со Шведовым все время вместе были.
– Отставить, – ответил капитан. – Если надо будет, я вас вызову.
– Доценко, – сказал майор, – отведи этого чудака обратно. Пусть еще там позагорает.
– Нет, я прошу и со мной разобраться! – выпалил я. – Прикажите и меня допросить или допросите сами, товарищ майор. Мне надоело ходить под подозрением. Я ни в чем не виноват.
– Поговори у меня! – крикнул майор и стукнул кулаком по столу.
В этот момент человек, молча стоявший в углу, выступил вперед и подошел к столу.
– Товарищ майор, – заговорил он просительным тоном, – разрешите мне допросить этого гаврика. Пока там разведотдел пушками да пулеметами противника интересуется, я бы от этого, может быть, кое-что поважнее узнал.
С этими словами говоривший нагнулся к уху майора и стал ему что-то нашептывать. Теперь я увидел и на его гимнастерке интендантские петлицы с "колесиком" и с двумя кубиками.
– Думаешь? – спросил майор, когда лейтенант выпрямился.
– А зря, что ли, он на лейтенанта, который его задержал, автомат поднимал? Нет, тут дело не чистое! Честный дезертир никогда бы на такое не пошел...
– Думаешь? – снова переспросил майор.
– А вы разрешите его допросить – вот и увидите.
– Что ж, валяй. Только в качестве кого, Будяков, ты будешь его допрашивать? Ты ведь не прокурор, не следователь какой-нибудь, а по строевой части...
– Как это в качестве кого? – удивился лейтенант. – Разве вы не знаете, что я назначен дознавателем по подразделениям штаба дивизии?
– Да нет, не знал, – признался майор.
Похоже было на то, что майор, так же как и я, впервые слышит слово "дознаватель".
Лейтенант Будяков это подметил и тотчас разъяснил:
– Дознаватели, товарищ майор, назначаются в подразделениях для всяких первичных расследований. Не всегда ведь в момент ЧП или чего другого в подразделении прокурор или следователь окажется. Вот как, например, у нас сейчас... Короче, я имею право и даже обязан этого подозрительного гаврика допросить.
– Я не против. Пускай лейтенант меня допросит, – решительно заявил я, полагая, что любой допрос тотчас приведет к выяснению истины. – Только скажите, чтобы дали хоть что-нибудь поесть. С утра ничего во рту не было.
– Вот расскажешь всю правду, тогда и поешь, – сказал лейтенант.
Такое начало не предвещало ничего хорошего. И я начал жалеть, что сам напросился на допрос к этому лейтенанту.
– А как у тебя со строевой запиской, Будяков? – спросил майор. – Ты бы сперва свое дело закончил, а потом уж за чужое брался.
– Разрешите доложить, товарищ майор, строевую записку о количестве людей я закончить не могу. Сведения о потерях из подразделений и частей дивизии поступать перестали... Сами знаете.
– Знаю, – понуро отозвался майор. – Кое-где уже и терять некого.
– А главное, – закончил свою мысль Будяков, – бдительность для меня дело не чужое. Да и для вас, полагаю, тоже. Особенно в такой обстановке.
– Добро, – согласился майор. – Забирай этого молокососа к себе и допроси. Только дай ему в самом деле чего-нибудь поесть... Доценко, обеспечь котелок каши там или щей... И тому тоже снеси, который у капитана... Все. Выполняйте.
– Есть выполнять, – обрадованно сказал Будяков. Он засветил карманный фонарик и дернул меня за рукав.
– Двигай вперед по свету.
В коридоре и на лестнице было темно. Однако из-под многих дверей был виден бледный свет. И внизу, и наверху слышались голоса. Дом был густо населен.
Мы поднялись на второй этаж и оказались в просторной комнате. Будяков зажег от зажигалки коптилку. Он уселся на стул, сдвинул лежавшие на столе бумаги.
– Бери стул, вон там, у стенки, – приказал он мне.
Когда я сел, Будяков с оттенком торжества в голосе произнес:
– Ну, вот что, Данилов, дело твое яснее ясного. Давай не тянуть. Быстренько все запишем, как было, и кончен бал.
– Что значит "яснее ясного"? Вы же меня еще не допрашивали. А ведь сами сказали, что хотите что-то выяснить.
– Вот сейчас я тебя и допрошу. Между прочим, все по закону. Вот и бланк протокола допроса у меня есть.
В комнату вошел старшина Доценко. Он принес мне котелок с горячей кашей и четвертинку хлеба.
– А ложки у вас не найдется? – спросил я, не зная, как приступить к каше.
– Ложка у солдата завсегда должна быть своя, – отвечал старшина. – В сапоге.
– Так у меня же нет сапога. В полуботинок ее не засунешь... оправдывался я. – А вообще-то, у меня ложка есть. Только она в ранце, который вы у меня отобрали.
– Ишь ты, ложку ему еще подавай! Прямо как в ресторане он здесь себя чувствует, – проворчал Будяков. – Может быть, тебе еще салфетку подать?!
Я не отвечал, плотно набив рот хлебом.
Старшина вынул из сапога ложку и протянул мне.
– Напрасно ты, старшина, свою ложку даешь неизвестно кому. А вдруг окажется, что это враг, шпион какой-нибудь? Получится, что ты из одной ложки с врагом кушал? А? – Будяков засмеялся своей шутке.
– А ничего, – спокойно отозвался Доценко. – Я соби враз другую ложку раздобуду. – С этими словами он пошел к двери.
Я принялся, давясь и обжигаясь, уплетать кашу. Было боязно, как бы Будяков не отнял у меня котелок, если каша помешает мне внятно отвечать на его вопросы. К счастью, он умиротворенно готовился к записи протокола: проверил, есть ли чернила в белой "непроливайке", попробовал, как пишет перо... Я тем временем рассматривал его лицо. Было оно худое и длинное. Подбородок выдавался вперед острым клином. Над узким, несколько скошенным назад лбом вились мелким барашком светлые волосы. Лицо как лицо. Обычное, ничем не примечательное.
– Ну что ж, пообедали, а теперь будем работать, – сказал Будяков, закончив свои приготовления. И он начал задавать мне вопросы.
Его интересовали самые неожиданные подробности. Он спросил о том, что именно мама сказала мне на прощание. Услыхав, что она преподает немецкий в институте, он стал интересоваться, не немка ли она из Германии, из Прибалтики или на худой конец из Поволжья. А если нет, то каким образом она может в совершенстве знать немецкий?
С моих слов он установил, что мы с Андреем сами, без чьего-либо приказа, отказались от попытки пройти в Стрельну.
Самое пристальное внимание Будякова привлек мой разговор по немецкому телефону с капитаном Хольцманом.
– С этого бы и начал, – сказал он мрачно, досадуя теперь о времени, потраченном на другие разговоры. – Дело, выходит, серьезное. Ты, как я и думал, не простой дезертир...
– Я вообще не дезертир.
– Я и говорю – не дезертир ты. Не сто девяносто третья, а пятьдесят восьмая, один "б", то есть изменник Родины.
– Никакой я вам не один "б", и не сто девяносто третья тоже!
– А кто же ты?
– Я доброволец. Защищаю Ленинград...
– Скажи пожалуйста. Он – защитник Ленинграда! Без него мы Ленинград не защитим! Без трусов и предателей только и можно остановить наши войска на рубеже обороны, а значит, остановить немцев. А пока такие защитнички имеются, мы так и будем драпать да в окружения попадать. Отвечай на вопрос: распоряжения немецкого офицера выполнял?
– Да какие же это распоряжения?
– Он велел наблюдать и доложить обстановку?
– Велел.
– Выполнил его приказ?
– Якобы выполнил. На самом же деле его дезинформировал.
– Как выполнил – это другой вопрос. Факт, что выполнил... Вот оно как обернулось... А ты говоришь – зря тебя задержали. Нет, парень, зря никого не задерживают. Ну, сам скажи, много ли таких случаев, чтобы наши военнослужащие вступали в связь по телефону с немецким командованием?.. Это же на весь советско-германский фронт, от Белого до Черного моря, единственный факт. Здорово я тебя расколол!
– Я сам все рассказал.
– Сам бы ты ничего не рассказал. Важно правильно вопросы ставить. Тут искусство требуется... Ладно. Давай-ка все это запишем.
Будяков обмакнул перо в белую чернильницу-"непроливайку".
– Пишите точно, как я говорил.
– Само собой. Как закон требует. Все дословно.
Он начал писать, изредка обращаясь ко мне за уточнениями.
В комнате горела коптилка, тихо поскрипывало перо, что-то бубнил себе под нос Будяков. Когда разрывы снарядов слышались близко, он отрывался от протокола и вслушивался.
– Такая война идет, немцы к Ленинграду рвутся, – сказал он во время одного из таких перерывов, – а тут сиди и разбирайся со всякими.
– Зачем же вы тут сидите, – отозвался я. – Шли бы под Урицк или под Пулково. И я бы с вами пошел. Больше было бы пользы для Ленинграда.
– Подлец ты, подлец... – Будяков покачал головой. – Я из-за тебя здесь сижу, и ты же меня этим попрекаешь! Не всем выпало счастье в прямом бою грудью встречать врага, Враг ведь хитер и коварен. Из попавших в плен и из гражданских он вербует и засылает к нам шпионов и диверсантов, агитаторов и ракетчиков. Всех их надо выловить и обезвредить. А сколько среди миллионов честных воинов попадается трусов, которые драпают сами и разлагают своим бегством других! Сколько дезертиров, сколько членовредителей, а?
– Не так уж много.
– Верно. А почему не так много? Потому что на пути таких, как ты, встают такие, как я. Без этого трусов и предателей развелось бы больше. А это опасно для войск. Это смертельно опасно, особенно когда враг у ворот. Вот подумай над этим, подумай!
Будяков снова стал писать, а я никак не мог понять, что же все-таки получается. Все, что сказал Будяков, верно, абсолютно верно. Дезертиров надо вылавливать и наказывать. Трусов, предателей, диверсантов, шпионов надо ловить и обезвреживать. Кто же с этим не согласен?! Выходит, он, Будяков, глашатай истины, ее представитель. Но почему его истина становится ложью, как только она касается меня лично? А может быть, я действительно преступник – дезертир, предатель Родины – и просто не понимаю этого?
Тут я вспомнил вопрос, заданный мне на экзамене по философии. Было это давно, в июне.
Я вытянул билет "Учение об истине" и четко отбарабанил необходимые формулировки. Получил "отлично". Но только теперь, в эти странные и страшные минуты, слова, которые я тогда так бойко отчеканил, наполнились для меня жизненным смыслом. "Нет истины вообще, – говорил я тогда. Истина всегда конкретна". Для подтверждения этой мысли я привел записанный на лекции тезис знаменитого хирурга Пирогова: "Нет болезней, есть больные". Я разливался соловьем, развивая этот тезис с высоты слышанных от мамы разговоров о чьих-то недугах: "Предположим, два человека ослабли, перенеся воспаление легких. Им, как и полагается, прописывают глюкозу. Но! Один из больных выздоравливает, а другой умирает: он страдал хроническим диабетом и глюкоза, столь полезная при болезни легких вообще, этого конкретного пациента убила". Экзаменатор сказал, что я по-настоящему проник в суть вопроса... Нет, по-настоящему в суть вопроса я проник только сейчас. И для меня вдруг будто молнией осветилось мое положение. До этой минуты все, что говорили лейтенант с косыми баками, и майор, и лейтенант Будяков, воспринималось мною как нечто случайное и в силу этого неопасное, легко отразимое. Теперь я понял, что все они, в общем, правы.
Чем была рядом с их большой правдой моя такая частная, такая маленькая правота? Пустяком, не имеющим значения.
Ведь и задержали нас не случайно. Мы и в самом деле направлялись в тыл, несли в плащ-палатке кучу трофейного оружия. Вид у меня был явно странный: красноармейская каска, ранец, гражданская тужурка, гражданский костюм, полуботинки... Конечно, все это, вместе взятое, наводило на подозрения. Да и рассказ мой, конечно же, был необычен. Я ведь сам подумал там, возле трубы: рассказать кому-нибудь про наш бой и разговор с немцами по телефону – не поверят. Вот и не верят...
Будяков придвинул ко мне листы протокола.
– Прочтешь – в конце напишешь: "Протокол с моих слов записан правильно и мною прочитан". И подпись поставишь.
Протокол действительно был написан с моих слов. Никаких обстоятельств Будяков от себя не выдумал. Тем не менее смысл написанного Будяковым определялся предвзятым убеждением, что мы с Андреем трусы, дезертиры и изменники. Созданию именно этого впечатления способствовали и сами вопросы Будякова, и какой-то особенный стиль изложения:
"Вопрос. Кто провожал вас в дорогу дома и что вам заявили на прощание?
Ответ. Меня провожала мать. На прощание она мне заявила: "Береги себя, сынок".
Вопрос. Старались ли вы следовать подобным указаниям, полученным от матери непосредственно перед отправкой на фронт?
Ответ. Да, старался.
Вопрос. Что именно предпринималось вами лично, а также по наущению задержанного вместе с вами Шведова в целях самосохранения?.."
Фигурировал и такой вопрос: "Не был ли Шведов во время его разведки в сторону Стрельны захвачен немцами и завербован для проведения подрывных действий против Красной Армии?"
Поскольку я в разведку вместе с Андреем не ходил, мой ответ был записан так: "О факте вербовки Шведова немецкой разведкой мне ничего не известно".
Мой разговор с вражеским артиллеристом излагался таким образом:
"Вопрос. С какой целью вы сняли трубку с немецко-фашистского аппарата и вступили в связь с немецким командованием?