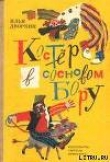Текст книги "Дорога на Стрельну (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Даниил Аль
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
– Назовите еще раз фамилию и номер части.
Назвал я ему. А он говорит:
– Хорошо, старший сержант Тимохин. Я о вашем поведении сообщу командованию вашей части и попрошу отправить вас в комендатуру.
Он велел водителю трогать, а я так и остался стоять с поднятой к пилотке ладонью.
"За что? – думаю. – Чего я такого совершил, чтобы меня в комендатуру? И какое он мог увидеть с моей стороны поведение? Не было у меня никакого поведения!"
Не знаю, сколько я так стоял... Потом свистнул своим парням и девчатам.
– Извините, – говорю, – если вас по моей инициативе тоже всех в комендатуру загребут.
Пошел я с той площади прочь, в сторону своей части. Иду невеселый. Настроение – хуже некуда, как говорится, не подходи – взорвусь!
Тут вдруг выхожу я на другую площадь и вижу: стоит наших бойцов множество. Все стоят толпой, лицом в круг повернуты. А в круге пляска идет под два баяна. Пляшут по очереди кому не лень. Отплясавшиеся из круга выходят – парни наши и девушки-солдаты, – рукавами утираются, смеются, веселятся... Смотрю, из толпы наружу и наш Жорка Некрасов выбирается. Мокрый весь, хоть усы выжимай. "Эх, – думаю, – не сплясать ли и мне "русского"?! Не дать ли жару здесь, на берлинском асфальте? Второй раз когда еще представится?!. Эх, была не была – перепляшу свое дурное настроение, дам все-таки душе выход наружу".
Подошел я к этому Жорке.
– На, – говорю, – подержи мой автомат. На, – говорю, – и пилотку подержи. На, – говорю, – ремень мой подержи. Не люблю плясать подпоясанным. Пусть лучше гимнастерка свободно вращается – охлаждение воздушное создает.
Принял он от меня всю эту амуницию, а я растолкал толпу и ринулся в самый круг, точно в воду нырнул. С таким криком нырнул, с таким гиком, будто с Кавказских гор сорвался... Но по пляске моей сразу расшифровали, что я не чеченец и не ингуш, а самый настоящий русский человек...
Сперва я "молодочкой" по внутреннему обводу толпы прошелся, чтобы войти во внимание баянистов. Потом остановился, перехлоп ладонями сделал да как гаркнул:
– Сыпь, сыпь, подсыпай, раскатывай скорость!
Ну, и начал давать жизни! Тяжело, конечно, вприсядку в кирзовых, но ничего, отбарабанил лихо. Потом ладонями на асфальт кинулся и давай вокруг них круги на носках описывать. Потом вокруг одной руки круга три прокрутился, вокруг другой столько же. Потом вскочил – пошел козырем: одна рука под затылком, другая на поясе, ноги подскоками идут. Ну, а за этим, само собой, опять присядка. Когда из нее вышел, обе руки на пояс положил, ногами дробь на месте дал... Поскольку баянисты в моем темпе шпарили, я всех других плясунов своей скоростью быстро из круга выплясал.
Скажу прямо: ни до, ни после я так не плясал, как тогда, на той, на берлинской, мостовой! А тут еще хлопки, посвист, выкрики на тему "давай-давай"... Доплясался я до того, что баянисты устали – между собой переглянулись и на спокойную музыку перешли. Я понял намек и пошел себе из круга на выход проталкиваться. Все мне спасибо говорят, за руки дергают со всех сторон, папиросы суют – кто штуку, кто целую пачку "Казбека". Так я на выходе через это скопление личного состава был задерган, что не на то направление из круга вышел, где меня Жорка Некрасов ждал. Побрел я, без ремня и без пилотки, весь мокрый от пота, искать этого усатого, как вдруг из боковой улицы выбегает на площадь замполит товарищ Самотесов во главе двух бойцов из нашей роты. Оба эти бойца в полной амуниции и с винтовками, точно в караул собрались. Завидел меня замполит и даже остановился.
– Вот он где! Держи его! Стой, – кричит, – Тимохин! Не шевелись хуже будет!
Тут все трое ко мне подбегают. Я хотел встать по стойке, а мне руки назад один боец стал закручивать. Я его, конечно, от себя отряхнул. Замполит приказывает мне:
– Смирно, Тимохин! Отвечай, что ты натворил? Почему в таком виде фигурируешь?
– Ничего, – говорю, – я не натворил. А в таком виде – потому что плясал.
– А где же, – говорит, – твоя форма одежды? Где ремень? Где головной убор?
Я говорю:
– У Некрасова.
– У какого такого Некрасова?
– А у такого, у которого усы и лицо рябое.
– А почему это все у него, а не у тебя?
– А потому, что я в круг плясать заходил.
– Ну, хорошо, – говорит замполит, – ты еще у нас попляшешь!.. Ведите его!
Я говорю:
– За что вы меня в таком виде ведете, если не знаете, за что именно?
– А за то, – говорит, – что в Берлине еще комендатура не успела сформироваться, а тебя туда уже приказано направить. И такая честь, значит, именно той роте, где замполитом лейтенант Самотесов! А ведь я тебя предупреждал, Тимохин, насчет твоих настроений... Молчи уж теперь, потом будешь объясняться!
Повели меня было в таком негодном виде. Кое-кто из наших и даже из немцев смотреть на меня начали. Но тут, на мое счастье, Жорка Некрасов объявился с моим ремнем и пилоткой. Он тоже меня искал вокруг толпы. Подтвердил он замполиту, что я ни в чем, кроме пляски, не замешан и что сюда пришел в аккуратном своем виде. После этого пошли мы все в роту нормально, безо всякого конвоирования меня со стороны тех двух солдат.
В роте к тому времени все объяснилось. Для вновь созданной комендатуры Берлина собирают по частям самых сознательных и образцовых солдат. И на меня персональный приказ пришел: откомандировать в распоряжение комендатуры.
– Служу Советскому Союзу, конечно. Только разрешите, – говорю, – в своей части остаться. Я и так с фронта на фронт перекинутый.
– Ничего, – говорят, – не можем сделать. Приказ и для тебя, и для нас одинаковую силу имеет. Так что собирайся.
Пожал мне на прощание капитан Попов руку, объявил благодарность за службу. А замполит Самотесов искренне меня обнял и поцеловал.
– Спасибо, – говорит, – тебе, Тимохин, за то, что не посрамил моего честного имени и всей своей боевой части.
Оказался я таким манером в батальоне при берлинской комендатуре, в подчинении, само собой, того полковника, который меня во время раздачи каши на площади к себе в блокнот зафиксировал. А ведал он пропитанием берлинского гражданского населения, поскольку весь Берлин в то время на довольствие к нам, к армии победителей, был поставлен.
И что бы, вы думали, мне приказали делать? Поручили раздавать, согласно списку, продовольственные карточки тем жителям, которые сами не могут заявиться в комендатуру.
Сперва я, конечно, опять упал духом. В который уже раз. Решил я, что уж это сплошное издевательство судьбы надо мною лично и над моим шестым чувством. Не за этим я из Ленинграда в Берлин шел, чтобы здесь немцам продовольственные карточки раздавать. Хлеба по ним предусмотрено на день сто пятьдесят – двести граммов. Мяса – двадцать пять. Картофеля четыреста. Сахару – десять. И еще кофе настоящего на день по два грамма.
Прочитали мне в комендатуре эти карточки в переводе на наш язык – я и обомлел. Вот бы, думаю, ленинградцам в блокаде такие нормы иметь! Да плюс еще жиры, про которые я упустил сказать. Не поумирали бы небось с голоду наши героические люди... И сколько же, думаю, ради того, чтобы доставить ленинградцам по кусочку хлеба и сахара, наших товарищей, бойцов и командиров, полегло на Дороге жизни да на ее защите?! А теперь я, ленинградский защитник, кровь свою проливавший при прорыве блокады и при снятии ее, буду немцам хлеб, да мясо, да картошку, да кофе своими руками подавать?! За что же, думаю, именно на меня такая диалектика свалилась?! Прямо-таки горевал я и чуть не плакал.
Как, однако, ни странно, именно в исполнении этой самой карточной обязанности нашел я наконец удовлетворение своему шестому чувству чувству суровой мести.
Поступать я стал так. С утра, бывало, начищу до солнечного блеска свою медаль "За оборону Ленинграда" и иду по указанным квартирам. Захожу, говорю: "Гутен морген". У всех немцев, которые в квартире есть, в глазах настороженный вопрос возникает: "Зачем этот солдат с автоматом заявился?"
А я, как только войду в комнату, на медаль свою указываю и произношу: "Ленинград". Тут же выдаю каждому немецкому едоку продовольственную карточку.
"Нате, – говорю, – кушайте".
Говорил я, само собой, по-русски. Но чтобы хоть раз единый, чтобы хоть один человек не понял моих слов – такого не припомню. Равнодушных, короче говоря, ни разу не встретилось. Приходилось и испуг в глазах видеть, и слезы. Бывало, правда, что и провокации происходили: руку мне два раза пытались немки поцеловать. Один пожилой немец в пенсне при слове "Ленинград" стал от продовольственной карточки отталкиваться. Так и не взял бы, если бы я его не приструнил.
"Бефель, – говорю. (Это по-ихнему "приказ".) – Бефель коменданта!"
Взял безропотно. И в ведомости расписался.
А бабуся одна пожилая, но при этом аккуратно очень одетая, взяла свою карточку, прослезилась и давай меня пальцем в грудь трогать.
"Руссишес херц, руссишес херц", – повторяет. А я говорю ей строго: "Извините, только по-нашему здесь не херц, а сердце..."
Многим немцам тогда я души порастревожил. Известно ведь, что словом можно человеку сильнее душу пронзить, чем даже штыком. Если, конечно, слово такое подобрать. Так вот, более пронзительного слова, чем "Ленинград", для немцев, принимавших от меня продовольственные карточки, придумать никак было невозможно. Конечно, я понимал, что действую очень даже жестоко. Но ничего не поделаешь, месть – она месть и есть.
Шестое чувство мое постепенно во мне приумолкло. Но видать, еще и до сих пор не совсем полностью. Одна коварная мечта меня с той поры и до сегодняшнего дня никак не оставляет. А суть этой мечты такая.
Очень это хорошо, что стоят во многих немецких городах памятники нашим воинам-освободителям. И танк-освободитель Т-34 тоже во многих городах на пьедесталах установлен. А почему бы, думаю, не поставить на пьедестал, хотя бы в том же Берлине, полевую военную кухню? Ту самую, из которой советский солдат-победитель, истекающий кровью сердца от всех своих потерь, с первого же дня своей победы кормил и плененное им вражеское воинство, и всех немецких жителей от мала до велика?
Думается, что кухня эта не меньшую заслугу перед историей имеет, чем даже тот уважаемый всеми танк Т-34.
Мысли такие у меня, прямо сознаюсь, имеются. Но само собой, я их в качестве полезной идеи или конкретного предложения никуда не подавал и не выдвигал. Уж больно жестокий памятник может получиться. Тем более я об этом предложении молчу, что теперь полностью согласен с тем, как воспитывал нас когда-то замполит товарищ Самотесов. "Мстить, – повторял он неустанно, – надо фашистам. Истреблять их надо без всякой пощады, где бы и когда они ни проявились. А мстить всему народу, который и сам был этими фашистами обманут и угнетен, – это совершенно неправильно и нехорошо".
Между прочим, бывший замполит роты, а теперь майор в отставке товарищ Самотесов жив. И мы с ним имеем интенсивную переписку: поздравляем друг друга открытками почти в каждый праздник, а в День Победы – обязательно.
ЭКЗАМЕН ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА
Теплый июньский день. Я стою у раскрытого окна четырнадцатой аудитории исторического факультета и смотрю на большое желтое здание напротив. Это клиника Отта. За моей спиной шушуканье, шорохи, поскрипывание стульев... Всего этого я не должен слышать. Студенты готовятся сдавать мне экзамен по истории СССР. Зачем им мешать?! Пусть смотрят куда хотят. "Лишних" знаний все равно никто не обнаружит. По ответу всегда видно, знает студент предмет или бездумно повторяет выхваченные из конспекта – иногда из чужого – фразы.
– Если кто-нибудь готов, прошу, – говорю я, не оборачиваясь.
– Нет еще!
– Вопросы трудные!
– Еще пять минут!
– Дайте подумать, Александр Семенович!..
– Ну, хорошо, хорошо, готовьтесь.
Мне и самому не хочется торопиться.
"Как все похоже", – думаю я. До чего же все похоже! День был такой же теплый, светлый... Та же аудитория, так же, как тогда, раскрыто окно. И столик экзаменатора, и черная доска на стене, и столы – все на тех же местах. Вот так же, как я сейчас, у окна стоял наш экзаменатор и смотрел на слепые окна клиники Отта. И студенты так же, как эти, нынешние, забились за последние столы, взволнованно черкали на листочках бумаги, воровато подсматривали в конспекты, разложенные на коленях, тихонько переговаривались.
Я тогда сидел там, за предпоследним столом, и готовился отвечать... Как все похоже! Время только другое. Но все это было как будто вчера...
Я оборачиваюсь к студентам. Они все колдуют над своими ответами. Всех их я не раз видел на своих лекциях и в коридорах. Парни с длинными волосами. Девицы курят. Вот и сейчас перед каждой на столе лежит пачка сигарет. Я смотрю на них и думаю: "Что знают они, будущие историки, о своих предшественниках, сидевших в этой самой аудитории, о студентах сорок первого года, ставших солдатами и погибших за то, чтобы они могли прийти им на смену в эту аудиторию, учиться, радоваться жизни, солнцу, этому ласковому, безоблачному дню?
Неужели ничего, кроме самых общих сведений, нескольких дат и цифр? Скорее всего, что так. Обидно, но что поделаешь..."
Я возвращаюсь от окна к столу и спрашиваю:
– Есть у кого-нибудь вопрос "Великая Отечественная война"?
Молчание. Никто из них не вытянул билет с этим вопросом.
– Сегодня, – говорю я, – двадцать второе июня. Не может ли кто-нибудь из вас рассказать без подготовки о начале войны, о битве за Ленинград?
– Ой! – выкрикивает одна из девиц. – Как же без подготовки?!
– А я уже подготовился по своему вопросу, – ворчит ее сосед.
– Позвольте мне, – говорит забившийся в самый угол паренек в очках.
Он встает, идет к столу, протягивает мне зачетную книжку, садится. А я не сажусь. Отвечать будет он, но больше его взволнован я: что же я сейчас услышу?!
Он начинает говорить. Несколько общих фраз о вероломном нападении... Говорит студент хорошо, кратко. А вот и конкретное.
– Лучшие части фашистского вермахта были брошены на Ленинград.
– Почему лучшие?
– Потому что в тот момент Ленинград был главной стратегической целью фашистского командования.
Я киваю головой, а юноша, набирая уверенность, продолжает говорить:
– За два года второй мировой войны вермахт еще не знал поражений. Ни горные хребты, такие как Альпы и Карпаты, ни водные преграды, такие как Маас, Рона, Дунай, Днепр, Днестр, Буг, Висла, Неман, служившие мощными рубежами сопротивления фашистам, не стали для них непреодолимыми препятствиями...
– Хорошо, – говорю я. – Только, пожалуйста, ближе к теме, к битве за Ленинград.
– В августе – сентябре сорок первого года фашистские полчища приблизились к Ленинграду. Перед ними лежала плоская как стол равнина. Ни горных хребтов, ни даже сколько-нибудь значительных высот, ни больших рек... Перед ними почти нет регулярных частей Красной Армии. На их пути дивизии наскоро обученных и снаряженных добровольцев и бригады сошедших на берег моряков...
Я слушал не перебивая. Мне досадно, что сидящие там, за столами, не слушают ответ своего товарища, а заняты посторонним делом... "Почему посторонним? – одергиваю я себя мысленно. – Они заняты своим делом, готовят ответы на вопросы... Нет, воистину я становлюсь стар и ворчлив".
– Путь на Ленинград открыт. В этом нет сомнения ни у фашистских заправил, ни у генералов, ни у рядовых солдат. Но вдруг происходит невероятное. Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками восточнее Кингисеппа, на реке Воронке. Маленькая речка – метров двадцать шириной. Пустяковой казалась фашистам эта задержка. Ну день, два, неделя... Ну месяц, как на Днепре, под Смоленском. История знает теперь, что тогда на этой маленькой речке фашистская армия была впервые за всю вторую мировую войну остановлена навсегда. Позднее их остановят под Москвой, под Сталинградом, в горах Кавказа... Но это будет потом. Впервые их остановили здесь – на берегу Воронки, под Урицком и Пулковом, у стен Ижорского завода, на Неве – рабочие, моряки и студенты.
Я взволнован и восхищен ответом. Тут я замечаю, что девицы перестали черкать на своих бумажках и усиленно шушукаются. Нашли время! Я делаю им замечание:
– Нельзя ли потише?
– Извините.
– Извините, Александр Семенович!
– Исчерпывающее объяснение случившемуся, – продолжает студент, заключено в слове ЛЕНИНГРАД! В этом имени слилось многое. Нестареющая с годами душа революции. Громадный промышленный и научный потенциал. Высокий дух интернационализма, предельная ненависть к фашистам. Здесь на пути врага встали не горы особой высоты, а люди высокого духа.
Я потрясен ответом юноши. Какой подарок! Я уже не вижу ни его длинных волос, ни его застиранных джинсов. Просто здорово! Интересно: откуда он все это вычитал?!
– Отлично, – говорю я. – Отлично. Скажите, пожалуйста, по каким материалам вы готовились?
– Как по каким? – удивленно вскидывает глаза паренек. – По конспектам ваших лекций, Александр Семенович. Только у вас в лекциях все это длинно очень. Не в современных ритмах... Я – покороче, по делу...
Паренек осекся и замолчал, с тревогой глядя на меня. Я не успеваю сказать ничего в ответ. Все три девицы вскакивают с мест и направляются ко мне. Вслед за ними поднимается и второй студент.
В руках студентки, которая идет первой, большой букет цветов.
– Вот, – говорит она, протягивая мне цветы.
Потом все заговорили сразу:
– Это вам, Александр Семенович!
– Это от всей группы... Мы хотели после экзаменов...
– Но вот посоветовались и решили сейчас.
– Сегодня ведь двадцать второе июня. Ну и раз сейчас зашел такой разговор...
Я не знаю, что сказать, и бормочу:
– Спасибо... Спасибо... Как же это так – до окончания экзамена... Да и вообще, зачем же?..
Четверо садятся на свои места. Тот, что отвечал, протягивает зачетку. Я ставлю ему "отлично".
– Кто следующий? – спрашиваю я.
К столу подходит девушка, только что преподносившая мне цветы. "Какая красивая", – думаю я. Вспоминаются слова классика: "Трагедия старости не в том, что чувствуешь себя старым, а в том, что чувствуешь себя молодым". Хорошо сказано, хотя слишком уж сильно. До такой "трагедии" пусть доживают все. Пусть никогда не повторится то, что произошло с моими сверстниками, ушедшими из жизни такими молодыми...
Красивая студентка что-то говорит, настороженно поглядывая на меня из-под век, выкрашенных в ярко-синий цвет. Она сейчас, наверное, как и мы тогда, в сорок первом, думает, что ничего страшнее этого экзамена ей в жизни не предстоит. Дай ей бог, конечно... А вот нас тогда поджидал такой экзамен, такой страшный экзамен... Теперь хорошо известно, как мы его выдержали. Двести десять ребят только с нашего курса пошли в ополчение. В живых нас осталось меньше двадцати.
Разведчица-радистка Женя Дымогарова попала в руки к фашистам под Сиверской. Истерзанная полицаями, стояла она перед следователем абвера. Ни посулы, ни угрозы новых пыток не сломили ее. Она умерла, не проронив ни слова, не выдав никого из своих товарищей...
Пулеметчик Миша Сипенко погиб под Лугой. Рядовой Миша Адамович – под Кингисеппом, политбоец доцент Родин – под Пулковом, минометчик доцент Муратов – на Невской Дубровке. А наш истфаковец, студент Вячеслав Васильковский, одним из самых первых на советско-германском фронте закрыл своим телом амбразуру вражеского дота. Он стал посмертно Героем Советского Союза... Нет, что ни говорите, хорошие у нас были ребята! И озорные, и веселые. И само собой, очень разные. Но когда настал час испытания... Впрочем, об этом вы, мои уважаемые читатели, уже прочитали и в этой книжке, да и во многих других тоже.