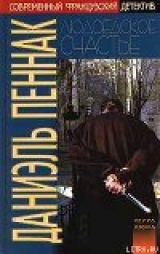
Текст книги "Людоедское счастье"
Автор книги: Даниэль Пеннак
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
16
Дома застаю Клару у изголовья Джулиуса. Она не пошла в лицей и просидела с ним весь день.
– Ты мне напишешь потом записку, хорошо?
Джулиус равен самому себе. Он лежит на боку с параллельно вытянутыми лапами, твердый, как бочонок. Сердце, однако, бьется, гулко стучит в пустой клетке. Как будто пересаженное Эдгаром По.
– Ты ему пить давала?
– Он ничего не может проглотить.
Я глажу моего пса. Шерсть у него жесткая, как будто он побывал в руках сумасшедшего таксидермиста.
– Бен!
Клара тянет меня за руку, поворачивает лицом к себе и кладет голову мне на грудь.
– Бен, Тереза приходила днем навестить его, и у нее был настоящий нервный припадок. Она каталась по полу и кричала, что он видит преисподнюю. Мне пришлось вызвать Лорана. Он ей сделал укол, и сейчас она внизу. Отдыхает.
Бедная Клара! Ничего себе выдался у нее денек вместо школы.
– А мальчишки его видели?
Нет. Она попросила детей пообедать в школе и остаться на продленку. Она теснее прижимается ко мне. Я осторожно отвожу волосы с ее уха, и тыльная сторона моей руки еще некоторое время ощущает их тепло.
– А тебе самой не было страшно?
– Было вначале. И тогда я его сфотографировала.
Милая моя, внимательная сестричка! Для тебя лучшее средство против страха – затвор и диафрагма…
Я держу ее теперь за плечи прямо перед собой. Я никогда еще не видел такого ясного взгляда.
– Когда-нибудь ты их продашь, свои фотки. И тогда придет твоя очередь кормить семью.
Теперь она на меня смотрит и видит все.
– Бен, если тебе очень надоела эта работа, не считай, что ты не имеешь права ее бросать.
(Ох уж эти женщины!)
Спускаюсь вниз. Тереза лежит на спине, взгляд ее как будто притянут к потолку. Сажусь у ее изголовья. Для меня всегда было проблемой приласкать ее: она воспринимает малейший намек на ласку как пытку электрическим током. Поэтому я действую предельно осторожно – касаюсь губами ее заледеневшего лба и говорю как можно спокойнее:
– Не выдумывай, пожалуйста, Тереза. Эпилепсия – самая обычная болезнь, даже не опасная. Вполне приличные люди бывают эпилептиками. Возьми, например, Достоевского…
Никакой реакции. Я беру ее за руку, которой она вцепилась в край пожелтевшей от пота простыни, и целую один за другим ее пальцы, которые слегка расслабляются. За неимением лучшего, продолжаю развивать ту же тему:
– Князь Мышкин, самый добрый на свете человек, тоже был эпилептик! И знаешь, говорят, во время припадка больной испытывает настоящее блаженство. Джулиус – самый добрый на свете пес и к тому же любит наслаждаться жизнью…
Говорить с Терезой о наслаждении жизнью вроде бы не очень уместно, но во всяком случае от этого она как будто просыпается и поворачивает голову ко мне.
– Бен!
– Да, моя хорошая.
– Эти двое погибших в Магазине…
(Господи, опять!)
– Они должны были так умереть.
(Приехали.)
– Они родились 25 апреля 1918-го, так написано в газете. Они были близнецами.
– Тереза…
– Послушай меня, даже если ты в это не веришь. В этот день Сатурн сочетался с Нептуном, и оба были в квадрате Солнца.
– Тереза, миленькая, не в том дело, верю я в это или не верю, просто я в этом ничего не понимаю. Так что очень тебя прошу, у меня сегодня был такой трудный день…
Ничего не помогает.
– Такое сочетание порождает натуры глубоко порочные, склонные к сомнительным или противозаконным поступкам.
(«К сомнительным или противозаконным поступкам» – это стиль не Сенклера, это стиль Терезы.)
– Да, Тереза, да, милая…
– Квадратура с Солнцем свидетельствует о покорности человека силам зла.
Как хорошо, что Жереми нет!
– А Солнце в восьмом доме предвещает насильственную смерть.
Она уже сидит на краю постели. В ее голосе ни малейшей экзальтации; в нем спокойная убежденность профессора, читающего вводную лекцию первокурсникам.
– Тереза, мне надо идти.
– Подожди, я сейчас кончу. Смерть наступает при проходе Урана-разрушителя через сильное Солнце.
– Ну и что? (Я невольно спросил это с интонацией Жереми.)
– Так это и произошло второго февраля, в день, когда они подорвались на бомбе в Магазине.
Что и требовалось доказать. Все, сестричка полностью пришла в себя. Какой нервный припадок? О чем вы говорите? Она встает и принимается наводить порядок в бывшей лавке, которую не убирали с самого утра. Когда она начинает стелить постели Жереми и Малыша, мне в голову приходит неожиданная мысль.
– Тереза!
– Да, Бенжамен?
В ее руках подушки вновь обретают мягкость и объем, приглашающий ко сну.
– Насчет Джулиуса. Не надо, чтобы дети знали. Очень уж он страшен на вид. Скажи им, что на него наехала машина, когда он ходил встречать меня вчера вечером, и его отвезли в собачью клинику. «Его жизнь вне опасности». Идет?
– Идет.
– И ты тоже не ходи больше к нему.
– Идет, Бен. Согласна.
Когда я болтаюсь по Бельвилю, в любое время дня, у меня всегда такое ощущение, что я заблудился в одном из альбомов Клары. Она перефотографировала вдоль и поперек этот исчезающий район. И старые фасады, и юные торговцы наркотиками, и горы фиников и перца – все схвачено ее объективом. От этого моя прогулка по еще живому Бельвилю становится ностальгической экскурсией в прошлое. (Интересно, каким количеством пропущенных уроков оплачен этот ее подвиг?) Она даже записала на пленку голос муэдзина, который гнездится напротив Амара. Сегодня, в то время как означенный муэдзин выводит суру, длинную, как Нил, на другой стороне улицы, у двери ресторана, банда арабов и сенегальцев нарушает запрет Пророка на азартные игры. Кости стучат в кубышках и падают на перевернутую картонную коробку. Обстановка кажется несколько более напряженной, чем обычно. И действительно, едва я подумал это, как в вытянутой руке одного из игроков сверкнул нож, а другая рука принялась загребать ставки. Нож почти упирается в живот монументального негра, который становится серым, как в романах. Но Хадущ, который спокойно жевал кат, опершись спиной о стену своего заведения, бросается вперед. Ребром ладони он бьет по запястью араба, который с воем роняет нож. Должно быть, запястье у него железное, иначе ходить бы ему с переломанной рукой. Хадуш сует руку в карман араба и вынимает оттуда предмет спора – серебряную пятифранковую монету, которую он протягивает сенегальцу. И говорит подошедшему мне:
– Представляешь, Бен, обижать такого большого негра из-за такой маленькой белой – это уж полный беспредел. – И, обернувшись к человеку с ножом: – Завтра поедешь домой.
– Нет, Хадуш!
Это крик отчаяния, которое сильнее боли в запястье.
– Завтра. Собирай вещи.
После того как Амар справился у меня о здоровье моих родственников вплоть до седьмого колена, а я ответил ему тем же, выхожу из ресторана, неся в сумке пять порций кускуса и пять шашлыков.
– А как она выглядит, эта клиника?
Двое младших, чисто вымытые, в свежевыглаженных пижамах, требуют все новых и новых подробностей. А двое старших в надушенных ночных рубашках слушают меня так, как если бы они тоже верили в эту легенду.
– Полный кайф! Все, что нужно для приличной собаки. В каждой палате – телик, программу подбирают по характеру.
– Да ну!
– Я тебе говорю.
– А у Джулиуса какая программа?
– Текс Эври.
От восторга Жереми чуть не валится с койки.
– Пойдем к нему завтра? Пожалуйста, пойдем, а?
– Исключено. Детям вход строго воспрещен.
– Почему?
– Чтоб не заразили собак.
Вот так. Вечер проходит. Само собой разумеется, в программе вечера – очередной выпуск крутого триллера о покушениях в Магазине, в котором фантазия непринужденно сожительствует с действительностью. По части фантазии сегодня Бак-Бакен и Жиб-Гиена ведут расследование в парижских канализационных коллекторах (спасибо Эжену Сю) – а вдруг оттуда есть выход в Магазин (спасибо Гастону Леру)? По дороге они встречают питона-неврастеника и берут его с собой, чтобы скрасить одиночество, присущее гомо урбанусу, человеку городскому (спасибо Ажару)[15]15
Эжен Сю, Гастон Леру, Ажар – французские писатели XIX – XX вв., из произведений которых заимствованы названные в тексте мотивы.
[Закрыть]. На этом месте – реплика Жереми, произнесенная задумчивым тоном:
– Слышь, Бен, этот твой Стожил – он в натуре такой клевый сторож?
– Да уж, что есть, то есть.
– Значит, ни днем, ни ночью в вашу контору бомбу не принесешь?
– Думаю, трудно.
– Даже через канализацию?
– Даже так.
Клара встает, чтобы уложить Малыша, который уснул, сидя на своей круглой попке, с очками на носу. Тереза стенографирует, старательно, как в ООН.
– А я бы сумел, – говорит Жереми.
– Как?
– Увидишь.
Что он, интересно, собирается отмочить?
17
За ночь я встал пять или шесть раз, чтобы послушать дыхание Джулиуса. Он дышит, если это можно так назвать. Впечатление такое, что воздух входит в его тело и выходит из него сам собой, независимо от его воли. Как искусственное дыхание. Я уже не говорю о запахе, когда все это вырывается из его перекошенной, как у пьяной химеры, пасти.
И подумать только, что он еще жив!
Я пытался бороться с отчаянием, представляя себе разные смешные ситуации. Например, подумал, что могу воспользоваться его положением, чтобы вымыть его наконец как следует, без риска, что он удерет, разнося клочья мыльной пены по всему дому. Вышло как-то не смешно. Попытался заснуть снова, и, видимо, это получилось, потому что утром проснулся. Проснулся в собачьем настроении, хотя в этот день у меня был выходной.
Сразу же позвонил Лауне.
– Это ты, Бен?
– Я. Позови Лорана.
На том конце провода рыдания: Лоран не пришел ночевать.
– Он больше не придет, Бен, я чувствую, он больше не придет.
Ревет в голос. Я-то знаю, что если Лоран не с ней, значит, он в больнице, и нечего сходить с ума. Он может ее бросить – да и то ненадолго – только ради своих больных.
– Дай мне телефон больницы.
– Бен, миленький, прошу тебя, будь ласков с ним. Ему так плохо!
– Я и так ласковый, такой ласковый, что самому противно. И всегда был ласковый. С кем это я, интересно, неласков, черт вас всех побери?
В больнице та же песня. Едва взяв трубку, доктор Лоран Бурден, единственная любовь моей сестрички за последние семь лет, пускается в длинные объяснения относительно того, как он относится к перспективе стать отцом.
– Я ждал твоего звонка, Бен, я был уверен, что ты позвонишь, но, прости меня, пожалуйста, это ровным счетом ничего не изменит, она не имела права так поступить – взять и потихоньку вынуть спираль, я никогда не хотел ребенка и никогда не захочу, она это прекрасно знала, а если бы и захотел, то, вероятно, все равно предпочел бы ее одну на всю жизнь, ты понимаешь, что я хочу сказать, а потом, чтобы заводить детей, надо любить самого себя, а я себя не люблю, просто терпеть не могу, и никогда себя не любил, наверно, поэтому и врачом стал, Бен, пойми меня, я хочу, чтобы она меня любила, но не хочу, чтобы она меня воспроизводила, ты, надеюсь, понимаешь меня? Послушай, Бен, ты только ради Бога не воображай, что я хочу оскорбить семью…
(«Оскорбить семью» – ну придурок! Он разговаривает со мной так, как будто я и в самом деле шеф клана.)
– …но что бы она там ни решила, сделает она аборт или нет, между нами теперь все кончено…
Я жду, когда он выдохнется, чтобы задать наконец свой вопрос:
– Лоран, сколько времени может продолжаться эпилептический припадок?
В нем немедленно просыпается профессионал:
– Это ты о Джулиусе? Ну, несколько часов…
– Он в таком виде уже целый день и две ночи.
Молчание. Его диагностическая машинка начинает крутиться.
– Может, это столбняк. Ты не помнишь, у вас там был какой-нибудь громкий шум поблизости от него?
– Нет, если не считать припадка Терезы.
– Попробуй хлопнуть дверью комнаты. Если это столбняк, он подпрыгнет к потолку.
Ничего себе, щадящий метод исследования! Я хлопаю дверью комнаты. Ни фига. Джулиус как каменный.
– Ну, тогда не знаю, – говорит доктор Бурден.
Редкий случай – врач чистосердечно признается в своем незнании.
– Лоран, сколько времени организм может продержаться без еды и питья?
– Это зависит от характера болезни, но в любом случае через несколько дней целый ряд внутренних механизмов полностью выходит из строя.
Теперь моя очередь задуматься. То, что я придумал, просто, как отчаяние:
– Лоран, спаси мою собаку.
– Я сделаю все, что смогу, Бен.
Варю себе кофе. Выпив его, воображаю, как гуща стекает по внутренним стенкам моего черепа, и стараюсь прочитать судьбу Джулиуса в этих коричневых разводах. Но я не Тереза, Сатурн и Уран – не мои кореша, и кофейная гуща может, самое большее, послужить удобрением для черной герани моей тоски. Эта самая тоска наводит меня на воспоминание о сияющей улыбке Сенклера и моем обещании стереть эту белозубую уверенность в себе.
Да, в этом направлении надо поработать. В некотором смысле я как Джулиус: за мою жизнь меня выгоняли из многих мест, но никто никогда не вынудил остаться там, где я не хотел оставаться. Итак, заняться вплотную Сенклером. Заставить его вышибить меня из Магазина! Точно, сделать так, чтобы он меня выпер! (Вот уж с ним-то я не собираюсь быть «ласковым».) А заодно это отвлечет от иных мыслей. Первый набросок моей грандиозной идеи начинает брезжить в мозгу, когда я натягиваю левую брючину, и приобретает более четкую форму, когда дело доходит до правой. Когда я застегиваю рубашку, эта мысль почти приобретает пропорции идеи века. И, зашнуровывая ботинки, я так доволен собой, что, если бы не шнурки, они, кажется, отправились бы без меня осуществлять этот гениальный план. Я сбегаю по лестнице, как вихрь мыльной пены в стиральной машине, заскакиваю к ребятам, хватаю несколько фотографий, сделанных Кларой, выбегаю на улицу и ныряю в метро. Стоит февраль, самый что ни есть зимний, с самой что ни есть непривлекательной начинкой из людей и событий. Хомейни гонит новорожденных на убой, Красная Армия защищает братьев-афганцев до последнего, Польша меняет курс погромов, Пиночет расстреливает, Рейган сокращает пособия, правые говорят, что во всем виноваты левые, а левые – что во всем виноват кризис, какой-то алкаш убедительно доказывает, что все мы сидим в дерьме, Каролина не хочет признаться, что она беременна, генсек Коммунистической партии дует в шарик с надписью «Общественное мнение», а шарик почему-то показывает процент алкоголя у него в крови… Но я, я, король Юбю, «живая крепость»[16]16
Король Юбю – герой одноименного фарса Альфреда Жарри (1873 – 1907), гротескный персонаж, сочетающий в себе здравый смысл, торжествующую вульгарность, жестокость и безмерный эгоизм. «Живая крепость» – одно из выражений, которыми Юбю обозначает самого себя.
[Закрыть], от радости я даже не замечаю, как пробегают станция за станцией, отделяющие меня от редакции «Актюэль», ежемесячного журнала всех «я».
Но когда я приезжаю туда, моя творческая лихорадка падает до нуля: я же не знаю фамилии тети Джулии. Если я начну описывать ее, у всей мужской половины редакции полопаются молнии на ширинках, вот единственное, чего я добьюсь. «Надо же быть таким тютей!» – думаю я, обходя квартал и ища вдоль тротуаров некий предмет, который, как мне кажется, узнаю наверняка. И я его узнаю. Древняя лимонно-желтая малолитражка тети Джулии припаркована перед самым въездом во двор бакалейной лавки с двумя квитанциями на штраф на столь же древнем ветровом стекле. Маленький бакалейщик – типичный арабоненавистник – бегает вокруг и орет, что сейчас позовет полицию. Я ему советую позвонить лучше хипарям из «Актюэль» и, с похабной ухмылкой, намекаю, что он не будет разочарован, когда увидит кузов владелицы (так!). А сам открываю дверцу, усаживаюсь, жду. Недолго. Тетя Джулия появляется буквально на следующей минуте. Несмотря на холод, посмотреть есть на что. Маленький бакалейщик, который уже разинул свою большую пасть, давится приготовленными ругательствами и отходит к своим ящикам. Тетя Джулия с размаха садится за руль и, даже не глядя на меня, говорит:
– Вали отсюда.
– Да я только что пришел.
Она яростно включает сцепление и отъезжает, доходчиво объясняя мне, что я – тот еще козел, что к ней в редакцию притащились два придурка из полиции, задали ей кучу идиотских вопросов о взрыве и под конец спросили, как ей не стыдно воровать кофточки в стране, где два миллиона безработных, тогда как у нее – высокооплачиваемая необременительная должность, которая, как курочка в сказке, приносит ей золотые яички («Если про вас так можно сказать», – якобы добавил инспектор). Все ребята из ее отдела легли со смеху, а она позеленела от злости и поклялась отрезать мне мои с помощью резака для бумаги.
Внезапно она тормозит посреди бульвара Итальянцев, вызывая этим целый концерт сигналов, и оборачивается ко мне:
– Скажи честно, Малоссен (правда, она же знает мою фамилию), что ты за тип? Сначала ты меня спасаешь от вашего фирменного легавого, потом заводишь, но не трахаешь, а в конце концов продаешь ментам. Ну что ты за человек?
(Я думаю о дружище Казнаве, но не говорю ей об этом.)
– Я еще хуже, чем ты говоришь, тетя Джулия.
– Перестань называть меня тетей Джулией и катись из моей тачки.
– Подожди, сначала я тебе сделаю одно предложение.
– Никаких предложений! Я на тебя вот так уже насмотрелась!
– Есть идея для репортажа.
– Что, опять о бомбах в Магазине? Да нас уже завалили «сенсационными разоблачениями»! Каждый день человек, наверно, пятьдесят, не меньше, и все из вашей лавочки. Что мы вам, «Пари-Матч», что ли?
Нам сигналит уже весь бульвар. Джулия включает сцепление и с шиком прокатывает перед самым носом мента в шинели цвета спелой сливы, который записывает ее номер, облизывая фиолетовые губы.
– Какие там бомбы! Дай мне пять минут, и, если идея тебе не понравится, ты больше не услышишь обо мне до конца своего бренного существования.
– Две.
Ладно, пусть две. Мне больше и не надо, чтобы объяснить ей свою роль в Магазине и довести до ее сознания, какой роскошный фоторепортаж из этого может выйти. Как раз в духе почтенного журнала, в котором она имеет честь трудиться. Она сбавляет скорость по мере того, как я излагаю свою идею, и в конце концов останавливает машину как раз посередине широкой пешеходной дорожки, вопреки всем существующим правилам.
Затем медленно поворачивается ко мне:
– Значит, козел отпущения, да?
В ее голосе вновь слышится шелест саванн, от которого я расцветаю.
– Да, такая вот у меня работа.
– Это не просто работа, Мало! (Всю жизнь ненавидел, когда меня называли Мало.) Это отголосок древнейшего мифа. Мифа, который лежит в основе всякой цивилизации. Нет, ты понимаешь, что это такое?
(Так, ситуация меняется, теперь она завелась.)
– Взять, к примеру, иудаизм и христианство, его младшего братика. Мало, ты когда-нибудь задумывался, как Яхве, божественный параноик, заставлял плясать под свою дудку все свои бесчисленные создания? Да очень просто: на каждой занюханной странице своего занюханного Завета он указывал им козла отпущения. Вот так-то, милый мой!
(Я уже ее милый. При таком запале статья выйдет что надо – как на твой взгляд, Сенклер?)
– А католики, а протестанты? На чем они держались, как набивали сундуки? Да все так же – подсовывая дуракам козла отпущения.
(Ну и женщина! На каждую жизненную ситуацию у нее своя космическая теория!)
– А сталинисты с их показательными процессами? А мы сами? Мы, которые считаем, что не нужно верить ни во что, – почему мы до сих пор не пришли к выводу, что мы дерьмо? Да потому, что от соседа несет козлом. Вот так-то, дорогой Мало! (Опять Мало!) А если бы не было соседей, мы бы сами разбились на две части, чтобы каждая служила козлом для другой и воняла бы за нее!
Я уже смирился с тем, что она называет меня Мало, и любуюсь ее энтузиазмом. Передо мной та же тетя Джулия, что в день нашей встречи. С горящим взглядом и пламенеющей гривой. Но, учитывая мою подмоченную репутацию, я сдерживаюсь и только спрашиваю:
– Так подходит тебе этот сюжет?
– Еще бы нет! О лучшем я никогда и не мечтала, как бы ни заносилась. Козел отпущения в торговле – блеск!
(Слышишь, Сенклер?)
Итак, она клюнула. А теперь надо действовать аккуратно. И я тихонько говорю:
– Но одно условие.
Она тут же ощетинивается:
– Никаких условий. Если бы я принимала условия, то работала бы в «Фигаро».
– Фотографа даю тебе я.
– А что за фотограф?
– Женщина. Та, которая сделала эту фотографию.
Демонстрирую снимок, сделанный Кларой в вечер нашей несостоявшейся любви. На нем Джулия и я. На лице Джулии удивление и ярость, вызванные вопросом Терезы относительно калибра ее грудей. Я же являю собой зримый образ сокращения, усыхания, атрофии.
18
На ее взгляд, фотография неплохая. Я ей ее дарю, и негатив в придачу. Затем показываю снимки, сделанные в Булонском лесу, когда Тео устраивал сабантуй для бразильских травести. На фотографиях – расцвеченная блестками нагота тел в ночи, проступающая в разрывах пара над тарелками, и бесхитростная радость широкоскулых лиц, как всегда, на полделения более самозабвенная, чем радость обычных людей.
– Как она ухитрилась снять их за работой? – спрашивает Джулия. – Они же почти все нелегалы.
– А она такая, что люди ей доверяют. Она вроде ангела.
Мы едем теперь по городу спокойно, как по пшеничным полям, Джулия попросила, чтобы я рассказал ей обо всем – о себе, о Магазине, о семье, – и я ей рассказываю. Я рассказываю ей об этом и в ресторане, где она кормит меня за счет редакции. Я рассказываю ей о матери, которая постоянно смотрит на сторону, о Терезе, витающей в небесах, о Малыше и его рождественских людоедах, о Жереми и вообще обо всем этом мирке, который я кормлю, принимая на себя первородный грех рыночного общества. И когда я дохожу до Лауны, которая никак не может решить, сохранить ей или нет плод своей единственной любви, тетя Джулия кладет свою длинную смуглую руку на мою:
– К вопросу делать аборт или не делать – ты не хочешь сходить со мной сейчас на одну тусовку? Мне надо готовить репортаж на эту тему.
Конференц-зал, куда мы проникаем по пресс-карточке тети Джулии, похож своими пропорциями на Елисейский дворец, а красновато-коричневой претенциозностью – на «Голубую стрелу», отходящую с Лионского вокзала. Безвкусица, которая переживает века и безотказно качает валюту. Зал почти полон. Слышно аппетитное шуршание дорогого белья. Мы пробираемся к боковым местам, отведенным для прессы, справа и слева от стола президиума. Такое расположение придает сборищу вид суда присяжных. Впрочем, то, что здесь происходит, это и в самом деле своего рода процесс – процесс Женщины-Которая-Делает-Аборт. По крайней мере, именно это утверждает пожилой мужик с бритым черепом, стоя за большим столом, крытым красным бархатом. Перед ним публика в зале слушает, рядом с ним другие важные шишки слушают, и даже тетя Джулия, которая вытащила записную книжечку, слушает. Я же смотрю и думаю, где я уже видел эту широкую морду без единого волоска, эти острые уши, взгляд, как у Муссолини, весь этот облик здоровенного шестидесятилетнего воротилы. Но одно точно: голоса этого я никогда не слышал. Более того, еще ни разу в жизни такой холодный, металлический тембр не проникал за мои барабанные перепонки. А тетя Джулия знает и этого типа, и его голосок. Она записывает в своей книжечке почерком, удивительно ровным для такой вулканической натуры: «Проф. Леонар в обычном жанре». Затем, как школьница, проводит аккуратную черту и приписывает: «глуп, как всегда». Я, естественно, тоже начинаю слушать.
Если я правильно понял, этот самый Леонар (чего он, интересно, профессор?) имеет честь быть председателем некоей «Лиги защиты рождаемости и молодежи», которая достаточно влиятельна в стране, чтобы обладать некоторым весом и на политической арене. Вот об этом-то он и печется.
– Положа руку на сердце и не забывая при этом, что наша деятельность носит не политический, а лишь информационный характер (где-то я уже слышал эту байку?), мы не можем не задаться вопросом, как мы, христиане, защитники рождаемости, французы, наконец, распорядимся нашими голосами на ближайших выборах.
(Ах вот оно что!)
– Вольются ли они в хор голосов, которые, глумясь над нашими непреходящими ценностями, легализовали аборт?
Взгляд его сверкает таким огнем, что жгучее дыхание преисподней опаляет зал.
– Нет, друзья мои, я так не думаю, – успокаивает Леонар, демонстрируя недюжинное знание психологии толпы. – Не думаю я, что это произойдет.
(Честно говоря, я тоже не думаю.) Заглядываю через плечо в блокнотик тети Джулии и вижу, что она больше ничего не записала. Когда я снова включаю уши, медноголовый Леонар рассуждает об иммиграции, «которая давно уже перешла все допустимые пределы», и перечисляет проблемы, возникающие в связи с этим бедствием, «как с точки зрения экономики, так и образования, не говоря уже о безопасности граждан и, в частности, о безопасности наших дочерей».
Одно из двух: либо этот тип не любит арабов, либо он ни на грош не доверяет своей дочери. В любом случае Хадуш переломал бы ему все запястья. Я позволяю себе отвлечься и окидываю взглядом публику. Публика самая что ни есть отборная, с той привычкой к богатству, которая дается многовековой практикой всесторонне обдуманных браков. В основном женщины – мужчины остались в офисах. И опять, не знаю почему, это наводит меня на мысль о Лауне, о Лоране, об их встрече. Ей было девятнадцать, ему – двадцать три; она спускалась по лестнице в метро, он поднимался. Ее только что бросил один чувак, который предпочитал отвлеченные идеи, а он шел сдавать конкурсный экзамен в интернатуру. Он увидел ее, она – его, и Париж остановил свое коловращение. Он не пошел на экзамен, и в течение года они не выходили из комнаты. Я таскал им сумки со жратвой и с книжками. Потому что они все-таки ели, и даже с аппетитом. И в промежутках между своими межзвездными путешествиями читали друг другу вслух. Иногда даже во время, доказывая тем самым, что одно другому не помеха. Скажите, милые дамы, кто из ваших мужей 986-й пробы плюнул ради вас, ради любви, на важный экзамен, на год учебы, на будущие доходы? Есть такой?
Ладно, Малоссен, не увлекайся, посмотри лучше – на сцене кое-что меняется. Плешивый Леонар сел наконец, предоставив слово другому профессору (за столом-то, оказывается, сплошь профессура!). Когда тот встал, я чуть не упал со стула – такой разительный получился контраст. Насколько Леонар плотен, блестящ, закончен, агрессивен, настолько этот новый, который представился как профессор Френкель, гинеколог и акушер (фамилия вроде бы и в самом деле известная в этих кругах), – настолько этот самый Френкель изможден, хрупок и нелеп. Глядя на его чудовищную худобу, узловатые руки, его торчащие на все четыре стороны света космы, его взгляд ребенка, удивленного на всю оставшуюся жизнь, можно подумать, что это не человек, а наскоро слепленное создание какого-то накурившегося травки Франкенштейна, доброе и беззащитное, пущенное во враждебный мир, который только и думает, как бы его обидеть.
– Я не буду говорить о политике, – заявляет он в свою очередь (но ему я, как ни странно, верю). – Я подойду к этому вопросу с позиций Священного Писания и учения отцов Церкви.
И в одну-единственную фразу, которая, однако, растягивается у него на добрые четверть часа, так что вся аудитория тихо засыпает, он ухитряется всадить все: и грешную плоть, которая подлежит отсечению, и верблюда, и игольное ушко, и первый камень тому, кто без греха, и «блаженны нищие духом», и «приведите ко мне малых сих»… И заканчивает он цитатой из святого Фомы или какого-то другого святого: «Лучше родиться больным и убогим, чем не родиться вовсе».
И тут разражается скандал, как написали бы в газетах.
Крупная блондинка из второго ряда, которую я раньше не заметил, закутанная в какой-то немыслимый древневавилонский мех, вскакивает с места, как античная фурия, сует руку в фирменную сумку, выхватывает оттуда нечто бесформенное, сочащееся кровью, и швыряет изо всех сил в оратора, пронзительно визжа:
– Держи, старый дурак, вот тебе грешная плоть!
С каким-то влажным свистом эта штука летит над головами публики и ударяет в грудь Френкеля. Мутная кровь брызжет на почтенную профессуру, сидящую за столом. Лицо Френкеля уже не выражает, а воплощает страдание. А Леонар с рычанием и с проворством ягуара лихо перекидывает свои шестьдесят годков через стол и с горящим взглядом бросается на блондинку, выставив когти вперед. Блондинка буквально взлетает на стул, широко распахивает свою шубу и кричит:
– Руки прочь, Леонар, я заряжена!
Леонар застывает на лету, а профессура испускает крик ужаса. Распахнув шубу, блондинка демонстрирует самое роскошное тело беременной женщины, о котором только может мечтать защитник рождаемости. Голая с ног до головы, полная цветущей полнотой, налитая, как воздушный шар, она воплощает плодородие во всей его космической мощи.
Своим почерком девочки-отличницы тетя Джулия записывает, что профессор Леонар познакомился с диалектикой.
Позже, в ее малолитражке, вспоминая окропленную телячьей кровью скорбь Френкеля, я высказываюсь в том смысле, что блондинка неправильно выбрала цель: требуху надо было швырять в Леонара, потому что настоящий гад – он. Джулия смеется:
– Я думала, Малоссен, что ты пошел в козлы отпущения из мазохизма, а ты, оказывается, просто святой.
Что ж, допустим.
Святой просит высадить его у дверей Магазина, входит внутрь и принимается бродить по проходам первого этажа. Кого-то он ищет. Кого-то вполне определенного, кого обязательно нужно найти. Срочно. Семь часов вечера. Надеюсь, он еще не слинял. Господи Боже, сделай так, чтобы он еще не ушел! Пожалуйста, я же никогда ничего у тебя не прошу. Ты, наверно, никогда обо мне и не слышал. Исполни мою просьбу, жалко тебе, что ли? Спасибо! Вот он. Сворачивает в отдел шерстяного трикотажа. В отделе ни души. Блеск! Ускоряю шаг, и вот мы встречаемся.
– Привет, Казнав!
И закатываю ему апперкот в печень, классический, вкладывая в удар всю тяжесть тела (научился по книжкам). Он сгибается вдвое, и я едва успеваю отскочить, чтобы он не заблевал мне ботинки – пусть блюет на свои. (Основная трудность со святыми в том, что их святости, как правило, не хватает на весь день.)
С сознанием исполненного долга спускаюсь в отдел «Сделай сам», где Тео, как обычно по вечерам, шмонает своих стариков. Они послушно стоят в очереди на обыск, и ни один не пытается протестовать, когда Тео извлекает из карманов их халатов наворованное за день.
– Привет, Бен! Ты что, и по выходным теперь ишачишь? То-то Сенклер обрадуется!
Я преподношу ему фотографии, снятые Кларой в Булонском лесу, и помогаю разложить по местам украденное барахло.
– Представляешь, тут один недавно целый день болтался с пятью кило гербицида в карманах!








