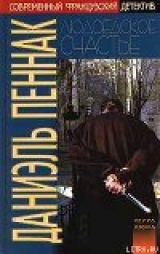
Текст книги "Людоедское счастье"
Автор книги: Даниэль Пеннак
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
33
– Ты соображаешь? Ты соображаешь, что ты натворила?
– Я хотела сделать тебе сюрприз, Бен.
– Да уж, сюрприз так сюрприз!
Мое бешенство не поддается описанию. И надо же, чтобы именно Кларе, моей Кларе, пришла в голову мысль изготовить одиннадцать (!) фотокопий рукописи и послать их в одиннадцать издательств! Одиннадцать! (11!)
– Ты зря так злишься – получилось ведь очень хорошо. Полицейские очень забавлялись, когда читали.
Задушить, что ли, Лауну? Задушить Лауну, которая сидит, скрестив пальцы на полусфере своего грядущего материнства, и говорит мечтательным тоном? Может, в самом деле, а?
– В особенности портрет Аннелиза-Наполеона: тут они прямо катались.
– Лауна, пожалуйста, заткнись. Дай Кларе сказать.
(Нет, но что у них в голове, у детей? А у старших? Что у них в башках? Интересно, это только мамины сделаны по такому образцу или они все такие? Кто бы мне объяснил, – кто угодно, пусть даже профессиональный педагог, но объясните!) Следствие продолжается, легавые следят за мной вот уже сколько месяцев, а Жереми поджигает школу, и на следующий день Клара посылает мой рассказ в одиннадцать издательств (Клара! В одиннадцать!), рассказ, в эпилоге которого дается рецепт самодельной бомбы и секрет ее изготовления в стенах Магазина! ПОЧЕМУ???
– Я хотела тебя утешить, Бен.
(Утешить меня…)
– Я спросила Джулию, и она сказала: «Посылай».
(Еще одна сумасшедшая в моем окружении!)
– А потом, это же очень забавно, Бен, я тебя уверяю. Полицейские в самом деле помирали со смеху.
(Да, я заметил. В особенности Аннелиз…)
– В таком случае как ты объяснишь отказ издательства?
Дело в том, что сегодня утром Клара принесла мне вместе с завтраком первый ответ. Отказ, вежливый, но категоричный. Рецензент отмечает «неистощимую фантазию» автора шедевра, но критикует последний за «некоторую рыхлость композиции» (еще бы ее не было!), задается вопросом об «уместности публикации подобного текста в ситуации, когда аналогичное дело не сходит со страниц газет» (я тоже, между прочим), и заключает, что при всех условиях «произведения такого жанра не предусмотрены нашими издательскими планами».
(Хорошо еще, что так…)
– Это ничего не значит, Бен, остается еще десять издательств! Почему ты всегда считаешь, что то, что ты сделал, плохо?
Хищник во мне готовится к прыжку. Его взгляд устремлен на живот Лауны. Он думает: «Дней через десять еще и эти двое сядут мне на шею». Он уже оскалил пасть, клыки зловеще блестят. Именно этот момент выбирает Тереза, чтобы высказать гипотезу, характеризующуюся редкой психологической проницательностью:
– Бен, а может, ты просто злишься, что тебе отказали?
(Преждевременный выход на пенсию для старшего брата – такое законом не предусмотрено?)
Вот так обстоит дело в семье. Ну а на работе тоже не слабо, как сказал бы Жереми. Старика с мордой кузнечика и след простыл. Моих легавых тоже больше не видно. Я один. Один на минном поле. Хлопнет ли где-нибудь дверь, упадет ли что-нибудь тяжелое с прилавка, повысит ли кто-нибудь голос – от всего я дергаюсь. Даже от голоса мисс Гамильтон. Все время на грани обморока – законченный параноик!
В бюро претензий из сочувствия к пострадавшим я плачу настоящими слезами, и Леман, которому приходится тратить уйму времени, чтобы приводить меня в норму, распространяет слух, что я начал закладывать за воротник.
– Это правда? – спрашивает Тео. – Я бы на твоем месте предпочел наркоту. Для здоровья это так же плохо, но для настроения лучше.
А Сенклер соболезнует:
– Ваша должность требует колоссальных затрат нервной энергии, господин Малоссен, и, честно говоря, это чудо, что вы сумели так долго продержаться. Потерпите, скоро мы найдем вам другую работу. Что вы скажете, например, о должности надзирателя первого этажа? Потому что мы собираемся расстаться с господином Казнавом.
Почему старый Джимини-Кузнечик исчез? Потому что я его выследил? Но он же сам делал все возможное, чтобы попасться мне на глаза! Если бы не звонок Лауны, он продемонстрировал бы мне все стадии своей технологии изготовления бомбы. Может быть, он почувствовал, что за мной следят ребята Аннелиза? А эти двое – почему они тоже испарились? Почему их не заменили другими невидимками? В Магазине больше ни одного легавого. Ни Тео, ни его стариков не допросили. Что значит это одиночество? К чему все это клонится? Мне нужна бомба. Мне нужен взрыв. Должен же я наконец узнать, где, когда и кто! Я должен ущучить сукина сына, который вот уже столько времени пытается свалить на меня это дело. Иначе меня заметут вместо него. Да, прямых улик нет, но куча косвенных и гора подозрений – более чем достаточно, чтобы упечь меня в тюрягу до совершеннолетия близнецов Лауны. А кто их воспитает, этих придурков? Жереми? Он их научит делать нейтронную бомбу! Мама? Мама…
– Мама, мама!..
Тео застал меня в душевой рядом с раздевалкой в состоянии абсолютного распада. Я безудержно рыдал над умывальником, полными пригоршнями плескал себе на лицо холодную воду и мычал, как теленок: «Мама, мама!» Мое отчаяние заимствовало классическую формулу «Отче, зачем ты оставил меня?», которая всплыла в памяти из тех давно забытых времен, когда мама водила меня в воскресную школу, пытаясь подсунуть мне вместо отца Боженьку: «Мама, мама, зачем ты оставила меня?» И Тео принялся утешать меня, как некогда Ясмина, жена старого Амара, Тео, которого я предал, выдав полиции старикашку мстителя из его когорты.
– Говоришь, один из моих стариков?
– Один из твоих стариков, Тео, тот, у которого морда кузнечика. Помнишь, он еще возился с кранами в день, когда взорвался фотоавтомат. Поэтому, наверно, он и хотел тебя оттащить от кабинки – чтобы тебя не ранило при взрыве… Его-то я и заложил легавым – слишком много подозрений против меня!
Твердой рукой Тео закрывает кран и, раз уж мы настроились на эту волну, евангельским жестом вытирает мне лицо. Удивительно, как при этом моя рожа не отпечатывается на казенном полотенце…
– Брось, Бен, не так уж это важно. Все равно, имея фотки из шведского гальюна, легавые сообразили, что к чему.
– Как его зовут, этого старика?
– Понятия не имею. Я их не зову по именам, только по прозвищам.
– А где он квартирует?
– Поди знай… В каком-нибудь пансионе или в комнате для прислуги.
– Почему он исчез?
– Как по-твоему, Бен, почему люди исчезают в таком возрасте?
– Думаешь, он умер?
– С ними это бывает, и мы всегда удивляемся – такие у них бессмертные морды.
– Тео, он не имел права умереть!
(«Поставьте полдюжины свечей, чтобы его нашли…»)
– Возможен и другой вариант.
– А именно?
– Он выполнил свои обязательства, Бен, ликвидировал всех людоедов и растворился в окружающей среде.
34
В течение недели с лишним Джулия, Тео и я обшаривали андеграунд парижских стариков. Тео руководствовался при этом указаниями собственных старперов, Джулия – своим исследовательским инстинктом, а я ходил то за ним, то за ней, слишком заторможенный, чтобы проявить инициативу, но при этом слишком напуганный, чтобы сидеть сложа руки. Мы обошли все, от самых занюханных ночлежек Армии Спасения до самых шикарных бридж-клубов, не говоря уже о куче заведений, преследующих явно корыстные цели, – с битком набитыми спальнями, уборными без малейшего следа сливных бачков, прозрачным супом, непроницаемыми директрисами; словом, никаких удобств ни на каком этаже. Каждый день приближал Тео к самоубийству, а Джулию – к ее очередной статье.
– Бен, я кое-что обнаружила!
(Проблеск надежды в моем измученном сердце.)
– Что же, Джулия? Скажи скорей!
– Грандиозную сеть торговли наркотиками. Все эти старики – добыча наркоторговцев.
(Да плевать мне на это, Джулия, плевать с высокой колокольни! Забудь на минуту свое ремесло, найди мне моего старика, черт подери!)
– Они накачиваются, как не знаю кто. Да оно и понятно: им надо забыть обо всем, даже о будущем. А если они не хотят забыть, значит, хотят вспомнить, а это двойная доза!
Я видел, что она загорелась, и знал по опыту, что этот пожар не потушить ничем.
– Кое-кто уже давно сообразил это. Я обнаружила такие сделки… Поверь, настоящий рынок наркоты, он именно здесь!
(Только этого еще не хватало! Мало мне своих причин для беспокойства… Не делай глупостей, Джулия, будь осторожна!)
Но она ничего не хотела слушать.
– Понимаешь, у них всегда что-нибудь болит, а врачи никогда не дают им достаточные дозы для обезболивания.
(Джулия, умоляю, займись мной. Я важнее для тебя, чем эти старики.)
– А власти закрывают глаза: для них если какой-нибудь старик загнется от сверхдозы – что ж, туда ему и дорога.
Мало-помалу Тео принялся вербовать новую клиентуру для Магазина, Джулия начала всерьез копать для будущей статьи, и я остался наедине со своей проблемой. В моей пустой голове все время вертелась фраза Тео: «Может, он выполнил свои обязательства и растворился в окружающей среде».
Нет, Джимини-Кузнечик не выполнил своих обязательств. Ему осталось ликвидировать еще одного людоеда. Шестого, и последнего. Это он сам мне сказал. Вчера вечером. Он запросто возник из небытия и уселся напротив меня в пустом вагоне ночного метро в тот момент, когда я уже окончательно потерял надежду его отыскать. Маленький старикашечка с мордой кузнечика.
Не буду распространяться о моем удивлении и сразу воспроизведу главную часть диалога.
– Значит, последнего?
– Да, молодой человек, их было шестеро. И они называли себя «Общество 111».
– Почему ста одиннадцати?
– Потому что сто одиннадцать, умноженное на шесть, дает шестьсот шестьдесят шесть – звериное число, а сто одиннадцать должно было быть числом жертв.
Он улыбнулся с некоторой даже снисходительностью.
– Символика чисел, молодой человек. Глупость, конечно, детство… Самые жуткие зверства всегда основываются на таких вот детских играх.
Ладно, вернемся все-таки к началу этой сцены. Он, значит, уселся напротив меня и приложил палец к губам, чтобы я не закричал от удивления.
Он улыбнулся и сказал:
– Да, да, это я.
Кроме нас в вагоне было еще трое. Трое спящих. Я ехал домой после беседы со Стожилковичем, которая не подняла мне настроения. Стожил только повторял все время:
– Поверь, сынок, он где-то поблизости. Всякий настоящий убийца становится собственным призраком.
– А что такое настоящий убийца?
– Настоящий – значит бескорыстный.
И вот он нашелся, этот бескорыстный убийца, которого я так искал. Он сидел прямо передо мной.
Он уселся, как карлик на троне, поерзав ягодицами, чтобы опереться на спинку. Его ноги болтались в пустоте, как ноги моих мальчишек на поставленных друг на друга кроватях. И его глаза блестели тем же блеском, что у них. На нем был уже не серый сиротский халат, а соответствующий возрасту тергалевый костюм, безупречные складки которого свидетельствовали о его социальном статусе. В петлице поблескивала красная ленточка Почетного легиона. Без всякого вступления он начал рассказывать. Ни секунды не подумал, что я могу наброситься на него, чтобы связать и доставить прямиком комиссару Аннелизу. И ни на секунду эта мысль не пришла мне в голову. Рассказывая, он рос в моих глазах, а я уменьшался, слушая. История в конечном счете меня не удивила, и изложена она была без претензии на художественный эффект. С ходу в суть дела – суть, которая, впрочем, была скорее похожа на абсурд. 1942 год. Магазин закрывается по причине всеевропейского погрома. И однако целых шесть месяцев длятся юридические проволочки. Владельцы пытались защищаться, а цивилизация играла в законность. Но исход предрешен: через шесть месяцев перед ними разверзлись пасти кремационных печей. «История рассудила», как сказал этот накрахмаленный идиот Риссон, окопавшийся среди своих книг. Административный совет приказал долго жить.
1942 год. В течение шести месяцев большой универсальный магазин покоится в безмолвной полутьме своего изобилия. Товары спят сном войны, а вокруг – кордон полиции. Некоторые коричневые идеологи предлагали даже держать его закрытым, как склеп, до дня тысячелетнего юбилея национал-социализма.
– Они говорили об этом так, молодой человек, как будто юбилей этот завтра, убежденные, что, проглотив Европу, они подчинили себе и время.
И действительно, всего через несколько недель Магазин обрел таинственность египетских пирамид. Его темнота и неподвижность порождали слухи, как труп порождает червей. О том, что якобы творилось в его недрах, рассказывали самое невероятное. Для одних он был подпольной штаб-квартирой Сопротивления, для других – экспериментальным центром пыток гестапо, а для третьих – просто самим собой, закрытым на неопределенное время музеем недавней эпохи, внезапно ставшей историей. Но все смотрели на него так, как будто не узнавали его.
– Общественное место, внезапно и целиком выведенное из общественного обихода, в мгновение ока становится воплощенной легендой.
Да, в то время воображение скакало галопом по бескрайнему полю легенд. За несколько месяцев в памяти людей и в самом деле протекло тысячелетие.
И вот в эти-то времена закусившей удила вечности шесть людоедов из «Общества 111» нашли себе приют в таинственной полутьме этого хранилища допотопных товаров.
– Кто они были?
– Вы знаете не хуже меня. Шесть человек самого разного воспитания и склада, объединенные презрением к тем, кого Элистер Кроули называл мерзкими ублюдками двадцатого века, но при этом преисполненные решимости как можно лучше использовать ситуацию развороченного муравейника.
– Профессор Леонар – он был из них?
– Да. Он-то как раз и утверждал, что воплощает дух Элистера Кроули. Другой отождествлял себя с Жилем де Рецем[26]26
Жиль де Лаваль, барон де Рец (1396 – 1440) – бретонский дворянин, участник Столетней войны; известен главным образом тем, что заманивал в свой замок детей и затем зверски убивал их во славу Сатаны. Казнен по приговору суда.
[Закрыть] и так далее. Всех их объединял демонический синкретизм, который они рассматривали как душу своего времени. Да так оно и было, молодой человек, они действительно были душой своей эпохи, душой, питавшейся живой плотью.
– Плотью детей?
– А иногда и животных. Например, собаки, которую Леонар загрыз зубами.
(Вот, значит, что почуяла твоя душа, старина Джулиус! Рассказать – так не поверят…)
– Откуда они брали детей?
– Во время голода Жиль де Рец заманивал их, открывая свои закрома. Они же открывали им дверь в царство игрушек.
(Рождественские людоеды!)
– Люди, которые боялись ареста, передавали своих детей подпольной организации, которая бралась переправить их в Испанию, в Соединенные Штаты, подальше от массовых убийств. На деле же их путь заканчивался во тьме Магазина. И вот шестой, и последний, тот, что поставлял детей, теперь должен умереть.
– Когда?
Я задал этот вопрос совершенно непроизвольно, твердо убежденный при этом, что вырвать у него ответ не удастся никакими силами.
– Двадцать четвертого числа этого месяца.
Он посмотрел на меня с улыбкой и повторил без малейшего колебания:
– Двадцать четвертого, в 17.30, в отделе игрушек. И вы будете при этом присутствовать, молодой человек. Полагаю, что дивизионный комиссар Аннелиз тоже придет.
Он заставил меня шесть раз сделать пересадку. В облицованных плиткой переходах он шагал абсолютно беззвучно. Только тогда я заметил, что на нем мягкие тапочки.
– Что делать, годы… – пробормотал он с извиняющейся улыбкой.
Он ответил на все мои вопросы, в том числе и на тот единственный, который заключает в себе все остальные:
– Зачем вы меня втянули в это дело?
Поезд с грохотом катился где-то в районе Гут д'Ор[27]27
Гут д'Ор – квартал Парижа (XVIII округ), населенный по преимуществу выходцами из бывших французских колоний.
[Закрыть]. На сиденьях мотали головами сонные негры. Спящие головы на чутких плечах.
– При чем тут я?
Он долго смотрел на меня, как будто сверяясь с каким-то внутренним регистром, и наконец ответил:
– Потому что вы святой.
И так как я посмотрел на него бараньими глазами, он счел нужным разъяснить, что он имеет в виду:
– Вы выполняете замечательную работу в этом Магазине, работу, которая воплощает человечность в чистом виде.
(Скажешь тоже…)
– Беря на себя ответственность за вину каждого, взваливая себе на плечи все грехи торговли, вы ведете себя как истинный святой, чтобы не сказать – как Иисус.
(Я – Иисус? Господи Иисусе!)
– Я вас так долго ждал!
В его глазах внезапно зажглось множество огоньков, как в день сошествия Святого Духа к апостолам. И так освещенный изнутри, он объяснил, почему регулярно взрывает бомбы у меня под носом. По его мнению, искоренение абсолютного зла должно совершаться перед лицом его антипода, воплощенного добра, козла отпущения, символа преследуемой невинности, иначе говоря, на моих глазах. Необходимо, чтобы при уничтожении демонов присутствовал святой.
– Вы засвидетельствуете все, молодой человек, ибо вы – единственный носитель истины, единственный, кто достоин ее.
Само собой разумеется, что, едва выпустив моего кузнечика во тьму парижской ночи, я бросился к телефону-автомату и позвонил Аннелизу. Он выслушал меня без всяких эмоций и затем сказал:
– Говорил я вам, что вы выполняете опасную работу.
(Клянусь моей святостью, это скоро кончится.)
– Так, говорите, двадцать четвертого, в 17.30, в отделе игрушек? Это, значит, в четверг. Хорошо, я приду. Постарайтесь и вы там быть, господин Малоссен.
– Исключено!
– Но тогда ничего не произойдет и вы останетесь подозреваемым номер один в глазах моих подчиненных.
Дошло. Я его спросил еще:
– У вас есть какие-нибудь соображения относительно того, кто будет последней жертвой? Кто этот поставщик детей, который должен умереть?
– Абсолютно никаких. А у вас?
– Он сказал только, что это будет сюрприз для меня.
– Что ж, подождем сюрприза.
Джулиус ждал меня, лежа на полу у кровати. Джулиус, у которого во всем этом деле оказалось больше чутья, чем у меня. Джулиус, который ответил на все вопросы, Джулиус, которого я так до сих пор и не помыл. Я погладил его голову мыслителя и с размаха опустил свою на подушку. И тотчас получил холодную пощечину от соприкосновения с глянцевой обложкой журнала.
Это был номер «Актюэль».
Тот самый, который излагал житие святого. Наконец-то вышел!
Я пробежал соответствующие страницы и, честно говоря, испытал смешанные чувства. Если когда-нибудь мой Зорро-орденоносец прочитает это, ему придется пересмотреть параметры моей святости. С другой стороны, ощутил искреннее удовольствие при мысли о том, какую рожу скорчит Сенклер. И наконец, подлинное ликование, когда подумал, что теперь-то меня точно выгонят, что я наконец отделаюсь от этой вонючей работенки. Потому что расследование расследованием, а после этой статьи Сенклеру таки придется меня выгнать!
В первый раз за много недель (и несмотря на перспективу ближайшего четверга) я заснул сном человека, рожденного для счастья.
35
– У вас есть дети, Малоссен?
Его лицо абсолютно неподвижно. Как и в последний раз, Сенклер принял меня в своем кабинете. Но ни о виски, ни о сигаре речи нет. Нет даже стула. И удовлетворения своего он, естественно, не высказывает. Он только спрашивает:
– У вас есть дети?
– Не знаю.
– Вам следовало бы выяснить это, потому что я закачу вам процесс, который вы проиграете и который разорит вас до седьмого колена. Так что надо предупредить возможных наследников.
Раскрытый номер «Актюэль» лежит у него перед глазами, но смотрит он на меня.
– Что вы плюете в собственную тарелку, это, в конце концов, не оригинально. Так или иначе, это вам тоже обошлось бы недешево. Но после того, как суп съеден…
Он быстро подсчитывает что-то в уме…
– Вам будет век не расплатиться, господин Малоссен.
Улыбка, которую я так хотел стереть, снова возникает на его физиономии с гибкой непринужденностью, присущей пресловутому дару приспособления. Тому самому, которого начисто лишен липовый святой в моем лице.
– Поскольку вы, как вам известно, подписали контракт, который четко определяет функции технического контроля. И в нужный момент перед вами окажутся восемьсот пятьдесят пять служащих, которые все без исключения подтвердят – вполне искренно при этом, – что вы никогда не выполняли соответствующим образом свои обязанности, предпочитая играть жалкую роль мученика, продукт вашего больного воображения, и что единственный просчет, который допустила фирма, заключается в том, что она так долго терпела вас в своих рядах.
Пауза.
– За три года, в течение которых я возглавляю Магазин, ни один служащий не был уволен, господин Малоссен. – И повторяет, улыбаясь все той же улыбкой: – Ни один.
(В самом деле, у него на все случаи жизни одна улыбка.)
– Вот почему мы держали вас на работе.
Теперь в его голосе нечто иное – то, что составляет силу всех Сенклеров мира: он верит в то, что говорит. Он тут же твердо уверовал в свою версию, которую только что сочинил. Это уже не его правда, а правда вообще. Та, благодаря которой позванивают своими звоночками электрические кассы Магазина. Единственная.
– И еще одно.
(Что же, Сенклер?)
– На вашем месте я бы осторожнее ходил по улицам, потому что если бы я был в числе покупателей, которые имели с вами дело за последние шесть месяцев, то непременно постарался бы вас отыскать… Сколько бы времени у меня это ни заняло.
(Действительно, я вижу, как передо мной встает некая спина – такая, с какой только солнечные затмения вызывать, – и слышу голос: «Выше нос, кореш! Не тушуйся ты так перед этим дерьмом, атакуй!»)
– У меня все.
(Как все?)
– Можете идти. Вы уволены.
И тут я свалял дурака – забормотал с видом искушенного в делах человека:
– Но вы же говорили, что полиция запрещает любые кадровые перемещения во время расследования…
В ответ мне густой начальственный смех:
– Вы шутите! Я вам просто солгал, Малоссен, – естественно, в интересах фирмы: вы прекрасно справлялись с вашими обязанностями, и я не хотел вас отпускать.
(Так, так, так, так, так… Ничего не скажешь, уделал он меня.)
И, любезно провожая меня до двери, он добавил:
– Впрочем, мы вас не окончательно теряем: благодаря вам мы сэкономили немало денег, а теперь вы нам принесете еще больше.
Вот так. Человек предвкушает величайшее торжество своей жизни, а когда приходит момент, во рту у него вкус дешевого аперитива. В этом отношении, как и в некоторых других, Джулия права: никогда не надо делать ставку на журавля в небе. Теперь или никогда. Спросите у наших восточноевропейских собратьев, которые вкалывают ради светлого будущего.
Так я философствовал, проходя в последний раз перед стеклянной клеткой Лемана. Какой взгляд бросил он мне, когда эскалатор погружал меня в глубочайшую в мире пропасть! Он посмотрел на меня как человек, которого предал его лучший друг. Стыдно мне, стыдно! И это вместо того, чтобы скакать от радости.
Я настолько не в себе, что чуть не падаю мордой вперед, когда эскалатор доезжает до земной тверди. И, с трудом обретя равновесие (под хихиканье продавщиц из отдела игрушек), слышу туманный голосок мисс Гамильтон, за которым брезжит уже новая улыбка:
– Господина Казнава просят пройти в бюро претензий.
Распорядок нашей жизни должен был бы предусматривать определенное время дня, предназначенное для горестных размышлений о своей судьбе. Особое время, не занятое ни работой, ни жратвой, ни пищеварением, совершенно свободное – такой пустой пляж, растянувшись на котором человек мог бы без спешки оценить размах постигшей его катастрофы. В результате такой оценки день становился бы яснее, иллюзии рассеивались бы, пейзаж обретал бы четкие ориентиры. А когда думаешь о своем несчастье между салатом и рагу, точно зная, что через двадцать минут надо снова впрягаться, начинаешь пороть горячку, зацикливаться и воображать, что все еще хуже, чем на самом деле. Иногда человек доходит даже до того, что воображает себя счастливым!
Обо всем этом я думал, растянувшись на постели с Джулиусом под боком, две секунды назад, когда телефон зазвонил. Мне было хорошо. Я как раз приступил к точным замерам площади постигшей меня беды, смакуя ни с чем не сравнимый вкус поражения, который приобрела победа над Сенклером. Границы сада моего несчастья уже начали было вырисовываться, когда этот чертов звонок сбил все расчеты, побудив меня сделать самый исполненный иллюзий жест, который только можно себе представить, – снять трубку телефона.
– Бен? Лауна разрешилась от бремени.
«Разрешилась от бремени» – только Тереза способна так сказать. Когда я загнусь, она не скажет, что потрясена моей смертью: она заявит, что «глубоко скорбит по поводу кончины своего старшего брата».
Хорошо. Лауна, значит, «разрешилась от бремени». Я выяснил вполне стерильный адрес родилки, скатился по лестницам в метро и, уцепившись за перекладину, жду, когда это кончится. Но что-то начинает шевелиться во мне при мысли, что я сейчас увижу совершенно новую рожицу близнецов (одну на двоих?). Что-то такое, что вскоре начинает биться так же сильно, как пять лет назад, при появлении на свет Малыша, и еще раньше, когда возник Жереми, и, наконец, давным-давно, при рождении Клары – ее я принял сам (акушерка надралась, а врач куда-то смылся): собственноручно отдал конец, привязывавший ее к материнскому причалу, и представил ей мир и ее миру, в то время как мама на заднем плане уже приговаривала: «Ты хороший сын, Бенжамен, ты всегда был хорошим сыном…»
Да, я чувствую счастье. Ну, скажем, что-то вроде. Все расчеты, которые я произвел, лежа на кровати, безнадежно спутаны. Попробуем все-таки рассуждать здраво. «Лауна разрешилась от бремени» – это же не более чем оптимистическая формула, обозначающая на самом деле начало новой серии бедствий. Потому что близнецы – не будем обольщаться – это два лишних рта, которые надо кормить, четыре уха, которые надо развлекать, четыре глаза, с которых надо утирать слезы, и два десятка пальцев, за которыми надо присматривать. И так без конца. И все это на фоне процесса, который Сенклер обещал мне закатить, процесса, грозящего разорением, а может быть, и тюрьмой, позором во всяком случае и в финале (привет от Золя!) – распадом личности на почве алкоголизма. Нет, фиг! Как только этим близнецам стукнет пять – все, немедленно на заработки! Отрезать им что-нибудь, и пусть просят Христа ради. И несите деньги в дом, если хотите получать что-нибудь кроме пустых тарелок!
Почему так называемая реальность упорно сопротивляется всем моим расчетам? Почему жизнь постоянно опровергает меня? Вот вопрос, который я себе задаю в пищащей и уставленной цветами палате родилки, стоя у кровати Лауны и глядя, как Лоран обнимает мою сестру – «Моя дорогая, единственная!» – а затем прижимается носом к прозрачной стенке асептического аквариума, предназначенного для защиты детей от ненасытной нежности отцов, и орет:
– У меня три Лауны! Бен, у меня три Лауны! Была одна, а теперь три!
(Не думай, они обойдутся тебе сильно дороже, чем одна!)
И все кончается в «Кутубии». Амар угощает всех кускусом за счет ресторана, как каждый раз, когда я являюсь с вестью о рождении очередного ребенка.
– Я сделал важное открытие, Бен (это Лоран философствует, не без влияния шестнадцатиградусной маскары[28]28
Маскара – сорт вина (от Маскара – город в Алжире).
[Закрыть]): оказывается, действительность никогда не бывает такой невыносимой, какой она нам казалась издали, даже если она объективно хуже. Я не хотел ребенка, а теперь у меня их двое. И ужас вовсе не в этом, Бен, ужас в том, что я так боялся этого чуда. (Вздох.) О, Бен, как я мог так обидеть Лауну? (Рыдания.) Дай мне по морде, Бен, прошу тебя, дай мне по морде! Ради твоей сестры!
В припадке самобичевания он чуть не рвет на себе рубашку.
– Еще маскары?
– Да, спасибо. Она вполне приличная в этом году.
– Бен!
Рука Джулии обвивается вокруг моей ляжки.
– Клара мне сказала, насчет процесса. Так вот, не беспокойся: Сенклер блефует. Если он и затеет процесс, то против журнала; и если судья окажется очень уж вредный, он взыщет с нас один франк в возмещение убытков.
– Старый франк, додеголлевский, микрофранк, – уточняет Тео, взгляд которого ласкает тем временем ягодицы Хадуша.
А вечер проходит потихоньку, такой мурлыкающий вечер. Клара нарезает мясо для Жереми, Тереза прилепилась к видику и раз за разом прокручивает похороны Ум Кальсум, Малыш посвящает Джулиуса в ритуал чая с мятой, а старый Амар в сотый раз рассказывает о том, что его ресторан скоро будет снесен, согласно плану строительства Нью-Бельвиля.
– Мне обидно за тебя, Амар.
– Почему, сын мой? Отдохнуть – это так приятно!
И снова принимается рассказывать, как он воспользуется заслуженным отдыхом, чтобы полечить свой ревматизм: поедет на юг, в Сахару, и будет там закапываться в горячий песок. (Картинка: белая голова Амара, торчащая из песка посреди пустыни…)
И уже в самом конце вечера, когда вусмерть пьяный Лоран заснул, уронив голову в тарелку, Жереми и Малыш свернулись клубком под боком у Джулиуса, Тео давно исчез с Хадушем, Тереза почти довела себя до мистического экстаза, а рука Джулии возвещает приближение последнего и решительного боя, Клара, моя любимица Клара торжественно объявляет:
– Бенжамен, у меня сюрприз для тебя.








