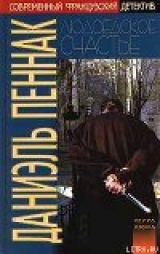
Текст книги "Людоедское счастье"
Автор книги: Даниэль Пеннак
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
7
Когда я прихожу домой, большой черный обезьян все еще топчется у меня в голове. И когда телефон начинает звонить, мне стоит черт знает каких усилий снять трубку и сказать «Алло».
– Бен?
Это Лауна.
– Бен, я решила выгнать маленького жильца.
Опять двадцать пять! Ну нет, сегодня я в эти игры не играю.
Отвечаю злым голосом:
– Ну и чего ты хочешь от меня? Чтобы я вручил ему повестку о выселении?
Она хлопает трубку.
Первое, что я вижу, положив в свою очередь трубку, – это сияющая морда Джулиуса в проеме двери.
За весь день он так и не выпустил мячик изо рта. Я смотрю на него мрачным взглядом и говорю:
– Нет, не сегодня!
Он тут же укладывается на ковер. А я засыпаю. Час спустя, проснувшись, звоню по внутреннему телефону.
– Клара? Слушай, мне надо пройтись. Приду к вам после ужина.
– Ладно. Знаешь, Бен, с твоей «лейкой» у меня такие фотки получились – закачаешься! Придешь – покажу.
Джулиус по-прежнему лежит на боку, вытянув лапы, и вопрошающе глазеет на меня. Этот необычный хозяин задал ему задачу. К счастью, ему нечасто приходится иметь дело с таким.
– Ну что, пойдем погуляем? – говорю я ему. Он тут же вскакивает на все четыре лапы. В любой момент готов идти куда угодно, в любой момент готов и вернуться – вот он какой, мой Джулиус. Пес – он и есть пес.
Взрывается не только Магазин – Бельвиль тоже. С дырами, зияющими на месте фасадов справа и слева вдоль тротуаров, Бульвар похож на щербатую челюсть. Джулиус бежит впереди, почти касаясь носом асфальта и энергично виляя хвостом. Внезапно он присаживается прямо посреди центральной аллеи, чтобы возвести роскошный памятник во славу собачьего нюха. Затем пробегает еще метров десять, высоко задрав свой широкий зад, довольный собой, вдруг останавливается, как будто забыл что-то важное, и начинает отчаянно скрести асфальт задними лапами. Какашка осталась далеко позади, и роет он совсем в другом направлении, но ему наплевать – он выполняет свою обязанность, делает то, что ему полагается сделать. Джулиус – это вам не прилавок универмага, память у него есть. Пусть он даже и забыл, что в ней хранится.
Пройдя еще метров сто, я слышу жалобное завывание муэдзина, оглашающее бельвильские сумерки.
Я знаю, что ему служит минаретом, – это маленькое квадратное окошко между четвертым и пятым этажами облупленного фасада, вентиляционное отверстие уборной или лестничной площадки. Несколько секунд я вслушиваюсь в жалобы этого иноземного кюре; он выпевает суру Корана, где речь, должно быть, идет о какой-нибудь чайной розе, священный стебель которой произрастает в штанах Пророка. Во всем этом невыносимая тоска изгнания. В первый раз вспоминаю разбрызганное тело убитого в Магазине. Потом думаю о Лауне и мысленно обзываю себя подлецом. И снова перед глазами кишки того чувака из Курбевуа. Едва успеваю прислониться к дереву и взять себя в руки, чтобы не рассыпаться снова. Считая шаги, перехожу Бульвар и открываю дверь заведения Амара Кутубия.
Джулиус бежит прямо на кухню к Хадушу. Голоса и стук костяшек домино перекрывают завывания муэдзина. В зале стоит табачный дым, почти перед каждым посетителем – рюмка анисовки. Да, мусульманскому брату из того окошка, надо думать, хватает работы, чтобы вернуть свою паству к исламской чистоте!
Едва увидя меня, старый Амар расплывается в улыбке. Как всегда, меня поражает белизна его волос. Он выходит из-за прилавка, мы обнимаемся.
– Как живешь, сын мой, все хорошо?
– Все хорошо, спасибо.
– А как поживает твоя уважаемая матушка?
– У нее тоже все хорошо. Она отдыхает. В Шалоне.
– А дети? У них все хорошо?
– Все хорошо, спасибо.
– Почему ты не взял их с собой?
– Уроки делают.
– На работе все хорошо?
– Отлично.
Он сажает меня за столик, одним движением расстилает бумажную скатерть и встает напротив, опираясь вытянутыми руками о край стола. Смотрит на меня и улыбается.
– А у тебя, Амар, все хорошо?
– Все хорошо, спасибо.
– А дети? У них все хорошо?
– Все хорошо, спасибо.
– А жена? Твоя жена Ясмина? У нее все хорошо?
– Все хорошо, слава Аллаху!
– Когда ты ей сделаешь еще одного?
– На той неделе поеду в Алжир и сделаю последнего.
Смеемся. Ясмина не раз служила мне матерью, когда я был щенком, а моя мать служила в другом месте и в другом качестве.
Пока Амар занимается с прочими клиентами, Хадуш ставит передо мной кускус, который мне придется съесть, если я не хочу оскорбить за один вечер Пророка и всех правоверных мусульман.
Видя, что я ем без особого аппетита, Амар подходит и садится напротив.
– Не очень-то у тебя хорошо, как я посмотрю.
– Да, не очень.
– Поедем со мной в Алжир, а?
Why not?[3]3
Почему нет? (англ.)
[Закрыть] Несколько секунд я слежу за тем, как эта мысль прокладывает в моем мозгу сияющую дорожку радости. Амар уговаривает:
– Поедем! Хадуш присмотрит за собакой и за детьми.
Но плоская морда инспектора-стажера Карегги призывает меня к порядку.
– Не получится, Амар.
– Почему?
– На работе не отпустят.
Он смотрит на меня недоверчиво, но, должно быть, думает, что у каждого свои шакалы, и встает, похлопав меня по плечу.
– Пойду принесу тебе чай.
Из видика доносится голос Ум Кальсум[4]4
Ум Кальсум (1898 – 1975) – знаменитая египетская певица.
[Закрыть], на экране – огромная толпа, идущая за ее гробом. Я дослушиваю песню и выхожу из ресторана, Джулиус за мной. В ушах у меня еще звенит смех Хадуша:
– В следующий раз я ему не дам пожрать, твоему псу, я его вымою!
Я рассказываю ребятам о первых неуверенных шагах следствия, о том, как двое моих сыщиков, Жиб-Гиена и Бак-Бакен, бесцеремонно копаются в личной жизни «сотрудников» Сенклера, как по ночам невидимая бригада ремонтников заменяет прилавки в отделе игрушек, о героизме Магазина, который как ни в чем не бывало продолжает работать под угрозой взрыва (The show must go on![5]5
Зрелище должно продолжаться! (англ.)
[Закрыть]). Над головой у нас во всех направлениях протянуты лески, на которых сушатся фотографии Клары. (Сколько времени эта страсть отнимает у нее от подготовки к аттестату по французскому и литературе?) Тут и людоеды Малыша, и виды исчезающего Бельвиля, и новые дома-аквариумы, которые должны составить прекрасный город будущего. И среди всего этого – фотография мамы, совсем молодой, примерно того времени, когда я родился. И в глазах у нее уже страсть к побегу.
– У тебя был негатив?
– Нет, я увеличила ту, что была.
– Ее надо в рамку и под стекло, – говорит Жереми. – Тогда она больше никуда не денется.
Тереза стенографирует абсолютно все, что говорится, без всякого отбора, как будто все это входит в один бесконечный роман. Затем вдруг, вперив в меня свой неподвижный взгляд монахини-постницы, она говорит:
– Бен!
– Что, Тереза?
– Этот покойник… Ну, хозяин гаража из Курбевуа…
– Ну и дальше?
– Я составила его гороскоп: он должен был так умереть.
Клара смотрит на меня со значением. Я убеждаюсь в том, что Малыш уснул, и бросаю свирепый взгляд на Жереми, чтобы он заткнулся со своими вечными подначками. Порядок в команде установлен, поэтому пытаюсь изобразить на своем мужественном лице как можно больше интереса.
– Ну давай, излагай.
– Он родился 21 января 1919-го – так сказано в некрологе. В этот день Марс соединился с Ураном в триста двадцать пятом градусе, и оба противостояли Сатурну, который был в сто сорок шестом.
– Серьезно?
– Замолчи, Жереми.
– Марс, символ действия, сопряженный с Ураном, планетой роковых потрясений, в противостоянии с Сатурном дает характер изобретательный, но вредоносный.
– Ты уверена?
– Жереми, заткнись!
– Марс и Уран в восьмом доме предсказывают насильственную смерть, которая должна произойти при проходе Марса через сильную Луну. Это как раз и случилось двадцать четвертого декабря этого года.
– Да не может быть!!!
– Жереми…
8
Назавтра взрыва не было. Не было его и через день. И в последующие дни тоже. Тревога понемногу улеглась. О бомбах уже и говорить перестали, только вспоминают иногда. Магазин снова набрал крейсерскую скорость и как будто вышел за пределы взрывоопасной зоны. Леман играет в боцмана с небывалым усердием. Старикашки Тео играют в строителей империи. Сам Тео ежедневно пополняет альбом Малыша. Легавые продолжают шмонать служащих и покупателей, те поднимают руки и хохмят, кто как может. Сенклер потерял восемьсот сотрудников и вновь обрел восемьсот служащих. Лесифр повторяет лозунги ВКТ, а Леман – лозунги родной фирмы. Я каждый день получаю очередную порцию ругани. Сидя на голодном пайке моего истощающегося воображения, Жиб-Гиена и Бак-Бакен начинают выбиваться из сил. Ребята уже грозятся, что перейдут на телик, если я не придумаю что-нибудь интересное. Лауна больше не звонит. Все вошло в норму. До второго февраля.
Деваха обалденно хороша – этакая львица. Темнозолотистая грива спадает пышными волнами на широкие и, насколько можно судить, мускулистые плечи. Бедра как у итальянки и мерно покачиваются. Она не так уж и молода – как раз в возрасте оптимальных форм. Верх юбки, тесно облегающей зад, обнаруживает контуры трусиков, сведенных до минимума. Так как в ожидании очередного вызова мисс Гамильтон я все равно слоняюсь без дела, решаю последовать за прекрасной незнакомкой. Она идет не спеша, пороется там, пороется здесь… На ее открытых до локтя руках болтается какое-то как бы восточное серебро. У нее длинные нервные пальцы, смуглые и гибкие, охватывающие со всех сторон любой предмет, которого она касается. Я следую за ней с проворством рыбы, каковой давно уже стал в мутных водах Магазина. Время от времени нарочно теряю ее из виду, чтобы встретить немного спустя на пересечении двух проходов. И во время этих как бы случайных встреч с удовольствием ощущаю, как под действием адреналина, разливающегося по сосудам, внутри у меня начинается всеобщая мобилизация. Одно досадно: мне никак не удается поймать ее взгляд. Слишком густая у нее грива. И слишком подвижная. Она же, естественно, меня не замечает – казенный костюм кого хочешь превратит в человека-невидимку. Эти кошки-мышки все не кончаются, и я уже дохожу до полной кондиции, когда это происходит. Минут пять, не меньше, она ошивалась в отделе шерстяного трикотажа. И вдруг ее пальцы вытягиваются, изгибаются, и тоненькая вязаная кофточка целиком исчезает в ее ладони; затем рука исчезает в сумке, как будто сумка ее проглотила. И выплюнула – уже пустую. Я ее видел. Но с другой стороны прилавка Казнав, этажный легавый, тоже видел ее. По счастью, я ближе к ней, чем он. И пока, оскалив клыки, он обходит прилавок, я быстро преодолеваю те два метра, которые отделяют меня от прекрасной воровки. Сую руку в ее сумку, вынуждая тем самым красотку обернуться ко мне, вытаскиваю кофточку и прикладываю к ее плечам, как бы для примерки. И одновременно цежу сквозь зубы с решительным видом:
– Не подымайте шума, дежурный охранник у вас за спиной!
Она среагировала как космонавт – не только не стала возмущаться, но еще и подала реплику красивым грудным голосом:
– По-моему, идет, а? Как тебе кажется?
От неожиданности отвечаю слегка невпопад:
– С глазами – да, тетушка Джулия, а с волосами – не очень.
И в самом деле, ничего кроме глаз я не вижу – две миндалины с золотистыми крапинками, окаймленные ресницами, которые почти касаются моего носа. А за этими миндалинами, из-за ее плеча два других глаза уставились в меня, как дула автоматов. Это шары Казнава. Я небрежно бросаю кофточку на прилавок, беру другую и прикладываю к плечам девушки, откидывая голову назад с видом эксперта. Придя в себя, Казнав немедленно приступает к выполнению служебных обязанностей. Без церемоний.
– Кончай ломать комедию, Малоссен. Я прекрасно видел, как эта девка сперла первую кофточку.
– «Эта девка»… Разве так разговаривают с покупательницами? Чему тебя учили?
Я произношу это таким тоном, как будто думаю совсем о другом. Дело в том, что вторая кофточка (а это точно, в тряпках я неплохо тяну!) как нельзя лучше идет моей очаровательной львице. И я говорю:
– А вот эта как будто специально для тебя связана, тетя Джулия.
Надо сказать, не я один залюбовался «тетей Джулией»: еще с полдюжины клиентов стоят разинув рот и глазеют. И среди них – старик и старушка с абсолютно белыми волосами и зеленой хозяйственной сумкой в руках. Они стоят с растроганным видом и буквально пожирают нас глазами.
– Малоссен, не мешай мне, пожалуйста, работать.
Это Казнав выступает. В это время поблизости от нас один из старикашек Тео сует в карман халата массажный прибор.
– Я не мешаю тебе работать, Казнав, я тебе мешаю только слишком оттягиваться на работе.
– Мадемуазель, вы положили этот пуловер в сумку, я видел.
Девица цепляется за мой взгляд как за спасательный круг. Круглое лицо, широкие скулы, влажные губы…
– Слушай, Казнав, я же тебя не спрашиваю, куда ты ходишь загорать!
Прямое попадание: Казнав каждый день таскается в отдел кварцевых ламп и там прожаривает себе морду, на халяву, естественно. Отсюда и роскошный терракотовый загар.
– Короче, оставь в покое тетю Джулию, если не хочешь схлопотать по морде.
И вот тут-то все и произошло. Произошло как при замедленной съемке, так что весь Магазин, казалось, застыл. Казнав побледнел. А стоящие как раз за ним симпатичные старичок и старушка медленно поворачиваются друг к другу с улыбкой и, как будто им не по сто, а по двадцать пять, целуются с такой невероятной чувственностью, что даже у окружающих искры из глаз. Между двух слипшихся тел я замечаю угол зеленой сумки. Цвета зеленого яблока.
И Казнав получает по морде, как ему было обещано. Но бью его не я, а оторванная рука старушки. Я слежу глазами за траекторией руки, точно обозначенной фонтаном крови, вырывающейся из разорванных сосудов. Я отчетливо вижу лицо старика, недоверчивый взгляд из-под челки седых волос, тонких, как волосы младенца, и подстриженных по-римски в кружок. Вижу лицо Казнава, его внезапно сморщившуюся щеку, от которой ударная волна расходится по всей физиономии.
И только тогда слышу взрыв. Как будто в голове у меня рушится кирпичная стена. Отброшенный вперед, Казнав сбивает нас с ног, тетю Джулию и меня.
9
Человек, оказавшийся непосредственно на месте взрыва, имеет одно преимущество – его не затопчут. Все разбегаются в стороны от эпицентра.
Девушка, лежащая на мне, всей своей тяжестью прижимает меня к полу. Можно подумать, что она спасает меня от вражеского пулеметного огня. Но на деле оказывается, что она просто в обмороке. Я осторожно кладу ее на бок, поддерживая голову ладонью, и поправляю задравшуюся юбку. Казнав сидит напротив меня на полу с сосредоточенным видом, как ребенок, который только что изготовил свой первый в жизни кулич из песка. Он весь в крови и безуспешно старается понять, его ли это кровь или чья-то чужая. (В первый раз вижу его думающим.) В нескольких метрах позади Казнава два тела, одновременно сплетенных и разметенных по сторонам, лежат в жуткой кровавой жиже. С трудом встаю. Вокруг меня – паника, какая бывает в живорыбном садке в момент отлова. Все рыбы хотят выпрыгнуть из воды. Они бросаются вверх, вниз, сталкиваются друг с другом, резко меняют направление, пытаясь ускользнуть от невидимого сачка. Самое невообразимое в том, что все это происходит в такой же тишине, какая, наверно, царит на дне моря. Под ногами беглецов рассыпаются на части манекены, рушатся целые пирамиды витрин. И все это без единого звука.. Я сижу на дне гигантского аквариума, охваченного безумием. Тетя Джулия в свою очередь приходит в себя. Я вижу, как шевелятся ее губы, но не слышу ровным счетом ничего. Оглох. Взрыв оглушил меня.. Инстинктивно подношу пальцы к ушам. Крови нет. Уже хорошо. Сажусь на корточки перед тетей Джулией и охватываю ее лицо руками:
– Все цело?
Слышу собственный голос так, как если бы сам с собой говорил по телефону. Девушка что-то отвечает и как будто хочет обернуться, но я ей не даю. На сей раз, однако, все эти кровавые разводы не вызывают у меня тошноты. Ко всему, наверно, можно привыкнуть. Кажется, что тела убитых в последнем порыве к соединению обменялись внутренностями. Они слились воедино. И ни малейшего следа зеленой хозяйственной сумки. Они грели ее своими животами, как птица греет яйцо, и птенчик вылупился…
Двое в белом уводят совершенно обалдевшего Казнава. Кто-то хлопает меня по плечу. Оборачиваюсь. Свидетельство того, что история всегда повторяется в наихудшем варианте: давешний пожарник-лилипут принимается комментировать случившееся. Его губы, как два розовых слизня, шевелятся под тонкими усиками. Но я, к счастью, не слышу ни слова.
Я провел в больнице долгих четыре часа. Они меня ощупали и обстучали по всем швам. Все оказалось на месте. Я испытал чисто детское удовольствие от того, как они меня крутили и переворачивали. Так бывало в те времена, когда я был щенком и моя мать или Ясмина, жена старого Амара, купали меня в ванне. Но теперь глухота добавляла удовольствия. Я всегда думал, что из меня получился бы отличный глухой и никуда не годный слепой. В самом деле, отберите у меня мир звуков – мне будет только приятно. А вот если глаза выколоть, я, пожалуй, умру.
Но все хорошее когда-нибудь да кончается, и вот, мало-помалу, вселенная снова находит путь к моим барабанным перепонкам. Слышу разговоры сестер и врачей вокруг меня. Сначала не понимаю ни слова – как если бы они говорили в соседнем купе. А потом и смысл начинает доходить. Речь идет о том, чтобы оставить меня в больнице на недельку, потому как возможны мозговые осложнения – надо, мол, понаблюдать. Валяться тут целую неделю? Могу себе представить, какую рожу скорчат ребята и Джулиус.
– Исключено!
Длинный белый халат с лошадиным лицом оборачивается ко мне:
– Вы что-то сказали?
– Да, я сказал «нет». Я не хочу оставаться здесь. Я чувствую себя прекрасно и сейчас же поеду домой.
Белый халат советуется с другим, еще более белым халатом, вздувающимся над круглым животом.
– Послушайте, но мы же не можем вас отпустить, пока не сделаем все необходимые анализы.
Я все еще лежу на смотровом столе. Огромный живот говорит, почти касаясь моего носа. Еще один. А может, у него там тоже взрывчатка? Вот сейчас возьмет и рванет мне прямо в морду…
Я говорю:
– Насильно удерживать меня вы тоже не можете.
На улице уже давно стемнело. Иду к метро. И вдруг какая-то машина выруливает к тротуару, останавливается возле меня и сигналит. Сигналит так, как это делали машины пятидесятых: «Кхх!» Оборачиваюсь. За рулем древней лимонно-желтой малолитражки – тетя Джулия. Она машет рукой, зовет меня.
– Вы пешком? Садитесь, подвезу!
Сажусь в музейный экспонат тети Джулии.
– Вас тоже заставили написать расписку? Понятно, они страхуются.
Она ведет свой рыдван как пароход, без малейшего толчка. Высший пилотаж, учитывая свойства машины. Едем в сторону Пер-Лашез. Она говорит без умолку, а я снова вижу зеленую хозяйственную сумку, зажатую между двумя животами. И панический взгляд Казнава. С ним тоже ничего не случилось, готов руку дать на отсечение. Контузия – и все. Заряд взорвался в закрытом со всех сторон гнезде, образованном двумя животами. Как в мягком яйце.
– Они трахались как ангелы!
Ангелы? Трахались? Какие ангелы? Кто трахался? Тетя Джулия смотрит на меня взглядом, преисполненным глубочайшей ностальгии, и говорит:
– Сандинисты. Они трахались как ангелы. Без конца, хоть целыми часами. И при этом смеялись. А кончали такими долгими, жгучими струями, до полного угасания моего пожара. Раньше я испытала такое всего один раз, на Кубе, сразу после Революции, за два дня до того, как моего папашу-консула оттуда выперли. Мне было тогда четырнадцать. Я туда потом ездила еще, но все уже было не то: эрекция по законам соцреализма, коитус по-стахановски…
Она замолкает на мгновение, и я успеваю перевести дух. Это от взрыва, что ли, она так? Красный свет сменяется зеленым. Тетя Джулия прерывает молчание, как только ее машина трогается с места.
– Теперь и Никарагуа никуда не годится. Трахаются во имя построения справедливого общества.
Ее лицо, искаженное гримасой отвращения, внезапно проясняется, а красивый грудной голос вновь обретает счастливую уверенность:
– Слава Богу, есть еще моийцы, маорийцы и сатарейцы.
– Сатарейцы?
– Сатарейцы, из бразильских джунглей!
И она развивает тему:
– Мускулы у них длинные, упругие, четкие. Плечи и бедра – как железо! А член гладкий, шелковистый – обалдеть можно! Я таких нигде больше не встречала. И как только они в тебя входят, то начинают светиться изнутри, как слоистое художественное стекло эпохи модерна, инкрустированное медью.
Итак, пока зимний ночной Париж скользил вдоль бортов нашей пироги, тетя Джулия развивала передо мной свою роскошную теорию секса. Согласно этой теории, только дикари и революционеры на следующий день после победы революции умеют правильно заниматься любовью. У тех и у других в мыслях вечность, они трахаются в настоящем времени изъявительного наклонения, как если бы этому не было конца. Во всем же остальном мире секс протекает в прошедшем или в будущем времени; люди вспоминают прошлое или закладывают основы будущего, увековечивают себя или размножаются. Но при этом никто не думает о себе… Ее голос становится воистину проникновенным:
– Я имею в виду – не думают о себе здесь и сейчас, в этот момент, не думают друг о друге, ты обо мне, я о тебе…
Наплыв. Тетя Джулия крупным планом. Я больше ни на секунду не спускаю с нее глаз. Контуры ее лица подсвечены уличными фонарями. И вдруг она предстает передо мной вся целиком в ослепительном сиянии витрины магазина электротоваров. Mamma mia!








