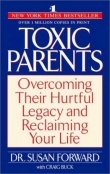Текст книги "Цезарионы"
Автор книги: Дамир Кадыров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
ЦЕЗАРИОНЫ
Отцу моему, Карипу Кинжиновичу, который не был ни на войне, ни в мирное время не стоял в солдатском строю, но после смерти оставил мне в наследство такую коллекцию орденов, медалей и других свидетельств трудовой доблести, что награды не всякого фронтовика сравнимы с ними хоть по количеству, хоть по значимости; сыну моему Мурату, тому, не оперившемуся еще, птенцу желторотому, который, лишь научившись говорить, уже категорически не принял песен о солдатах и слезах солдатских матерей и тогда уже в раннем детстве сказавшему: «Я не буду солдатом», преклоняясь, посвящаю.
Все, что изложено в этой повести, – сюжеты с натуры. Я не стал придумывать фамилий моих героев; надеюсь, не путал их, описывая тот или иной случай. Если же чувствовал, что могу ошибиться, не называл имени. Есть коллизии, которые я использовал, взяв их из воспоминаний друзей, знакомых, но это очень редко, и они могут угадываться по содержанию. Если же допустил где-то домысел, – то в самом несущественном, и по тексту можно заметить и, думаю, согласиться с авторской интерпретацией, не несущей принципиального переосмысления чьих-либо воззрений. И, конечно же, не думаю, что вызовет протест у моих бывших сотоварищей возможное вовсе не умышленное незначительное нарушение пунктуальности в хронологии событий.
АРСЕНТЬИЧ
Это случилось много лет спустя после моей солдатчины.
Мне всегда везло на знакомства: с кем только не сводила меня жизнь, но сколько встречалось людей, о которых я вспоминаю с теплотой, уважением. Один из них – Арсентьич. Тогда он работал физруком в школе, куда привела меня судьба, ненасытного до новых впечатлений, непоседливого – человека перекати-поле, как выразился один из моих приятелей, не доверявший тем, у кого слишком богата трудовая биография разнообразием начинаний. Арсентьич – здоровый мужчина моих лет, на первый взгляд вроде бы пышный, как Тарас Бульба, но, если присмотреться, подтянутый и ловкий, как и подобает физруку. Кроме как в школе, мы с ним частенько встречались в бане, где мне и пришлось любоваться его на редкость пропорциональной фигурой. Округлый, как многоведерный котел, живот его, казалось, должен бы обвисать, как это обычно мы наблюдаем у иных здоровяков, ан нет, живот, можно подумать, действительно металлический и ничуть не нарушает пропорции и статности. Крепкие ноги-колонны, плечи-валуны и вся, эдак пудов на девять, комплекция могли нагнать на иного тихий ужас, если б не его добродушная улыбка, раздвигающая плотные округлые скулы. Мы в тихой беседе сидели в парной, а потом уже, обмываясь, дружненько терли мочалками спины друг другу. При этом непременно случался наш короткий диалог, когда за мочалку брался он, а я старался покрепче вцепиться в скамейку.
– Ты, Арсентьич, три одной рукой, – прошу я.
– А как же, конечно, одной, – успокаивает он, при этом бережно снизу поддерживая меня свободной рукой за грудь.
– Ты какой трешь-то? Правой иль левой? – все контролирую я.
– Левой, левой. А как же, – успокаивает он, перекладывая мочалку из руки в руку.
А не одно ли, левая там или правая ручонка.
В школе он пользовался всеобщим уважением, как средь коллег, так и средь учеников. Авторитет этот средь последних был непререкаемым, и лишь однажды, по рассказам, это отношение к нему как-то случайно трансформировалось в зависть, в соперничество, что ли, что, впрочем, не так уж предосудительно. Ребята одного из старших классов как-то всем своим поведением, намеками стали демонстрировать: ты, мол, не больно-то того; нашелся тут здоровяк. Должно, шибко досадили они такими экивоками. И тогда, не горячась, не угрожая, Арсентьич изъяснился по сути наболевшего вопроса: «Вы, мужики, если уж шибко хочется испытать меня, сделайте так: выстройтесь все вдесятером колонной в затылок друг дружке, а я легонько шлепну последнего под зад; и если при этом самый первый в колонне не откроет лбом дверь спортзала, – будем считать, что ваша взяла». Но это, повторюсь, далеко не характерная ситуация для моего героя, который всем своим существом подтверждал известную истину: в здоровом теле – здоровый дух! Уважение к нему было – редко кому отпускает таковое жизнь.
Я никогда не слышал, чтобы он повышал голос на детей, равно как не видел, чтобы его требования, указания не исполнялись тотчас. По осени, когда школьников на несколько недель, отлучив от учебы, возили в близлежащие колхозы, на уборку свеклы, с ними, как повелось, ездил Арсентьич. Тут уж можно бы не беспокоить классных руководителей, которым вменялось в обязанность присутствовать при своих питомцах. Порядок мог обеспечить один этот учитель. Но случилось однажды, что Арсентьич, из-за неотложных дел, не едет, остается в школе. Вот тогда кто-то из коллег, предполагаю, литератор, памятуя, видно, гоголевский сюжет с капитаном-исправником, предложил взять в колхоз хотя бы красные шаровары Арсентьича и повесить их на всполье, чего, по идее, было бы достаточно для поддержания порядка средь дорвавшихся до свободы детей.
Со временем Арсентьич, так сказать, по производственной необходимости стал вести уроки начальной военной подготовки. Когда прошел слух, что его должны непременно облачить в офицерскую форму, учителя стали над ним подхихикивать: «Китель-то, чать, найдется, а вот ремень-то придется из двух сшивать». Этo шутка, а за дело он взялся охотно, осмысленно. Надо было только видеть, как рубят строевым шагом по рекреации напротив кабинета НВП старшеклассники. Даже девчонки, для которых так ли уж важна строевая подготовка, забыв о приспевшем возрасте, о должной застенчивости и осторожности, маршировали так добросовестно, что подола их платьев развевались, являя на обозрение обретшие уже стройность бедра. Для парней же эти уроки были долгожданными, потому что здесь действительно шла настоящая подготовка будущих солдат.
Но в тот год как-то случилось, что вступил я в противоречия с искренне уважаемым мной человеком. Ближе к весне, когда старшеклассники уже готовились к выпускным экзаменам и все чаще заводили меж собой разговоры о грядущем завтрашнем дне, вдруг обнаружилось, что поголовное большинство ребят собираются поступать в военные училища. Досадно мне стало, когда средь будущих курсантов оказались и те, кого по их неординарным способностям прочить бы в ученых, педагогов, врачей – людей мирной профессии. Не суть, много ли было потрачено мной краснословия, но уже до экзаменов большинство ребят образумились насчет военных училищ. Об этой контрагитации, конечно же, не мог не узнать Арсентьич. Нет, он не поставил меня перед упреком. Просто мы долго сидели, вспоминая о нашей солдатской юности. К тому же оказалось, что служили в одних и тех же родах войск. И тогда в беседе я ничуть не старался рисовать картины, порочащие армейскую действительность, пробуждающие неприязнь к военщине; к тому же долгие годы после службы, и по сей день, вспоминаю нашу солдатскую дружбу как что-то доброе, неповторимое, равно как и сегодня не уверен в никчемности этой сферы жизни человеческого общества – армии.
«ОХ, КУДА Ж ТЫ, ПАРЕНЕК…»
Для нашего поколения – пацанов послевоенных лет, не было ничего столь уважительного, вожделенного, чем военная форма. Появись на улице возвернувшийся на побывку солдат, неотрывные, с восхищенным блеском, взгляды ребятни преследовали его. Петлички, погоны, пряжка на ремне, значки на гимнастерке – это же какой-то недосягаемый мир, до которого еще расти да расти. Уже много лет спустя, будучи солдатами, забыв о детских страстях, в увольнении мы посмеивались над окружившей нас пацанвой.
– Дядь, дай птичку, – просит кто-нибудь из них эмблему с голубой петлицы.
– Нельзя. Без птички меня старшина будет ругать.
– Ну дай уж, – упрашивает тот.
– А ремень с пряжкой хочешь? – в шутку спрашиваем его.
– Давай, – загораются глаза у попрошайки.
– А сапоги, хочешь, отдам?
– Давай, – выкатив глаза в предчувствии совершающейся фантастики, выдыхает малец, согласный на все что угодно, лишь бы было солдатское.
Было время, любого малыша, который только научился говорить, спросите: «Кем будешь, когда вырастешь?» – он непременно ответит: «Шофером, – и тут же добавит. – И еще солдатом». Первая песенка, которую я пел в раннем детстве, питала будущего защитника Родины:
Брошу я подушку, брошу я кровать,
Сяду на лягушку, поеду воевать.
Синее море, красный пароход,
Сяду, поеду на Дальний Восток.
Мама будет плакать, слезы проливать,
А я уеду на фронт воевать.
Песенка эта от жизни. Разве только лягушка взята для рифмы. Что же касается материнских слез, то моя мама начала плакать, предвосхищая расставание, года за полтора-два до призыва меня в армию; и не были для нее утешением слова о том, что не на войну забирают ее чадо. А когда приспело время, и в руках была уже повестка, случилось точь-в-точь как в той известной песенке: «так и вся моя родня набежала». За день-два-три до сбора у военкомата, к отправке, не было, должно, в округе деревни, где не праздновала бы молодежь проводы: с песнями, гармошками, шумными застольями. А в то раннее утро предзимья, в день нашего отъезда, прилегающее пространство перед крыльцом военкомата заполнилось народом. Сумрак еще не уступил свой час зарождающемуся дню, а здесь – проводы. Кто-то, подышав на озябшие пальцы, словно рот оскалил в улыбке – растянул меха своей хромки; кто-то, расплескивая через край переполненный стаканчик, дает последнее напутствие сыну, брату, другу. «Все служили, и мы послужим», – отвечает призывник.
И вот команда: «Всем в автобус!» Паренек в заношенной фуфайке, в шапке задом наперед хватает свою авоську, шатаясь из стороны в сторону, передвигается к открытой двери стоящего близ автобуса. Возле паренька нет провожающих; быть может, они тоже где-то здесь, но только так же в стельку готовые к отправке. Он вскарабкался по ступенькам в автобус, плюхнулся на сиденье, но тут в него влипли две женщины. Они пытаются вытолкнуть его назад в дверь.
– Не имеете права! Руки прочь от солдата! – упирается, вцепившись в стойку, паренек. – Руки прочь!
– Это колхозный автобус, – объясняют ему. – Он в деревню поедет.
– Колхозный для солдат, – доказывает тот свое.
А в это время поодаль, с готовностью выкрикнув: «Я!» старшему лейтенанту с листочком в руках, парни загружаются в другой автобус.
Кроме всей этой кутерьмы, кроме маминых рук, мне запомнилось лицо моей тети Ханифы. Ее тревожный, не видящий меня через стекло взгляд. Она долго бежала за автобусом и махала рукой. Ее муж двадцать пять лет назад безвозвратно ушел на фронт.
ПЕРЕД СОЛДАТСКИМИ БАРАКАМИ
Позади областной сборный пункт, позади дорога на поезде.
Автобус остановился. Мотор сразу стих. Пассажиры сидят молча. Кто-то спит, положив голову на плечо соседа, кто-то откинулся на сиденьи, кто-то протирает рукавом запотевшее стекло сбоку и всматривается в непроморгавшееся еще утро.
– Отставить сонтренаж! Выходи! – зычно кричит сержант-сопровождающий.
Разом все зашевелились. Молча. Но кто-то уже интересуется:
– Приехали что ли?
– Приехали. Выходи строиться!
Сержант бодрый. Смотрит на прибылых снисходительно, с ехидцей.
– Пош-шевеливайся! Здесь не колхозная бригада. Выходи строиться!
Площадка. Просторная, до самой ограды с колючей проволокой по-над бетонными секциями. Тусклый свет редких фонарей. Поодаль – бараки с лампочками под козырьками невысоких крылечек. Возле ближнего барака – группа солдат. Огоньки сигарет в руках. Синий дым кутает лампочку.
– Зеленка подошла, – кричит кто-то из них.
– Поголовье бритых гусей, – подхватил другой.
Всего поголовья – пятьдесят человек. Все из Башкирии. Выходим из автобуса, молча осматриваемся.
– В две шеренги становись! – кричит сержант, отойдя чуть в сторонку, и откидывает руку, указывая рядом, где строиться. – Пош-шевеливайся! – все торопит он.
Офицер со списком в руке стоит напротив строя. Самый крайний в первой шеренге – коренастый крепыш. На нем телогрейка без одного рукава. Он держит руки по швам. Офицер подошел.
– Где второй рукав?
– Забыл поезде, товарищ командир, – бойко отвечает крепыш.
– Ладно хоть голову не забыл, – строго говорит офицер.
– Нет, – возражает крепыш. – Голову нада, а рукаву не надо.
Офицер идет вдоль строя. Остановился.
– А это еще что за кооперация? – откровенно изумился он. – Вы что, близнецы?
Смотрит под ноги «близнецам». Они молчат. У одного правая нога обута в ботинок, левая – в шерстяном носке твердо стоит на бетонной плите; у другого – наоборот: левая нога обута в ботинок, а правую он согнул в колене, как гусь на снегу.
– И часто у вас в Башкирии носят одну пару обуви на двоих?
«Близнецы» молчат. Минувшей ночью, когда поезд остановился на какой-то станции, тот, у которого теперь на ноге шерстяной носок, предварительно примерив ботинок товарища, отпросился у сопровождающего сержанта и на перроне средь торговок всякой снедью обменял свои сапоги на бутылку самогонки. Те запасы, которые были сделаны в день отправки с призывного пункта (а это, кроме еды, полная сумка водки) иссякли; голова трещит, деньги все потрачены, а находчивости нашему брату, как известно, не занимать.
– А если б еще пешком пришлось идти? – спрашивает уже улыбаясь офицер.
«Близнецы», хоть и видят угасшую строгость, молчат. Строй зашевелился. Это уже позже начнется смех. Пока не до смеха. Веселая была ночь на пути в солдатчину. Вон тот – тоже мне солдат: маленький, как мальчишка; и как его такого взяли в армию? – хоть и непьющий, а на голове шапка без одного клапана; кто-то, потешаясь, оторвал: не нужна, мол, теперь эта шапка. Рядом с ним – кучерявый улыбчивый парень. Телогрейка надета на голое тело. Можно подумать, из родного аула его так отправили.
– Ну, орелики, – качает головой офицер.
КАРАНТИН
– Какой такой карантин? Ящур что ли у меня? – не может понять коротышка Закиров. – Колхозе карантин, когда скотина болеет. Я ящуром не болею. Зачем карантин?
Ему не терпится в солдаты. Скорее подавай ему гимнастерку. Чтобы с погонами, бляха чтоб со звездой, сапоги гармошкой. Чтоб значки на груди.
– Эх ты, – объясняет Гафиатуллин. – Всегда солдаты начале карантине бывают. Один месяс.
Можно подумать, он уже служил однажды.
– Может, ты болеешь. Может, беркулез привез. Тебя надо проверить, чтоб весь армия не заболел.
Кто-то улыбается, кто-то высказывает свое мнение, кто-то молчит. Главное – в армию приехали. Все объяснит наш начальник, который встретил прибывших с поезда и, осмотрев, отправил в баню, где мы после помывки оделись, обулись во все армейское.
– Здесь вы начнёте с азов военную подготовку, – говорит офицер. – Месяц вас будут обучать сержанты. Всем уставам, всему тому, что должен знать и уметь каждый солдат. Через месяц вы примете присягу и будете распределены по эскадрильям.
Мы уже знаем: полк, куда нас привезли, – летный; он приписан к училищу, которое готовит летчиков-истребителей. Это здорово! У нас голубые погоны, петлицы с птичками; днем с возвышенности, что видна за постройками, слышен реактивный гул; над нами то и дело пролетают самолеты со звездами на плоскостях, да-да – на плоскостях, а не на крыльях; крылья это на языке тех, кто не разбирается в летном деле, а тут тебе… Тут авиация. Правда, авиация – это там, в полку, куда нас передадут после карантина. Но пока надо еще обучиться. Мы только надели гимнастерки. Ни повернуться, ни шаг ступить по-солдатски не умеем. Гимнастерки на нас топорщатся. В них мы не узнаем друг друга. Особенно в первый день, после бани, все как один обритые наголо – сплошная серая масса, неуверенно пошевеливающаяся, тихо переговаривающаяся.
После помывки вернулись в казарму, построились. Каждый, еще не понимая, смотрит на бравого сержанта: почему на нем гимнастерка сидит ладно, ни одной морщинки на поясе, а на нас – словно юбка на пышногрудой деревенской молодке? Сержант снисходительно смотрит на строй. Сейчас он покажет, как заправляется гимнастерка под ремень: пара привычных движений ловкими руками, щелкнула пряжка – он вытянул руки по швам. Как на картинке. Показывает еще раз. Весь строй начинает приводить себя в порядок, чтобы все было гладенько, как на сержанте. Нет, все равно складки собрались спереди, все равно как юбка.
– Укоротите ремни, – говорит сержант. – Он не должен висеть на животе.
Подошел к одному из нас, решительно взялся за пряжку, оттянул и стал закручивать ее внутрь.
– Вот. Сколько раз заверну, столько и нарядов положено вне очереди на кухню.
Отошел.
– А теперь всем подшить подворотнички. Даю на первый случай кусок на всех. Но с завтрашнего дня каждому иметь своё. Купить в нашем магазине или взять у старшины списанной простыни.
Эх, и непослушна иголка. Легче с ломом управиться. Ты ее в воротник, а она… Только и видишь: кто-нибудь сосет палец – укололся. Тот, что стоял в строю в телогрейке с одним рукавом, это Шарафутдинов, продел в иголку нитку длиной метра полтора. Можно подумать, на всю роту заготовил. И теперь нитка путается, когда он протягивает ее сквозь ткань воротничка, скручивается в узелки. Незадачливый швей тихо матерится. Сосед, сочувствуя, советует ему укоротить нитку. Все корпят.
– А это еще что за чудо? – слышится голос сержанта. Он хохочет. – Ты что, юный ленинец?
Сержант стоит перед тем недоростком мальчишкой. Мы уже знаем его. Это Гимранов. Он подтянется ростом уже через полгода. А пока – ни дать ни взять – соску бы ему в рот. И голос детский. Но уже подшился. Хоть мал, но проворней нас оказался. Стоит перед сержантом – руки по швам. Только вот белая полоска подворотничка у него – по наружной стороне ворота гимнастерки.
– Я думал, так нада, – растерянно говорит он.
– Ты понимаешь, для чего подшивается воротничок? – улыбается уже сочувственно сержант. – Чтобы шею не терло хэбэ. А ты снаружи присобачил.
Не спеши, сержант. Все образуется. Научимся еще. Полторы-две минуты на это будет уходить скоро. А пока ох, не хватает времени, того, которое называется личным, когда и письмо домой можно написать, и почитать, а пуще – кучкой посидеть, прислушиваясь к рассказам прибывших вместе с тобой, присматриваясь. И не заметил, как день прошел. Вечерняя проверка – и уже отбой.
Перед сном сержант учит, как складывать гимнастерку, брюки на табуретку; как заправлять портянки на голенища сапог, чтобы подсохли до утра; куда вешать пояс, класть шапку. И вот команда:
– Рота, сорок пять секунд – отбой!
Все пришло в движение. Суматоха. Разбежались из строя. Как угорелые. Разоблачаемся. Толкотня. Гимнастерка не складывается ладом, сапоги падают. Сержант смотрит на секундную стрелку своих часов. И вот последний, самый неуклюжий, бросился в кровать. Головы торчат из-под одеял.
– Та-ак, – прикидывает по часам сержант. – Минута, пятнадцать секунд. На первый раз сносно, – говорит и внезапно командует: – Рота, сорок пять секунд – подъем!
Вскочили, начинаем снова облачаться. Снова в строю. Застегиваем пуговицы, поправляем пояса. Сержант идет вдоль строя, делает замечания. Остановился.
– Как фамилия?
– Рыбаков, – отвечает тот, перед кем он остановился.
– Не Рыбаков, а рядовой Рыбаков. А ну-ка сними сапоги.
Тот снял, стоит босиком.
– Где портянки? Доставай.
Портянки оказались под матрацем.
– А если сейчас марш-бросок? Километров на пять, – строго говорит сержант. – Ноги в кровь разобьешь без портянок.
Он отступил от строя, командует:
– Рота, сорок пять секунд – отбой!
В первые дни такие тренировочные подъемы-отбои повторяются по несколько раз. Все образуется. А пока все ново: ряды двухъярусных коек, высокие окна без штор, без занавесок; непривычный запах казармы – букет запахов: извести, сырости от полов, постоянно протираемых шваброй с большущей тряпкой на конце, и еще – примешивающийся к ним запах новых, еще не разношенных сапог.
Первое утро следующего по прибытии дня. Сейчас будет первая побудка. В шесть часов. Большинство новобранцев безмятежно спят и видят еще домашние сны. Но кто-то проснулся загодя. Хоть и «радиатор закипел» – не встает, думает – запрещено. Лежит, высунув голову из-под одеяла, – приготовился. И вот зычный голос пронзает тишину:
– Рота, сорок пять секунд – подъем!
Словно вихрь пронесся по казарме. Одеяла взлетели. Со второго яруса кто-то перемахнул через головку кровати в проход; кто-то повис на руках, как спортсмен на брусьях, между кроватями. Стук, скрип, топот. И ни слова. Сержант молча смотрит на часы. И тут в дальнем углу слышится тихий мат. «Ногу вытащи. Куда засунул?» – зло требует кто-то. Сержант тянет голову.
– Это еще что? Не выражаться, – предупреждает он.
А там, в углу, непонятная свалка. Я сам, слетев с моего верхнего яруса, оказался верхом на шее вставшего с нижней койки Шарафутдинова. Он молча вынес меня в проход между рядами, зло сбросил, и мы мирно торопимся облачиться в гимнастерки. В углу же, привлекшем внимание сержанта, ситуация несколько сложней. Кто-то, так же сиганув сверху, угодил ногой в прореху кальсон оказавшегося под ним соседа. Кальсоны-то новые, еще не севшие от стирок, а потому просторные; ты в них хоть Гимранова сорок четвертого размера затеряй, хоть Галеева пятьдесят второго размера. Так вот, нога-то сиганувшего сверху и вписалась в чужие исподники, владелец которых справедливо разгневался еще и потому, как неподрасчитавший сосед никак не может вытащить ногу назад. Оба суетятся: время-то идет, не уложиться в сорок пять секунд; тянут один другого в разные стороны. Законный владелец исподников вынужден расстегнуть верхнюю пуговицу на прорехе, тянет подол нательной рубашки на обнажившиеся гениталии. И пока соседская нога ушла-таки из чужих владений, первые, самые проворные новобранцы уже выбегают в строй, застегиваясь на ходу. Все это с непривычки. Все образуется. Уже во второй, третий день начнем укладываться в сорок пять секунд, а иному, кто пошустрее, скоро уже и тридцати секунд будет достаточно.
На завтрак в столовую – с песней. Наша первая солдатская:
Полем вдоль берега крутого мимо хат
В серой шинели рядового шел солдат.
Строй – так себе, куча. Хоть и в школе учили когда-то, однако не получается. Чтоб – стук, стук. Как если б один кто-то, здоровяк, твердо ступал по асфальту. Сержант на первый случай помогает: «Л-левой, л-левой, раз-два – л-левой». Сам он рядом – как свечка. Как нарисованный. Бодрая отмашка, твердый шаг. А здесь – куча. В ней вдруг слышится окрик: «Ногу смени! Ногу смени! Сколько тебе повторять?» Это Рыбакова бьет по каблуку идущий вслед за ним.
РЫБАКОВ
Его чудаковатость вначале не бросалась в глаза. По поступкам Рыбакова нельзя было определить: розыгрыш это или всерьез. Он со спокойной миной мог рассказывать какую-нибудь небылицу, и при этом ни один мускул не дрогнул бы на его лице. От него, щуплого с виду, небольшого роста, мы слышали, как доводилось ему вступать в схватку с целой группой хулиганов; о том, как сильна у него правая рука, которую никто не сможет заломить. Любопытней всего то, что, когда его звали помериться силой, он соглашался; и действительно, правую его руку редко кто укладывал на стол. Лишь соперники ставили локти, и по команде начиналось состязание, жилистая кисть неказистого с виду борца, расслабившись, поддавалась напору, но локоть при этом оставался несгибаемым. Средь рассказываемых сюжетов немало слышали мы от него и актуальных, солдатских. Кажется, эта, трудно сказать, то ли байка, то ли взаправдашняя история из армейской яви – одна из поведанных Рыбаковым.
Дело было в какой-то войсковой части, в какой – не суть. Каждую ночь в одно и то же время, когда казарма пребывает в полнейшем покое, один из новобранцев привстает над подушкой и громко кукарекует. Да так, что все просыпаются. Отметив таким образом полночь, он ложится и как ни в чем не бывало продолжает спать. Это повторяется систематически – ни одной ночи сбоя. За нарушителем покоя начинают следить. И хоть бы раз промашка. В одно и то же время – кукареку! В конце концов солдата с петушиным синдромом выбраковывают – комиссуют. И уже гражданского, освобожденного от солдатской службы, его встречают однополчане на улице города и, конечно же, подшучивают на предмет петушиного дара: «Ну как, ты все кукарекуешь?» – «Да нет, я свое откукарекал, – отвечает тот. – А вот вам еще три года кукарекать».
Мы пересказывали друг другу этот чудной случай со своими комментариями. Они были уместными. Не успев еще привыкнуть к армейской жизни, солдат заражается этой, словно навязчивой, дембельской идеей: скорей бы домой. Это притча во языцех. О дембеле все помыслы солдата, множество песен, общеизвестных или самодеятельных. Чуть позже, по прибытии в полк из карантина, еще будучи в низшем звании того неформального табеля о рангах, салагами, мы уже подтягивали дедам:
Напой, гитара, мне аккорд в последний раз,
Я расстаюсь навеки с армией сейчас.
Но пока карантин. Уставы и строевая подготовка.
Солдатский строй – это выправка, это красота. Грудь колесом, плечи расправлены, носок сапога – вытянут, как у балерины. Ходить учатся все, с младенчества. А солдатскому шагу надо учиться особо. Чтобы по команде «С места с песней строевым…» рота рубила шаг так, что поперву дух захватывает. Для этого преподаются азы. Как раз сержант нам объясняет: левая нога, вытянутый носок идет вперед, а вместе идет вперед на взмах правая рука; правая нога – вперед, левая рука вместе с ней.
Перед строем Рыбаков. Сержант просит показать, как он усвоил урок. Рыбаков по команде начинает. Левая нога, а вместе с ней и левая рука приходят в движение, вперед. Стукнул об пол подошвой. Правая нога и правая рука пошли вперед. Строй взрывается хохотом. Спектакль да и только.
– Ты что, не понял? – возмущается сержант и показывает еще раз.
Рыбаков снова шагает. Попробуй так специально – не получится. Хохот.
– Да ты что? – вскипает сержант. – Ты как ходишь по улице-то? Люди ведь засмеют. Ну-ка давай просто, нестроевым.
Рыбаков идет. Старается, вроде бы, на всякий случай вообще не размахивать руками, но они непроизвольно следуют обычной привычке.
– Ну вот видишь? Так и здесь, – сдерживает горячность наставник. – А ну-ка давай: шаго-ом марш!
Снова хохот. Виновник непредвиденного веселья и сам едва улыбается. Вроде бы виновато, но в уголках глаз затаилась хитринка. «Прикидывается, думает косануть от армии,» – тихо комментирует кто-то. Так это или нет – нельзя утверждать уверенно. Одно точно: Рыбаков еще не раз озадачит своих наставников. В тот же день после отбоя, когда уже и тихое шушуканье угасло, бледная тень пробиралась к двери сержантской комнаты. Послышался нерешительный стук. «Входите!» – отозвалось изнутри. Дверь приоткрылась – в проходе остановился Рыбаков. В исподниках, в сапогах, руки – по швам.
– Товарищ сержант, разрешите обратиться.
Один из сидящих в комнате отвернулся, чтобы скрыть улыбку; другой не выдержал – фыркнул. Рыбаков стоит навытяжку.
– Обращайтесь, – отвечает сержант.
– Я не успел до отбоя… Можно сейчас подшить подворотничок? – просит подчиненный, все еще вытянувшийся в струнку.
– Да ты встань вольно, – рассмеялся-таки сержант. – Нигде в уставе не прописано, чтобы в кальсонах исполнять стойку смирно.
Рыбаков вроде бы смяк, едва ослабил ногу в колене, но руки все еще по швам.
– Ладно, подшивайся, – машет рукой сержант.
– Я тогда в умувальнике буду, – чуть осмелел подчиненный. – Разрешите идти?
Он круто развернулся кругом, стукнул каблуком об пол, но, видно, вспомнил, что сделал разворот не через то плечо, возвернулся в исходное положение, вновь крутнулся на каблуке, шагнул строевым через порог.
– Да ты не топай, как лошадь. Люди спят, – бросают ему вдогонку.
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Не прошло и недели; курс молодого бойца был в разгаре, когда капитан провел средь нас «профилактику».
– Вот что, бойцы, – начал он. – Вам ведь уже растолковывалось, что вы находитесь не в пионерском лагере, а в войсковой части. Растолковывалось, что вы многое здесь узнаете, того, чего не положено знать оставшимся вне части. Это военная тайна, и за ее разглашение можно угодить…
Он в самом начале действительно предупреждал: не всякое лыко в строку; домой письма пишет каждый, это не запрещено, но сообщать родственникам не все подряд. Он предупреждал, что солдатские письма выборочно или как-то перед отправкой из части прочитываются. И вот тут-то оказалось, о чем только не писал наш брат на родину. На предмет секретности полученная нами в первые дни информация была, можно не сомневаться, пустяковой, однако иной новобранец выворачивал ее так, что неспроста взроптал капитан.
– Я не буду сейчас называть фамилии, – продолжает он. – Кое-кто узнает себя. И тот, кто уже успел вкусить тяготы службы, о которых он пишет, но которых еще и не нюхал ведь; и тот, кто, оказывается, уже летает на истребителях. Вы свистите, но не перебарщивайте. Неделя прошла, как привезли вас сюда, а двое, оказывается, уже летают на самолетах. Так и пишут. Ишь, летчики!
В ответ – дружный смех.
– Вы не будете летать. Будете обслуживать самолеты, – продолжает капитан.
– Устранять зазор между тряпкой и плоскостью, – добавляет, улыбаясь, стоящий рядом сержант, один из наших наставников.
– А теперь другое.
Капитан помолчал, обвел взглядом строй.
– Я сегодня посмотрел, когда вы шли на завтрак. Речь не про строй. Шагать еще научитесь. А вот ваша форма, я имею в виду шинели. Кое-кто, видно, решил, что мы тут забыли открыть для вас ателье мод, и сам взялся их перекраивать. Вы, товарищ сержант, – обратился он уже к нашему наставнику, – сегодня осмотрите всех. Кто укоротил полы – а я видел, у кого-то чуть ли не задница едва прикрыта, – вместо отрезанного куска подшить полоску одеяла. На первый случай. А потом пусть или за свой счет приобретает нормальную шинель, или из БУ – оставшихся после уволенных в запас, если найдется, выдать ему.
Но все это слова. Никто еще ни разу не видел шинели с подшитым куском одеяла. А такие, которые заметил капитан в нашем строю, – пожалуйста. Этакое мини. Подгоняют, переделывают не только шинели. И гимнастерки, и брюки; хоть повседневную, хоть парадно-выходную форму. Как бы ни было однообразно одеяние солдата, но тот, кому не безразлична его внешность, обязательно изыщет способ привнести в нее шик, изюминку. Посмотрите, вон идут по улице. У одного каблуки сапог шоркают по асфальту; сам подался корпусом вперед, словно рюкзак в полную выкладку у него за спиной; шинель – как надел, так и подпоясал ее, того и гляди запутается в ее полах, рукава – чучело огородное; шапка натянута до бровей. У другого шинель – ни одной лишней складки, сапоги блестят на солнце; шапка на макушке, слегка набок; он чуть согнул руки в локтях, спина прямая, идет – вся его внешность говорит: посмотрите, какой я красавец. А подшить кусок одеяла – пустые слова человека, решившего, что перед ним швейки, готовые сломя голову подчиниться любому приказу.