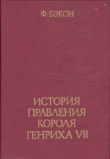Текст книги "Извилистые тропы"
Автор книги: Дафна дю Морье
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Нам не дано знать, аплодировали ли им в качестве зрителей Фрэнсис Бэкон и его супруга. Более вероятно, что после роспуска парламента он стал проводить больше времени в Горэмбери, которое он наконец-то, по прошествии стольких лет, мог считать полностью своим. Элис, которой сейчас было восемнадцать лет, была полновластной хозяйкой дома, потому что леди Бэкон умерла в августе 1610 года. Единственный источник сведений об этом мы находим в письме, которое Фрэнсис написал своему старому другу сэру Майклу Хиксу.
«Я высказываю всего лишь мое желание и ни в малейшей мере не хотел бы Вас затруднить. Просто я всей душой хочу, чтобы Вы были рядом со мной во время похорон моей матери, которые состоятся во вторник днем. Осмеливаюсь обещать Вам хорошую проповедь, которую прочитает священник Грейз инна мистер Фентон, ибо никаких иных он не читает. Поминального застолья я устраивать не буду. Но если бы Вы смогли провести в моем доме два или три дня, мне было бы легче пережить в Вашем обществе это печальное событие. Если бы Ваш сын по-прежнему учился в колледже Святого Юлиана, это притянуло бы Вас сюда как магнитом, а теперь, если Вы приедете, я смогу сказать, что Вы приехали только ради меня».
У нас нет текста проповеди, но, без сомнения, она воздала должное величайшей набожности покойной и ее учености. Не были забыты и проповеди, которые она когда-то давно перевела с итальянского и с латыни, как, вероятно, и то, что реформатор Теодор Беза посвятил ей свои размышления. Вероятно, вспомнили и ее ученых сестер: жену лорда-казначея лорда Берли Милдред, которая умерла еще в 1589 году, и Элизабет, леди Расселл, которая умерла всего год назад, в 1609 году.
Энн Бэкон умерла в возрасте восьмидесяти двух лет, но о ее последних годах в Горэмбери мы знаем только то, что она «совсем выжила из ума», как писал епископ Гудмен. Похоронили ее в церкви Святого Михаила в Сент-Олбансе. Если о ком поистине и можно было сказать: «наконец-то отмучилась», так это о ней. Она страдала всеми старческими немощами – была прикована к постели, не могла есть без посторонней помощи, ходила под себя, и можно только надеяться, что вдовы или дочери ее бывших верных слуг, «добряка» Финча, Тома Готерема и других, заботились о ней до конца. Что до ее невестки Элис, о которой, увы, мы знаем так мало, хотелось бы думать, что она проявляла доброту и сострадание к старой свекрови, которая так страстно мечтала о внуках от своих сыновей Энтони и Фрэнсиса, но так их и не дождалась.
По крайней мере письмо Фрэнсиса к сэру Майклу Хиксу свидетельствует о его добром отношении к матери, а то обстоятельство, что он в своем завещании пожелал быть похороненным в церкви Святого Михаила, «ибо там покоится прах моей матери», показывает, что, несмотря на хлопоты и беспокойства, которые она всем причиняла, впав в старческое слабоумие, он надеялся упокоиться с ней рядом, когда придет его срок.
Что касается литературных успехов Фрэнсиса за прошедший год, то после трактата на латыни «De Sapientia Veterum», вышедшего в свет в 1609 году и привлекшего к себе довольно большое внимание, он не напечатал ничего. Это была та самая книга, которую он послал Тоби Мэтью в феврале 1610 года и о которой писал: «Посылаю Вам небольшую вещь, которая начала завоевывать мир. Говорят, моя латынь стала чистой, как серебро, и ее считают образцом. Если бы Вы были здесь до выхода книги, я представил бы ее на Ваш строгий и взыскательный суд».
В «De Sapientia Veterum» Фрэнсис пересказывает сюжеты тридцати одного мифа Древней Греции, давая им свое собственное толкование; рассуждает о том, как они возникли, как влияли на мысли и поступки людей на протяжении столетий. Неудивительно, что книга пользовалась таким успехом у его современников, да и в наше время те, кто любит античные мифы и легенды, читают ее с огромным интересом. Любопытно, что Фрэнсис, такой непримиримый противник греческих философов, с великим уважением относился к мифам и легендам, считая их иносказаниями, которые с древнейших времен помогали человеку понять самого себя. Он всегда глубоко вдумывался в сочинения античных писателей и часто цитировал их и в своих политических выступлениях, и в философских трудах; но сейчас его ум, казалось, пытается проникнуть в доисторические времена и ответить на вопрос, не населяли ли тогда землю существа, которые обладали более высоким разумом, и не они ли оставили это богатство мифов и аллегорий в назидание тем, кто придет на землю после них. Читая пересказ и толкование Бэконом тридцати одного древнегреческого мифа, понимаешь, что эта книга писалась им в период творческого взлета, когда он был временно свободен от участия в политической деятельности и мог направить свое воображение на разработку идей, которые его занимали.
Судя по всему, особенно его волновал миф об Орфее, певце и музыканте, наделенном волшебной силой искусства, которому покорялись даже дикие звери и которого растерзали насланные разгневанным Вакхом менады; Фрэнсис проводит сравнение между судьбой Орфея и судьбой, которая ожидает нашу собственную страну, если ее начнут опустошать мятежи и войны. «И если эти бедствия будут продолжаться, они скоро погубят и литературу, и философию, растерзают их в клочья и надо будет собирать останки, как собирают выброшенные на берег обломки погибшего корабля; наступит эпоха варварства, воды источника Гиппокрена уйдут под землю и лишь долгое время спустя, после предначертанных судьбой превратностей истории, вырвутся наружу, скорее всего в другом месте, на другой земле, где живут другие народы».
Фрэнсис с горечью говорит о коварной, губительной власти Вакха над человеком, он вселяет в него страсть, которая торжествует над рассудком. «В этой аллегории особенно поражает то, что Вакх щедро одаривает своей любовью тех, от кого другие отвернулись. Ведь всем известно, что страсть жаждет того, что отвергает опыт. И пусть все, кто, потворствуя своим желаниям, готов в пылу погони отдать все ради удовлетворения своей страсти, знают: что бы ни было предметом вашего вожделения – почет ли, богатство, или любовь, слава, знания, да что угодно, – вы гонитесь за пустым призраком, за тем, чего люди испокон веков домогались, но, добившись, с отвращением отбрасывали».
Неожиданно горькие слова, они наводят на мысль, что Фрэнсис, когда писал их, переживал очередной приступ меланхолии, которая время от времени охватывала его, но от меланхолии не остается и следа, когда он берется за миф о Прометее, который похитил у богов на Олимпе огонь, чтобы отдать его людям, и был приговорен Зевсом к вечной казни, однако Геракл его освободил. Фрэнсис заключил свое толкование этого мифа, сравнив его с таинствами христианского вероучения. «Геракл, плывущий в утлой золотой ладье, чтобы спасти от мук Прометея, с несомненностью напоминает нам образ Бога-Слова, спешащего в хрупкой оболочке своей плоти искупить грехи людей», – пишет он.
De Sapientia Veterum Фрэнсис посвятил «вскормившей его матери» – Кембриджскому университету, а также своему кузену графу Солсбери, лорду государственному казначею Англии и канцлеру университета.
Наступил 1611 год, но перспектива занятости в государственных делах так и не открылась. Парламент не был созван, а предложение написать историю нынешнего правления, с которым он обратился к королю, не встретило поощрения. Его величество не заинтересовался этой идеей: все его внимание было целиком сосредоточено на его собственном Эндимионе – Роберте Карре, которого он готовился сделать кавалером ордена Подвязки и виконтом Рочестерским. Что ж, нет так нет. Фрэнсис оставил эту мысль. Его изобретательный ум обратится к другим замыслам, к другим планам. Он будет строить, разбивать парки, завершит свои эссе; а поскольку король сейчас только и делал, что охотился и развлекался со своим постельничим, больше у него ни на что времени не оставалось, то Фрэнсис на сей раз посвятит свои эссе тому, кто с Божьего соизволения станет преемником Якова I, – принцу Уэльскому.
8
Вероятно, Фрэнсис Бэкон завершил работу над эссе месяца за два – трудно представить себе, чтобы он посвятил им весь 1611 год. Его биограф Джеймс Спеддинг высказывает предположение, что он в это время просматривал и редактировал свои выступления – не слишком-то интересное занятие для самого выдающегося ума своего времени.
Его современник актер и драматург мистер Уильям Шакспер, житель Лондона и уроженец Стратфорда, имел возможность увидеть на сцене три свои пьесы, написанные в нынешнем году. «Цимбелин» и «Зимняя сказка» были поставлены в театре «Глобус» на Бэнксайде в мае, из «Календаря придворных празднеств и увеселений» мы узнаем, что 31 октября, в День всех святых, в Уайтхолле перед королем была сыграна «Буря». Ученые умозаключают, что автор стал более умиротворенным, смуглые леди остались в прошлом, героини всех трех пьес – молодые простодушные женщины Утрата, Имогена, Миранда – вдохновлены, как полагают некоторые, образами дочерей актера-драматурга Сьюзен и Джудит. Сьюзен в 1611 году было двадцать восемь лет, а Джудит двадцать шесть. Сьюзен была уже замужем, у нее был ребенок трех лет. А может быть, автора вдохновляла совсем другая женщина, женщина, которой только что исполнилось девятнадцать?
В 1611 году двор безудержно увлекался масками, обожавшая их королева была в восторге, а появление в четвертом акте «Бури» Юноны и Цереры в окружении нимф перекликается с «De Sapientia Veterum». Разбитый бурей «корабль стоит на якоре в той бухте, куда меня призвал ты как-то в полночь сбирать росу Бермудских островов» [16]16
Шекспир. «Буря», акт I, сцена 2. Пер. М. Донского.
[Закрыть], как докладывает Ариэль Просперо, – отсылка к реальному событию – гибели судна «Адмирал», принадлежавшего компании «Торговля с Виргинией». Возможно, Уильям Шакспер имел акции этой компании, так же как Фрэнсис Бэкон и его патрон граф Саутгемптон. Как бы там ни было, тема кораблекрушения была модной. Гонсало, «старый честный советник короля Неаполитанского» из «Бури», произносит во втором акте монолог, в котором, как утверждают исследователи, Шекспир высказывает мысли, почерпнутые из эссе Монтеня в английском переводе; томик эссе с его подписью хранится в Британском музее.
Уильям Шакспер, как и Фрэнсис Бэкон, был несомненно ботаник, его пьесы полны благоухания полевых цветов, это хорошо известно внимательному читателю. Мы не можем сказать, в какой мере можно было сравнивать сад его дома Нью-Плейс в Стратфорде, который он купил в 1597 году у Уильяма Андерхилла (единоутробного брата первого мужа леди Хаттон), с садами Горэмбери, потому что, к несчастью, в 1759 году дом в имении был снесен; но Нью-Плейс находился в центре городка и вряд ли давал возможность разгуляться воображению. Возможно, это был всего лишь скромный цветник, радующий глаз весной, так что его хозяин мог с полным основанием распевать, как Автолик в «Зимней сказке»:
Нарциссы в полях расцвели,
Как рады красотки весне!
Визит в Горэмбери принес бы Уильяму Шаксперу немалую пользу, когда он в 1611 году писал свою третью пьесу «Цимбелин, король Британии», ведь здесь, в Хартфордшире, жил прототип его героя, Кунобелинус, король Катувеллонии, племени которого принадлежали все эти земли. Судя по всему, пьеса имела успех, и в ней, как и в «Буре», была маска, в которой Юпитер «средь грома и сверканий спускается на орле и бросает на землю молнию. Духи падают на колени».
Однако «все это лишь безделушки», как напишет в конце жизни Фрэнсис в своем эссе «О масках и триумфах», опубликованном в 1625 году, «они не заслуживают серьезного отношения». Неразумно тратить на них слишком много времени, равно как и «слишком долго оставаться в театре».
Общественная жизнь снова потребовала участия Фрэнсиса. Осенью 1611 года его кузен граф Солсбери серьезно заболел, одновременно с ним заболел и генеральный прокурор сэр Генри Хобарт. Фрэнсис воспользовался этим обстоятельством и написал его величеству письмо, напомнив со всей возможной деликатностью об обещании, которое тот дал ему несколько месяцев назад: «К величайшей моей радости я узнал от моих добрых друзей, что Ваше Величество помнит о своем августейшем обещании, которое я считаю своим anchora spei [17]17
Якорь спасения (лат.).
[Закрыть], относительно места генерального прокурора. Я надеюсь, что господин генеральный прокурор поправится. Благодарение Господу, я никому не желаю смерти; а собственную жизнь я ценю лишь в той мере, в какой могу быть полезен Вашему Величеству». Генеральный прокурор выздоровел, но намек, возможно, при случае вспомнится. Поздравляя графа Солсбери с Новым годом, Фрэнсис ни словом не обмолвился о здоровье своего кузена, но заметил, что «хотя возраст и болезни сказываются на мне, я все же чувствую в себе довольно сил, чтобы служить Вам».
Граф Солсбери был и в самом деле серьезно болен, в феврале 1612 года у него обнаружили опухоль в животе. Он собрался с силами и поехал в Бат в надежде, что тамошние воды помогут ему выздороветь, но поездка окончательно подорвала его здоровье, и на обратном пути он умер; случилось это 24 мая в Мальборо. Смерть графа Солсбери была почти столь же большой потерей для страны, как и смерть его отца, скончавшегося четырнадцать лет назад; и хотя при жизни у графа было много врагов, народ его никогда не любил, и, уж конечно, он был далеко не безупречен в отношении государственной казны, однако он твердой рукой вел корабль государства при двух венценосцах, таких разных по своим личным качествам, и при этом никто из них ни на миг не усомнился в его преданности.
Похоронили его в начале июня в его имении в Хэтфилде, скромно, как он сам того пожелал, и его кузен Фрэнсис Бэкон был одним из членов семьи, которая его оплакивала. Двоюродные братья никогда особенно не дружили. Они всю жизнь, возможно, сами того не осознавая, завидовали друг другу тайной завистью, которая возникла еще в детстве, хотя в последние годы это чувство стало не таким явным. Какую роль в разжигании этой зависти сыграли их матери, Милдред и Энн, любящие друг друга сестры и все же соперницы, вечно спорящие о том, кто из них более учен, чей муж занимает более высокое положение, пусть решают психоаналитики.
Роберт Сесил был очень маленького роста, и, как говорили, одно плечо у него было выше другого. Когда его кузен Фрэнсис написал свое эссе «Об уродстве» – одно из тех, что будут опубликованы к концу 1612 года, светский хроникер Джон Чемберлен сообщил Дадли Карлтону: «Свет заметил, что он написал точный портрет своего маленького кузена». Что ж, возможно. Эссе не злое, оно скорее мудрое и проницательное. «Если у человека есть какая-то особенность, которая вызывает насмешки окружающих, эта же самая особенность постоянно подстегивает его, побуждая избавиться от насмешек; вот почему все калеки люди чрезвычайно смелые; сначала они просто защищаются, не желая быть объектом глумления, но потом это становится чертой характера. К тому же вследствие уродства в них развивается трудолюбие и наблюдательность, они отлично видят слабости других… Но самое главное заключается в том, что эти люди стремятся, если их дух силен, прекратить глумление над собой, а этого можно добиться либо проявлением добрых качеств, либо злых; поэтому не стоит удивляться, если иные из них оказываются необыкновенными людьми…»
Фрэнсис написал письмо королю 31 мая, как только до него дошла весть о смерти кузена, хотя нам неведомо, отправил он письмо или нет, а если отправил, то получил ли на него ответ или опять же нет. «Ваше Величество потеряли достойнейшего подданного и преданнейшего слугу. Но если бы мне надлежало воздать ему должное, я сказал бы, что это был человек, который умел не допустить, чтобы положение дел ухудшилось, но не умел добиться, чтобы оно улучшилось». (Это же самое можно сказать и о высокопоставленных чиновниках всех последующих столетий.) «Ибо он слишком любил, – продолжал Фрэнсис, – чтобы взоры всего королевства были устремлены на него, а все дела находились в его руках и он бы мог, подобно кузнецу или горшечнику, выковать или вылепить то, что он задумал…»
В этом письме Фрэнсис не просил короля отдать ему пост первого министра, который освободился со смертью его кузена; скорее ему хотелось высказать лично королю свои мысли и дать ему совет, как следует вести себя по отношению к палате общин. «Я предлагаю радение и строгое соблюдение законов, – пишет он в заключение, – а если вспомнить, что моя няня называла меня в детстве своей неугасимой лампадой, потому что ей нравилось говорить, что я всегда горю, и она позволяла мне сгорать чуть не дотла, – то я был бы счастлив обратить эту свою способность на службу Вашему Величеству, чьим попеченьем мое состояние упрочилось и возросло».
В письме, написанном чуть позже, Фрэнсис изъясняется более определенно. Он, как можно понять, выражает желание стать членом тайного совета: «Если Ваше Величество сочтет меня пригодным к служению на поприще государственных дел, или, напротив, если Вы сочтете недостаточно пригодным к подобному служению кого-то другого, может быть, Вы захотите допустить меня до участия в решении государственных дел… Я, точно шахматная фигура в августейших руках Вашего королевского Величества, буду счастлив быть там, куда Вы меня соблаговолите поставить».
Однако назначение нового первого министра и нового лорда-казначея затягивалось. Не созывался и парламент. Граф Нортгемптон, ранее лорд Гарри Говард и друг графа Эссекса и Энтони Бэкона, временно возглавил Совет, возможно, потому, что имел влияние на королевского фаворита сэра Роберта Карра, которому недавно был пожалован титул графа Рочестера. Однако и сам Фрэнсис не был забыт его величеством, который охотно выслушивал его советы, хотя далеко не всегда им следовал.
Естественно, вокруг назначения нового первого министра кипели страсти, чаще всего произносились два имени – сэра Генри Уоттона и сэра Ральфа Уинвуда, а также имя сэра Генри Невилла; однако в августе Джон Чемберлен писал Карлтону по поводу поста лорда-казначея: «Point encore, parce qu’il n’y a point de tresor» [18]18
Лорда-казначея еще не назначили, потому что и самой казны по сути нет (фр.).
[Закрыть].
Сам Фрэнсис был все лето занят судебными делами, но одной из важнейших обязанностей генерального стряпчего было взыскание долгов – согласно давней традиции – для проведения праздничных торжеств по поводу бракосочетания принцессы Элизабет, которой исполнилось шестнадцать лет, с графом-палатином Рейнским и Пфальцским Фридрихом. Брачный контракт был подписан в мае, и курфюрста ожидали в Англии осенью. К счастью, принцессу в стране любили, как и ее брата принца Уэльского, а поскольку жених был протестант, то все с нетерпением ожидали свадьбы и свадебных увеселений.
Взысканные долги принесли в казну около 22 000 фунтов, но поскольку расходы на свадьбу превысили эту сумму, национальный долг ничуть не уменьшился – «point de tresor» [19]19
Казны по сути нет (фр.).
[Закрыть]. Фрэнсис воспользовался этим обстоятельством и написал лично королю письмо «касательно увеличения средств Вашего Величества… Одного только экстракта, каким бы изысканным он ни был, или одного только крепкого напитка недостаточно, необходимо искусно соединить разнообразные ингредиенты… как долги Вашего Величества росли с течением времени, точно так же потребуется время, чтобы Ваше Величество смогли изыскать средства и расплатиться по ним».
Была назначена комиссия, в которую вошли также Фрэнсис, канцлер казначейства сэр Джулиус Сизер и генеральный прокурор сэр Генри Хобарт и которая должна была разобраться в запутаннейшем состоянии королевских финансов, и доклад с окончательными выводами, как можно заключить, составил Фрэнсис. Доклад был представлен в середине октября, граф-палатин в это время уже был в Англии, Фридрих приплыл на встречу со своей невестой, высадился в Грейвзенде и был поселен в резиденции Эссекс-Хаус с сопровождающей его свитой в составе более ста семидесяти человек – «очень достойных джентльменов с прекрасными манерами», как решили хроникеры-дилетанты. Будущий жених тотчас же начал самым почтительным образом оказывать внимание принцессе и всем понравился. Казалось, обстоятельства складываются как нельзя более благоприятно для счастливого завершения помолвки, как вдруг в королевской семье произошла трагедия, ставшая трагедией для всей страны.
Принц Уэльский, который со всем пылом развлекал гостей из Рейнского палатината, плавал по ночам в Темзе, скакал без устали на лошади, неожиданно заболел перемежающейся лихорадкой, как определили королевские лекари, хотя на самом деле это был, судя по симптомам, тиф. Ему пришлось отказаться от посещения ратуши, где лорд-мэр устроил представление, и пфальцграф поехал без него. Наступил ноябрь, но никто пока не осознавал, как серьезна болезнь принца Уэльского, хотя он день ото дня слабел, а регулярные кровопускания и обритие головы, где как раз и гнездилась боль, не оказывали никакого действия. Когда в столице стало известно, что их величества не посетили службу 5 ноября, в годовщину Порохового заговора и День благодарения, и что епископ Илийский вознес особые молитвы о здоровье наследника трона, люди начали догадываться, что надежды на выздоровление принца почти нет.
Королева и ее дочь мало верили в королевских лекарей, принцесса, как и ее брат, давно дружившая с сэром Уолтером Рэли, обратилась с просьбой к узнику прислать лекарство, которое он когда-то рекомендовал ей и которое ее вылечило. Сэр Рэли изготовил лекарство – у него в Тауэре была своя собственная лаборатория, – но, увы, лекарство не помогло. Вечером в среду 4 ноября принц Уэльский впал в беспамятство. Он прошептал: «Где моя дорогая… любимая… сестра?» – и это были его последние слова, он затих и замолчал уже навсегда, в пятницу вечером в половине девятого он умер.
Когда умирает старший сын короля, все обязательно кидаются гадать, не пошла ли бы история по другому пути, останься он жив. Ближайшей аналогией принцу Генри, старшему сыну короля Якова I, был принц Артур, старший сын короля Генриха VII. Оба были юноши безупречной репутации, обоих в стране любили. Пусть историки спорят, осталась ли бы Англия католической страной или нет при короле Артуре, женившемся на Екатерине Арагонской. Предоставим им также гадать, стал ли бы прислушиваться король Генрих IX к мнению своей верной палаты общин и смог ли бы уберечь Англию от гражданской войны. Как бы там ни было, смерть принца Уэльского Генри оказалась поистине великой утратой и для династии, и для двух королевств.
Новый сборник эссе Фрэнсиса Бэкона с посвящением принцу был зарегистрирован в Стейшнерз-Холле 12 октября и, как можно судить, не сразу поступил в продажу. Эссе вышли в свет в декабре, и первоначальное посвящение было изменено на посвящение свояку Фрэнсиса Джону Констеблу. Должно быть, тогда же он написал апологию принцу Уэльскому на латыни, которая была найдена только в 1753 году и, как можно предположить, была предназначена для узкого круга. Отрывки из нее дают нам возможность увидеть образ этого юноши так, как он представлялся Фрэнсису.
«…Он умер, к великому горю и сожалению всего королевства, ибо этот юноша никого никогда не обидел и никого незаслуженно не возвысил. Доброта его натуры пробудила множество надежд во всех слоях общества, но он прожил слишком недолго и не успел никого разочаровать. Более того, все без исключения считали его человеком твердым в вопросах веры; и потому наиболее мудрые питали глубокое убеждение, что он был для своего отца опорой и защитой против интриг заговорщиков, – зло, против которого наш век не нашел противоядия…»
«Он был сильный, крепкий, немного склонен к полноте, среднего роста, с красивыми руками и ногами, с царственной походкой, лицо овальное и немного худое, выражение лица спокойное, взгляд скорее внимательный, чем властный, суровый лоб, рот слегка надменный. Но если вы преодолели эти внешние преграды и умиротворили принца подобающим вниманием и уместной речью, вам открывалось, что он любезен и дружелюбен; в беседе он оказывался совсем другим, чем можно было ожидать, судя по его виду; и вообще это был человек, о котором легко было составить превратное мнение, судя по его манерам…
Он любил античность и искусство; высоко ценил ученость, хотя выражалось это не столько в занятиях науками, сколько в их почитании. Что касается качеств его характера, то самой высокой похвалы заслуживают умение и уверенность, с какими он выполнял все, за что бы ни взялся. Он был на редкость почтительный сын королю, очень внимателен к королеве, ласков со своим братом, но особенно любил свою сестру, на которую был очень похож внешне – насколько мужчина может быть похож на очень красивую девушку…
Его детские учителя и наставники продолжали оставаться его добрыми друзьями, что случается чрезвычайно редко… Он не был человеком безудержных страстей, натура у него была скорее уравновешенная, чем пылкая. Что до его любовных увлечений, о них говорили на удивление мало, особенно если взять во внимание его годы; он пережил трудный возраст возмужания, обладая столь огромным богатством и превосходным здоровьем, и не был особенно замечен в связях такого рода…
В понимании он был скор, никто не мог бы упрекнуть его в недостатке любознательности и умственных способностей. Но речь его была довольно медленной, он словно бы преодолевал смущение; однако если вы внимательно вслушивались в его слова, задавал ли он вопросы или высказывал свое мнение, вам становилось ясно, что говорит он с глубоким пониманием сути дела, проявляя незаурядный ум; так что неспешность его нечастых высказываний объяснялась не вялостью и неповоротливостью мысли, а напряженным интересом и вниманием. И притом он умел удивительно внимательно слушать… Он редко позволял своим мыслям витать, а уму отдыхать от состояния сосредоточенного внимания – дар, который обещал развиться в истинную мудрость, останься принц жив. Конечно, проявились далеко не все качества его характера, и нет смысла пытаться их угадать, мы поняли бы их со временем, а времени ему как раз и не было дано. Однако те его свойства, что мы видели, превосходны; их довольно, чтобы его прославить…»
Если бы принц Уэльский был жив, в феврале будущего года ему бы исполнилось девятнадцать лет. 7 декабря его с почестями похоронили, но ни король, ни королева на похоронах не присутствовали. Говорили, что король был не в состоянии выдержать столь печальную церемонию, королева была сама больна, а принцесса Элизабет была вне себя от горя. Единственными скорбящими родственниками оказались принц Чарлз, герцог Йоркский, и граф-палатин Фридрих. Похоронили принца Уэльского Генри в Вестминстерском аббатстве в часовне короля Генриха VII, рядом с его бабкой шотландской королевой Марией Стюарт.
Срок траура и при дворе, и по всей стране пришлось сократить не только потому, что королевская казна находилась в плачевном состоянии, а свадьбу принцессы были вынуждены отложить, но также, вероятно, и для того, чтобы пресечь неизбежно возникающие в таких обстоятельствах слухи, будто всеми любимого принца отравили. Державшиеся в тени иезуиты на сей раз избегли привычных обвинений, зато поползли зловещие слухи, будто король, завидовавший собственному наследнику трона и желавший угодить своему фавориту Рочестеру, приказал дать больному яд. К счастью, этим слухам мало кто верил.
Начали готовиться к свадьбе, которая должна была состояться в феврале 1613 года, в День святого Валентина, в королевской часовне в Уайтхолле, и великолепие торжеств помогло отвлечься от горестного события прошлой осени. Джон Чемберлен так описывал церемонию: «И жених, и невеста были в нарядах из серебряной парчи… невеста венчалась без парика, ее длинные волосы были распущены, на голове чрезвычайно богатая корона, на следующий день король сказал, что она стоит миллион крон». И заметил: «А мы все от этих чрезмерных трат только нищаем».
Юристы из Миддл-Темпла Линкольнз инна разыграли маску, на следующий вечер маску играли юристы из Иннер-Темпл и Грейз инна, причем, как пишет Джон Чемберлен, «сочинил ее и поставил Фрэнсис Бэкон… Участники приплыли из Уинчестер-Плейс, от Саутуорка, что как нельзя более соответствовало сюжету маски, а сюжетом был союз двух рек – Темзы и Рейна; представление на воде было очень красивое, из бесчисленного множества огней составлялись искуснейшие узоры, лодок и барок была целая флотилия, и на всех горело множество факелов и фонарей… эта феерия на воде обошлась больше чем в триста фунтов». К несчастью, когда участники маски высадились на королевской пристани, действо могли видеть только те зрители, которые стояли рядом, придворные же дамы не увидели ровным счетом ничего. Что до его величества, то он заснул! По настоятельнейшей просьбе сэра Фрэнсиса Бэкона все представление от начала до конца повторили в субботу. Все в восхищении аплодировали, а участников маски король пригласил на следующий день к ужину в зал, где устроили свадебный пир.
Празднества и увеселения продолжались весь месяц, к началу марта было истрачено около 50 000 фунтов. Его величество упал духом и приказал отправить часть свиты своего зятя домой, в Рейнское княжество. Отплытие молодых супругов было назначено на март, но его пришлось отложить, потому что для королевских судов не могли найти матросов. Наконец 14 апреля, спустя два месяца после свадьбы, пфальцграф Рейнский и его супруга принцесса Елизавета отплыли из Рочестера.
Теперь генеральный стряпчий его величества получил возможность снова уделить внимание судебным делам, королевским финансам и, что еще более важно, необходимости созвать парламент, чтобы достичь согласия в вопросе денежных средств. Но сначала стоит вспомнить о его сборнике эссе, который появился в печати в декабре минувшего года с посвящением свояку. Вот оно:
«Мои предыдущие эссе я посвятил моему дорогому старшему брату Энтони Бэкону, которого взял к себе Господь. Просматривая во время нынешних каникул свои записи, я нашел в них еще несколько заметок подобного рода; и поскольку я не хочу, чтобы они пропали, то, возможно, и мир этого не захочет и будет их переиздавать. Мне очень недостает моего брата, но я нашел Вас; нас тесно связывают родственные отношения, искренняя дружба и в особенности общие занятия наукой. И за это я почитаю своим долгом выразить Вам свою признательность. Как среди своих занятий я нахожу отдохновение, предаваясь размышлениям, точно так же мои размышления находят отдохновение в Ваших советах и суждениях, продиктованных любовью.
С пожеланием Вам всех благ
Ваш любящий брат и друг Ф. Бэкон».
Из первоначальных десяти эссе, число которых сейчас увеличилось до тридцати восьми, одно не было включено в этот новый сборник – «О почестях и славе». Многие эссе свидетельствуют о глубоком уме и проницательности Фрэнсиса, но в них еще нет той всеобъемлющей мудрости и понимания, какие мы находим в последнем издании, вышедшем в свет в 1625 году, где число эссе увеличилось до пятидесяти восьми, причем строки из них цитируются уже больше трех веков, включая и наше время. Мы уже обращались к «Браку и безбрачию», в котором, возможно, отразился его собственный жизненный опыт, самое начало этого эссе: «Тот, у кого есть жена и дети, имеет близких и родных людей, но эти близкие и родные люди суть препятствие для больших замыслов, как благих, так и пагубных. Несомненно, самые достойные творения, наиболее высоко оцененные обществом, созданы людьми неженатыми или не имеющими детей», – наводит на мысль, что отсутствие сыновей и дочерей не слишком огорчало Фрэнсиса. Более того, эссе «О родителях и детях» дает основание предположить, что он никогда и не желал стать отцом, а если и желал, то после женитьбы на Элис Барнем выкинул подобные мысли из головы. «Родительские радости скрыты от посторонних глаз, равно как их горести и тревоги; о радостях рассказывать не принято, о горестях и тревогах не хочется. Дети облегчают наш труд, но несчастья с ними переживаются еще труднее. Потомство плодят и животные, но память, благородство и честный труд свойственны лишь человеку».