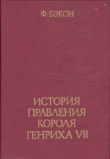Текст книги "Извилистые тропы"
Автор книги: Дафна дю Морье
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
На том и порешили. В ноябре граф Суффолк с графиней были препровождены в Тауэр и присоединились к обществу избранных, которые уже наслаждались свежим речным воздухом в крепости его величества, среди них также были граф Сомерсет и сэр Томас Лейк.
В начале декабря лорд-канцлер тоже почувствовал потребность подышать свежим речным воздухом, но не в лондонском Тауэре и даже не в своей собственной резиденции Йорк-Хаусе, а гораздо выше по течению Темзы, ибо 12-го числа он написал маркизу Бекингему: «В пятницу я покинул Лондон с намерением уединиться в Кью; после двух с половиной месяцев такого напряжения тетива моего лука вот-вот лопнет». Он пригласил с собой сэра Джайлса Момпессона, чтобы обсудить с ним финансы его величества. Возможно, в Кью они с сэром Джайлсом поселились в доме, который назывался Датч-Хаус и принадлежал голландскому купцу сэру Хью Портмену, – кстати, последнее дело, которым занималась в декабре Звездная палата, было принятие мер против тех торговцев, которые вывозили золото в Голландию.
Приближалось очередное Рождество, и теперь, когда лук Фрэнсиса не был так туго натянут, можно надеяться, что ему удалось встретить Новый год в Горэмбери, может быть, даже в Верулам-Хаусе, «где всю зиму зеленеют остролист, плющ, лавр, можжевельник, кипарисы, тис, ананасы, ели… И миртовые кусты, если их пересадили в теплицу, и так сладко пахнущий майоран, он тоже любит тепло». Фрэнсису скоро стукнет шестьдесят, а бремя государственных дел так редко дает ему возможность перевести дух; он помнил, как рано состарился под бременем государственных дел его отец, как мучила его подагра, как сильно он располнел… Надо бы Фрэнсису поменьше есть.
Одно он знал твердо: когда он вернется в Лондон, он не примет ни одного приглашения в Хаттон-Хаус. Такой темп жизни не для него. Еще до Рождества ее светлость объявила, что каждый четверг будет устраивать ужины с танцами и развлечениями вплоть до начала Великого поста – его бывшая возлюбленная была неутомима, – и уж если она захотела танцевать, в кавалеры она выберет себе молодых людей, например своего зятя Джона Вильерса, который теперь стал виконтом Пербеком, и своего пасынка Роберта Рича, графа Уорика.
«Не забывай о надвигающихся летах и не думай делать по-прежнему то, что делал раньше, ибо с возрастом не спорят» [34]34
Ф. Бэкон. «Эссе о поддержании здоровья».
[Закрыть].
16
Наступила весна 1620 года, а король не выказывал ни малейшего намерения ни созвать парламент, ни назначить нового лорда-казначея, пост которого оставался вакантным с тех пор, как графа Суффолка постигла опала. Не принял он также решения относительно притязаний своего зятя Фридриха, пфальцграфа Рейнских и Пфальцских княжеств, на трон Богемии – поддержать их или нет.
Управление страной велось из рук вон плохо, разве можно было представить себе что-то хоть отдаленно подобное при королеве Елизавете; это очень тревожило лорда-канцлера, потому что он любил свою страну и был безоговорочно предан правящему монарху. Он считал, что повседневную работу правительства можно сделать значительно более эффективной, если создать несколько комиссий и каждой поручить какую-то одну сферу деятельности, например вывоз и ввоз зерна; вовлечение населения в мануфактурное производство; развитие животноводства и принятие мер против уменьшения населения в сельских местностях; осушение затопленных земель; более интенсивное использование ресурсов Ирландии; обеспечение королевства всеми средствами защиты от вооруженного нападения, как-то: пушки, порох, снаряжение, доспехи. Он составил список всего необходимого с величайшей тщательностью и подал его величеству, но ответа не воспоследовало; Фрэнсис Бэкон уж слишком опередил свое время.
Тогда он стал настаивать на назначении нового лорда-казначея. Национальный долг уменьшился, но недостаточно, и Фрэнсис предложил меры для решения этой проблемы чрезвычайной важности. Одной комиссией здесь не обойтись; нужен «государственный муж, обладающий знаниями и пользующийся уважением, с целым штатом полномочных помощников», ибо «на полях Вашего величества случился неурожай, которому я не вижу иного объяснения, кроме дурной погоды… управление средствами Вашего Величества требует в видах пополнения казны не только рачительности и здравого смысла, но также нововведений, изобретательности, усердия, целеустремленности, причем все эти качества должны укреплять друг друга; на такое способна лишь комиссия, где ответственность возложена на какого-то одного ее члена или на двух…»
«Ваша деятельность в сфере управления направлена то на одно, то на другое, а не на все единовременно, и так получается, что вместо того, чтобы принять серьезные основательные меры, мы время от времени лишь латаем прорехи; как тут не вспомнить всем известную притчу про хозяйку, которая жарила курицу, зажигая хворостину за хворостиной, – хворост сгорел, а курица так и не поджарилась. На этом пути Ваше величество ожидают нужда и лишения… Вашему величеству было бы полезно, нет, необходимо, чтобы за Ваше дело взялись сразу с нескольких концов, тогда будет возможно навсегда избавить Вас от тисков финансовых затруднений, а не ослаблять лишь слегка их давление, когда оно становится невыносимым».
Что касается исков, этих нескончаемых требований решить дело в свою пользу, которые поступали каждый день, то Фрэнсис признавался: «Удовлетворить все просьбы значило бы разорить корону и народ. Отказать во всех просьбах значило бы огорчить всех и никогда более не видеть ни одного довольного лица… А тщательно и всесторонне все взвесить и сделать так, чтобы никому не было обидно, и при этом еще способствовать тому, чтобы Ваши помощники могли урегулировать вопросы, не доводя их до обращения в суд… И при этом назначить хорошего лорда-казначея, задачей которого является следить за состоянием дел, не доводить до разбирательств в суде, отменять пенсии, проверять привилегии, сомневаться в заслугах просителей… словом, быть для Вашего Величества помощником, каким много лет был лорд Берли, который просеивал для Вас и просьбы, и просителей».
У Фрэнсиса имелся на примете кандидат на пост лорда-казначея – лорд главный судья суда королевской скамьи сэр Генри Монтегю, но его назначили только в конце ноября. Что до конфликта по поводу трона Богемии, то с одной стороны на короля Якова давил испанский посол, а с другой – изводил постоянными требованиями поддержки его зять Фридрих, и потому Фрэнсис отстранился; а его величество лишь твердил, что Господь все устроит к общему благу, он на Него уповает. Похвальная позиция для верующего, но не слишком пригодная для ведения внешней политики страны. Неудивительно, что при таком состоянии дел, когда ни один из вопросов не решался, Фрэнсис писал маркизу Бекингему: «Если я сейчас умру и меня вскроют, то в моем сердце увидят дела короля, как в сердце королевы Марии должны были, по ее словам, увидеть Кале». (Кстати, в конце мая Бекингем женился на леди Кэтрин Мэннерз, дочери графа Ратленда. Ни в этом письме, ни в последующих лорд-канцлер ни единым словом не обмолвился об этом браке.)
Второго сентября стало известно, что испанская армия, поддерживаемая императором Германии, вторглась на территорию Рейнских и Пфальцских княжеств, и пфальцграф Фредерик – или король Богемии, как он любил себя называть, – оказался в очень трудном положении, поэтому его величество был вынужден принять решение. Хоть он и считал, что его зять узурпировал трон Богемии, ему все же следует оказать помощь, и потому необходимо созвать парламент. Фрэнсис Бэкон, обрадовавшись, что наконец-то кончился период бездействия, начал писать обращение к новому парламенту:
«Мы постановили, следуя решению нашего тайного совета, созвать парламент в нашем Вестминстерском дворце и желаем, чтобы нижняя палата состояла из самых здравомыслящих, самых талантливых и достойных людей, каких только можно найти в стране, ибо сейчас это важно, как никогда еще не было раньше… опытные парламентарии… мудрые и осмотрительные государственные деятели, искушенные в тонкостях политики… солидные граждане, представляющие города с самоуправлением и университеты… глубоко религиозные, однако не склонные ни к слепому фанатизму и предрассудкам, с одной стороны, ни к ереси и к бунтарству с другой».
Было условлено, что парламент соберется в январе 1621 года; до этой даты оставалось три месяца, а пока лорду-канцлеру предстояло рассмотреть еще одно неприятное дело. Ему вместе с его коллегами, членами совета, надлежало судить своего друга и единомышленника сэра Генри Йелвертона, генерального прокурора, которого несколько месяцев назад временно отстранили от должности. Обвинялся он в том, что, не имея на то полномочий, внес в новую хартию, дарованную лондонскому Сити, несколько положений, которые вызвали возражения. Это сочли серьезным проступком и предписали ему предстать перед высшим королевским судом. Лорд-канцлер набросал конспект своего выступления. «Как человек, я скорблю, ибо мы вместе учились в школе барристеров в Грейз инне; вместе трудились, когда я стал поверенным; вместе служили на государственной службе; он всегда отзывался обо мне более лестно, чем я того заслуживаю; к тому же он человек самых прекрасных и высоких достоинств, мы стали друзьями с самой нашей первой встречи, и я тем более ценю эту дружбу, что она продолжалась всю жизнь. Но как судья я считаю его проступок очень серьезным и требующим принятия срочных мер… иначе если высокоученый советник будет и далее использовать свое искусство, дабы множить выдаваемые судами предписания, то королевство будет весьма скоро разрушено. Большая и малая государственные печати, королевский перстень с печатью – знаки высшей власти, они следуют воле короля. И при этом предлагаемые высокоученым советником проекты законов и пояснительных записок могут также влиять на волю короля».
Генеральный прокурор смиренно предстал перед судом, признал свою ошибку, но корыстные мотивы отрицал. Приговор ему был вынесен 10 ноября, сэр Эдвард Коук предложил наложить на него штраф 6000 фунтов, лорд-канцлер и остальные члены совета – 4000 фунтов, что и было утверждено. Сэра Генри Йелвертона сместили с поста и приговорили к заключению в Тауэре на тот срок, какой пожелает назвать его величество.
Еще одного коллегу Фрэнсиса постигла немилость – то ли он ошибся в расчетах, то ли в суждении, то ли просто совершил оплошность; печальное событие, никак из мыслей не выходит. Что и говорить, год выдался тяжелый: конфликт и угроза войны за рубежом, нерешительность короля, и хотя, благодарение Богу, в стране не произошло тяжелых потрясений, подобных Пороховому заговору 1605 года, Фрэнсису тот год вспомнился именно потому, что он решил тогда издать свой большой труд «Усовершенствование наук», который прошел почти не замеченным. Сейчас ему точно так же не повезло с публикацией еще не законченного «Нового органона» («Novum Organum»), являвшегося вступлением к «Instauratio Magna», над которым он трудился много лет и который представлял собой собрание афоризмов об «истолковании природы и царства людей». Если «Усовершенствование наук» читается легко и с удовольствием благодаря доступности изложения, то «Новый органон», в особенности его вторую книгу, даже в переводе трудно одолеть простому читателю, пусть и очень упорному, потому что в нем воплотилась колоссальная эрудиция Фрэнсиса, он близок и понятен только тем, кто глубоко изучал логику, философию и другие науки.
Труд был посвящен его величеству; в письме, приложенном к рукописи, которую Бэкон послал королю, он говорил:
«Мой опус всего лишь ком глины, в которую Ваше Величество может вдохнуть жизнь своим благосклонным отношением и своей поддержкой… Я убежден, мое сочинение со временем найдет путь к умам людей, но Ваше благорасположение может сократить время этого пути; и я был бы несказанно этому рад, ибо писал его не ради похвалы и не ради славы, а для практического применения и во благо людей. Но признаюсь, я питаю одну честолюбивую надежду: этот мой труд лишь начало, и когда запущенное колесо хорошо раскрутится, перья христианских писателей откроют нам больше истин, чем мы узнали от язычников. И говорю я сейчас с упованием, ибо, как мне известно, мою предыдущую книгу „Усовершенствование наук“ хорошо приняли в университетах у нас в стране и в английских колледжах в Европе; и это еще более убедительный довод».
Его величество в своем ответе обещал, что прочитает книгу от начала до конца «со вниманием и интересом, хотя мне придется красть для этого часы у сна; ведь у меня так же мало времени, чтобы читать Вашу книгу, как у Вас было его мало, чтобы ее написать». Не слишком окрыляющий ответ, и, будем надеяться, что Фрэнсис не узнал, как отозвался позднее о его сочинении король: «Его последняя книга все равно что мир Божий, который превыше всякого понимания» [35]35
Послание апостола Павла к Филиппийцам, 4:7.
[Закрыть].
Королю Якову, «самому умному дураку во всем христианском мире», ни в малейшей мере не блещущему ученостью, стоило пожертвовать несколькими часами сна и прочесть хотя бы «Вступление», «План» и «Первую книгу дефиниций или афоризмов», это не потребовало бы слишком большого напряжения умственных способностей, ведь о многом из написанного там Фрэнсис уже говорил и в «Усовершенствовании наук», и в «Cogitata et Visa», хотя, нужно признать, в тех двух опусах он изъяснялся более ясно. Приверженность к мнимым истинам, а также философские системы, которые сбивали с толку ученых с незапамятных времен, всегда особенно занимали Фрэнсиса. «Из двадцати пяти веков накопления знаний, которые хранит наша память, мы едва ли найдем шесть, когда обстановка благоприятствовала развитию наук и они приносили плоды… Только три революции или эпохи развития знаний можно считать поистине важными; одна произошла у древних греков, вторая у римлян и последняя у нас, то есть у народов Западной Европы; и каждая из них едва ли заняла два века…
Есть еще одна важная и глубокая причина, почему науки развиваются так медленно, и вот в чем она заключается. Невозможно двигаться вперед, если не поставлена ясная цель. Сейчас первостепенная цель науки состоит не в чем ином, как в необходимости сделать новые открытия, чтобы помочь людям стать сильнее… Прогрессу наук мешало преклонение перед античными знаниями, авторитет людей, которых почитали великими философами, а также всеобщее согласие… Но еще более серьезным препятствием развитию наук, равно как и постановке и выполнению новых задач в разных сферах, является вот что – люди отчаиваются и считают все это недостижимым… И потому я полагаю полезным опубликовать эти мои соображения, ибо они дают разумную надежду; так же поступил и Колумб, когда перед своим достойным восхищения путешествием через Атлантику привел резоны, почему он убежден, что можно открыть иные страны и континенты помимо тех, что уже известны… Есть серьезные основания надеяться, что природа хранит много тайн, которые могут быть использованы с отличным успехом, их нельзя сравнить ни с чем, что нам до сих пор известно, воображение даже не способно представить ничего подобного, потому-то эти тайны до сих пор и не разгаданы».
Вот так-то. Те, кто читал «Valerius Terminus», «Усовершенствование наук» и «Cogitata et Visa», смогут проследить развитие бэконовской мысли в «Новом органоне» и поразиться всеохватности его взгляда, проницающего преграды, которые поставило перед ним время, и вечно устремленного в будущее, где он искал то, что может принести благо человечеству. В какое восхищение привела бы его телекоммуникация, высадка человека на Луну, изучение космоса: если бы все это предсказали в 1620 году, он не стал бы качать головой и шептать «колдовство», как наверняка прошептал бы его величество, он улыбнулся бы и сказал: «Что ж, такое возможно».
Вторую книгу «Афоризмов» лучше оставим ученым. Виды тепла и холода, природа белизны, скорость света… здесь без научной подготовки наше терпение скоро истощится, как истощилось и у короля Якова; и все же, листая страницы наугад, наш современник может изумиться догадке, которая озарила Фрэнсиса однажды вечером – возможно, это случилось в Горэмбери, – а мы в двадцатом веке знаем, что это доказанный факт.
«Странное сомнение посетило меня: когда мы смотрим ночью на ясное звездное небо, видим ли мы его таким, каково оно есть в эту минуту, или немного позже, и не существует ли, когда мы рассматриваем небесные тела, реального времени и времени относительного, как существует реальное место и относительное место, которое учитывают астрономы при исчислении смещения параллаксов? Мне кажется невероятным, чтобы лучи небесных тел достигали наших глаз мгновенно, пройдя такое громадное расстояние, скорее им все-таки требуется какое-то время, чтобы его преодолеть».
Сегодня мы знаем чуть ли не с детства, что яркость звезды определяется расстоянием ее от нас в сколько-то световых лет; Фрэнсис Бэкон догадался об этом в 1620 году.
Экземпляр «Нового органона» Фрэнсис послал в Кембриджский университет. «Как Ваш сын и ученик, – писал Фрэнсис в сопроводительном письме, – я хочу положить Вам на грудь мое новорожденное дитя. Иначе оно останется сиротой. Пусть Вас не тревожит, что я иду непроторенным путем; в круговороте времени такие явления неизбежны. Тем не менее почитание античных мыслителей сохраняется – то есть почитание их мудрости и их познаний; ибо вера зиждется только на слове Божием и на опыте. Сейчас не дозволяется вновь соединить науку с опытом; однако взрастить науки из опыта заново хоть и трудно, но возможно. Да благословит Господь Вас и Ваши ученые занятия. Ваш любящий сын Фр. Верулам, Canc».
В конце ноября страну ошеломило известие, что Фредерик Богемский, граф-палатин, он же пфальцграф, потерпел поражение в Праге и бежал, а Рейнские и Пфальцские княжества захватили войска короля Испании и Баварского герцога. Король уже был готов послать своему зятю помощь при условии, что тот откажется от притязаний на Богемию. Это позволит Англии сохранить дружественные отношения с Испанией и не помешает переговорам о заключении брака. Беда была в том, что для снаряжения войска требовались деньги, а финансы Англии опять находились в поистине плачевном состоянии. Потребуется больше миллиона фунтов, и хотя англичане были согласны воевать – речь ведь шла о защите протестантской веры, – однако оплачивать войну из своего кармана никто не хотел – так было всегда, из века в век.
«Нет никаких сомнений, – писал Джон Чемберлен, – что с тех пор, как я родился на свет, Англия никогда не была так бедна, как сейчас; все жалуются, что не могут собрать арендную плату. Однако в стране есть все, кроме денег, а денег так мало, что сельские жители предлагают вместо денег зерно, скот и прочее, что у них есть… Боюсь, что, когда кредиторы потребуют от некоторых купцов, которые долгое время кичились своим богатством, срочного возврата долгов и дело дойдет до суда, то купцы объявят себя банкротами. Но самое непонятное это то, как всего за два, самое большее за три года мог возникнуть такой огромный дефицит, который даже и осмыслить-то невозможно. Все пытаются найти объяснение: кто считает, что деньги ушли на север, кто считает, что на восток, а я могу только руками развести».
Собрался парламент 30 января 1621 года – в первый раз за семь лет. Его величество произнес длинную речь, которая была встречена одобрительно, и попросил утвердить ассигнования, чтобы корона могла заплатить долги, которые была вынуждена сделать, и снарядить армию в помощь графу-палатину.
Вопрос об армии для поддержки графа-палатина был передан в комиссию нижней палаты, и позднее был принят законопроект, получивший королевское одобрение. Однако в ходе дебатов, касающихся нехватки денег, которые начались в первую неделю февраля, всплыли вопросы, не решенные предыдущим парламентом: патенты, монополии, привилегии. Снова разгорелись жаркие споры, и созданная для их разрешения комиссия по рассмотрению жалоб работала не только весь февраль, но и часть марта.
Фрэнсис Бэкон слышал все эти споры еще в 1610 году, в должности генерального стряпчего, когда палата общин обсуждала Великое соглашение с королем и субсидии. И какая причудливая особенность характера: лорд-канцлер, с его острейшим политическим чутьем и колоссальным опытом юриста, сейчас совершенно не догадывался, какое направление могут принять эти обсуждения и как они могут повлиять на его собственную судьбу.
Двадцать первого января он отпраздновал свое шестидесятилетие, устроив по этому поводу банкет в Йорк-Хаусе. Его величество пожаловал ему титул виконта Сент-Олбанского, а неделю спустя Фрэнсис поехал в Теоболдз получать пэрскую корону и мантию. На церемонии присутствовали король, принц Уэльский, маркиз Бекингем и многие пэры Англии, все приветствовали его аплодисментами. Его друг Бен Джонсон, поэт, драматург и сочинитель масок, написал ему оду «На день рождения лорда Бэкона».
Фрэнсис Бэкон, лорд Верулам, виконт Сент-Олбанс, хранитель большой государственной печати, лорд-канцлер… никогда еще его так высоко не ценили король и покровитель Фрэнсиса маркиз Бекингем. Он поднялся по крутой, извилистой тропе на самую вершину и достиг пика своей карьеры.
«Ваше Величество возвысили меня в восьмой раз, – сказал он королю Якову, – подняли на восьмую ступень… восемь – хорошее число, октава, заключительный аккорд. И теперь я знаю несомненно: меня похоронят в мантии виконта Сент-Олбанского».
Его не насторожили первые признаки надвигающейся беды, когда комиссия по рассмотрению жалоб обнаружила злоупотребления при выдаче патентов, – все это, конечно, произошло по вине канцлерского суда. Он сказал сэру Эдварду Сэквиллу, возглавлявшему комиссию по делам мировых судов, что любой человек волен говорить о нашем канцлерском суде все, что ему заблагорассудится. Когда Тоби Мэтью написал Фрэнсису из Брюсселя, что его друзья тревожатся за него, потому что ему грозит опасность со стороны обеих палат, которые готовят против него обвинение, он ответил: «Я не могу допустить, чтобы мои друзья слишком опасались за меня или из-за меня, хоть я и знаю, что эти опасения рождены любовью; я благодарю Господа за то, что хожу прямыми и честными путями, и надеюсь, что Господь благословит меня на этих путях». Не смутило его спокойствия даже предъявленное его другу сэру Джайлсу Момпессону обвинение в нарушениях, допущенных при выдаче патентов, хотя ему довелось в свое время рассматривать это дело. Нет, все хорошо, есть только одна действительно серьезная забота – принять билль о субсидиях и уладить дела его величества.
И как раз в это время, в начале марта, Фрэнсис Бэкон узнал, что два бывших участника судебных процессов обвиняют его в том, что несколько лет назад он получил от них деньги за благоприятный исход дел, и теперь обвинения во взяточничестве и коррупции должны быть официально выдвинуты против него и в палате общин, и в палате лордов.
17
Удар был сокрушительный. Ошеломленный Фрэнсис Бэкон отказывался верить. Это невозможно, немыслимо. На него никто никогда не оказывал давления, желая добиться благоприятного или неблагоприятного исхода дела. О чем идет речь? О подарках? Да, подарки он принимал – в Новый год, в день рождения, много разных подарков от благодарных клиентов, но взятки? Взяток он не брал никогда и никогда не принимал подарков, которые бы повлияли на его решение.
Ему назвали имена двух жалобщиков. Кристофер Обри, кто бы это мог быть? Потом он вспомнил, да, канцлерский суд рассматривал его иск, а Фрэнсис ускорил прохождение дела. Этим занимался один из его помощников сэр Джордж Гастингс. Сто фунтов в виде вознаграждения за труды? Полнейшая ложь. Может быть, сэр Джордж знает истинную подоплеку.
Эдвард Эджертон? Да, его иск тоже застрял. Эджертон подавал в канцлерский суд много исков, и, возможно, Фрэнсис ускорил судопроизводство по нескольким из них. Таз и кувшин для умывания стоимостью пятьдесят гиней? Вполне возможно. Он как раз готовился переехать в Йорк-Хаус, и многие дарили ему в это время подарки. В законах королевства нет положения, которое бы запрещало лорду-канцлеру принимать подарки. Он может привести доказательства в подтверждение своей правоты… а, кстати, может ли? Всплывали все новые имена, появлялись все новые обвинители, была создана комиссия для принятия показаний у этих обвинителей под присягой, и наконец-то лорд-канцлер начал прозревать: он попал в беду, в большую беду. Теперь уж не «тяжесть в голове и спутанность мыслей», не «меланхолия и разбитость» уложили его в постель – от поразившего его удара он серьезно заболел.
Лорд-канцлер слег в Йорк-Хаусе, к нему призвали докторов, и несколько дней ему казалось, что он умирает. Случилось это на Страстной неделе, и обе палаты решили, что уйдут на пасхальные каникулы 27 марта, однако будут во время каникул продолжать расследование. Это давало заболевшему лорду-канцлеру три недели для подготовки своей защиты, что не так уж много, если учесть, что он не знает, где и как он нарушил закон и кто его многочисленные обвинители. Имена, подробности обстоятельств, суммы, о которых идет речь, – его секретари должны все проверить, чтобы он потом внимательно все изучил. Двадцать четвертого марта, в годовщину восшествия короля Якова на престол, Фрэнсис оправился настолько, что смог сесть в постели и написать его величеству письмо.
«Было время, когда я приносил Вашему Величеству gemitum columbae [36]36
Слезы голубки (лат.).
[Закрыть]других. Сейчас я сам устремляюсь к Вашему Величеству на голубиных крыльях, которые, как мне казалось всю эту неделю, унесут меня еще выше. Я никогда ни у кого ничего не вымогал. Никогда не проявлял ни в речи, ни в поведении своем высокомерия по отношению к людям, равно как нетерпимости и злобы. Неспособность к злобе я унаследовал от моего отца, я родился с любовью к своей стране…В палате общин я заложил фундамент своего доброго имени, теперь она его похоронит… Верхняя палата все эти годы вплоть до печальных событий последних дней, как мне кажется, любила и почитала меня, видя во мне прямодушие, которое лорды считали истинным проявлением благородства, чуждого лукавству и корысти.
Меня обвиняют в том, что я брал взятки и подношения, но когда откроют книгу сердец, то, я надеюсь, в моей груди не найдут грязного источника пороков, которые побуждали бы меня к преступному обыкновению брать вознаграждения за злоумышленное использование законов во вред противной стороне; притом что я тоже способен поддаваться слабости и греховным веяниям времени. И потому я решил, что когда я буду призван к ответу, я не поставлю под сомнение свою невиновность придирками к вопросам или отрицаниями, я буду говорить с ними (с лордами) тем языком, каким говорит со мной мое сердце, объясняя, находя смягчающие обстоятельства и искренне признаваясь; и моля Господа, чтобы он в своей милости позволил мне увидеть дно моего падения, а моему сердцу не ожесточиться и не считать, что моя совесть более чиста, чем это есть на самом деле».
На Пасху Фрэнсис уехал в Горэмбери, он был еще очень слаб, но не столько от болезни, сколько от сильнейшего нервного истощения, потому что после столь неожиданной перемены судьбы он, как и все люди с тонкой душевной организацией, стал думать о близкой смерти; она представлялась ему настолько близкой, что 10 апреля он второпях составил завещание, в котором поручал свою душу «Господу Всевышнему, Спасителю, принесшему себя в жертву во имя искупления наших грехов. Мое тело похоронить скромно. Мое имя завещаю грядущим векам и иным странам.
Поручаю моему слуге Харрису передать мои неопубликованные сочинения, а также отрывки из них моему брату Констеблу, чтобы он, если рассудит, что они достойны опубликования, так с ними соответственно и поступил. Особенно я желаю, чтобы была опубликована элегия, которую я написал „In felicem memoriam Reginae Elizabethae“. Моему брату Констеблу я завещаю все мои книги; а моему слуге Харрису за его службу и попечение 50 золотых монет в кошельке».
Все свои земли, договоры об аренде, все личное движимое имущество он поручал своим душеприказчикам для уплаты своих долгов, а после смерти жены – которой он оставлял шкатулку с перстнями, – он желал, чтобы Горэмбери и Верулам-Хаус были в первую очередь предложены принцу.
И отложил документ в сторону. Настроение у него было такое, что хотелось освободиться от всего земного, забыть обо всем, что он когда-либо создал, о чем думал, что делал. В своем отчаянии он чувствовал, что единственный, к кому он может сейчас обратиться, – это Бог, Создатель, Искупитель и Утешитель, как испокон веков казалось и будет казаться многим религиозным людям; и молитва, которую он в те дни написал, ясно показывает, каким он представлялся самому себе – грешник, конечно, но не ведающий злого умысла, жестокости и коварства. Полный смирения, да, но гордящийся талантами, которыми Бог его одарил: «Вспомни, о Господи, как твой раб ходил перед тобой, вспомни, чего всегда искал я и что было превыше всего в моих помышлениях…» (Он взывает к Всевышнему с просьбой напрячь свою память так, будто хочет напомнить судье какие-то обстоятельства рассматриваемого дела.)
«Не было для меня ничего важнее, чем положение и хлеб насущный бедных и униженных; я всегда ненавидел жестокость и черствость сердца; творил благо для человечества, хоть и в презираемом обличье. (О чем он говорит – о мантии адвоката или о маске писателя?) Если у меня были враги, я не думал о них; никогда не зашло солнце во гневе моем; я был незлобив, как голубь, и чужд недобрых умышлений… Тысяча – число грехов моих, и десять тысяч – число моих прегрешений, но Твое священное присутствие всегда со мной, и сердце мое Твоей милостью горит неугасимым огнем на Твоем алтаре…
Признаюсь Тебе, что я Твой должник за щедрые дары талантов и достоинств, которые я не завернул в платок, как третий раб [37]37
Евангелие от Луки, гл. 19, 20.
[Закрыть], но и не преумножил, как было бы должно, а расточил на вещи, к которым был менее всего способен; и потому я истинно могу сказать, что душа моя неведомая пришелица на путях странствий моих».
Он не склонял головы, не бил себя в грудь, не сгибал коленей, его молитва звучит почти как вызов. Может быть, Фрэнсис представлял себя Прометеем, который вылепил людей из глины и украл для них с неба огонь, а его приковали к скале, и орел будет терзать его печень, покуда Геракл его не освободит?..
А теперь ему необходимо просмотреть другие дела по обвинению во мздоимстве и продажности и понять, похожи ли они хоть сколько-нибудь на то, в чем его готовятся обвинить, а после этого попросить, обратившись к его величеству, полный и подробнейший список предъявляемых ему обвинений, ведь если их так много, он, возможно, мог что-то и забыть, тем более что некоторые из обвинений выдвинуты, как говорят, в отношении дел многолетней давности. Его величество дал Фрэнсису аудиенцию, и хотя беседовал с ним любезно, посоветовал лорду-канцлеру обратиться в палату лордов. Его делом занимаются они, он не имеет права вмешиваться.