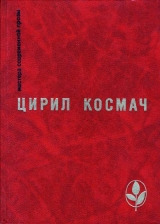
Текст книги "Смерть великана Матица"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
III
Летнее утро уже разлилось по всей долине, когда Матиц проснулся на сеновале у Пленшкара. Спал он долго и спокойно. С удовольствием извлек из сена свое великанье тело и встал на ноги. Вышел на порог и потянулся, чтобы размять мускулы, которые – хотя и отдохнули – все еще ныли от таскания тяжелых камней. Хорошенько потянувшись, он развел руки, воскликнул: «Хо-ооо-ой!» – и выскочил на траву. Смахнул с носа попавшую каплю росы и полез под рубашку почесать спину, но, не дотянувшись рукой до того места, которое чесалось, подошел к яблоне, уперся пятками в землю и так сильно потер спину о шероховатый ствол яблони, что с дерева щедро посыпались на него капли росы. Это ему понравилось, он засмеялся и с благодарностью посмотрел вверх, на зеленые ветки. Моргая, некоторое время он глядел на них своими огромными влажными мутными глазами, потом еще почесался о ствол, и его опять осыпали капли обильной росы. Довольно усмехнувшись, вытер лицо и бросил взгляд на долину, чтобы определить время. Предрассветный туман рассеялся, небо было ясным. Крн пылал в лучах раннего солнца. Матиц снова довольно усмехнулся. Потом выпрямился и с поднятым пальцем строго повторил наказ Хотейца:
– «И каждое утро приводи себя в порядок! Понимаешь?» Понимаешь… – смиренно кивнул он и направился к реке. Пробрался сквозь густые заросли ольхи, забрел в воду. Остановился в нескольких шагах от берега и посмотрел на волнующуюся гладь воды. В ней он увидел неясное отражение своего лица, которое становилось то уже, то шире, словно слезы сменялись смехом, а смех слезами. Он улыбнулся, потому что никогда не плакал, наклонился и начал пригоршнями бросать воду себе в лицо. Хорошенько умывшись, он распрямился, поднял палец и сосредоточенно повторил свой вчерашний разговор с Темникарицей.
– «Завтра сходи к Лопутнику, пусть он тебя побреет», – строго произнес он слова Темникарицы. – К Лопутнику, пусть он тебя побреет, – повторил он, и чувство удовольствия охватило его при мысли о том, как приятно пощекочет его Лопутник твердой кисточкой для бритья. Но он тут же посерьезнел и строго продолжал:
– «И только потом пойдешь к Тилчке за подсолнухом». Потом к Тилчке за подсолнухом… – повторил он и в замешательстве посмотрел перед собой.
– «Есть будешь в Лазнах!»
– Есть в Лазнах…
– «А строгать на повороте к Лазнам!»
– На повороте к Лазнам…
Он с облегчением вздохнул, потому что представил свой будущий день, который был так же ясен, как небо над головой: там, наверху, ни облачка, здесь, внизу, – ни одной заботы до самого вечернего мрака, который от него еще за тридевять земель.
Матиц опять вытер мокрые усы и весело направился к противоположному берегу. Посреди реки он остановился, чтобы еще раз оглядеть долину, то есть издали взглянуть на мир. Это была давнишняя привычка, поскольку вода по его ощущению не являлась частью мира, который был твердым и неподвижным, вода была вне этого мира и далеко от него, так же, как небо; разница заключалась в том, что Матиц мог легко войти в воду, а в небо, где так беззаботно летали птицы, он подняться не мог. Поэтому он любил остановиться посреди реки, в текущей воде, и оттуда, издали, посмотреть на мир, на свою долину, которая напоминала великанью зеленую колыбель, прикрытую синим сводом прозрачного неба.
Вот и сейчас он неторопливо повернулся, огляделся вокруг и прислушался. Все было зеленым, умытым, спокойным и тихим. Птицы уже перестали петь, для них этот час был поздним, ниоткуда не доносилось ни единого голоса живого существа, только одинокий орел, начавший свой размашистый круг от Вранека и словно невидимой нитью привязанный к вершине скалы, изредка клекотал сердито и пронзительно. В этом конце долины всегда царила тишина, но сегодня она была настолько полной, что Матиц, вытянув шею, потянул носом воздух и прислушался, как животное, почувствовавшее опасность. И вздрогнул, как будто сама смерть прошмыгнула мимо.
Он постоял неподвижно, потом еще раз медленно повернулся и своим влажным, мутным взглядом окинул луга, склоны гор, их вершины и небо. Нигде не было ничего необычного. Солнце уже встало. Прикатилось из-за горы и лежало на Глубоком перевале, отдыхая перед тем, как подняться на небо. Молодой и резкий свет разделил долину на две половины: солнечную и теневую. Граница тени почти прямой чертой проходила по Модриянову лугу. Матиц перешел реку вброд, дошел до границы тени и зашагал по ней. Точнее, шел он по солнечной стороне, возле самой тени и покачивался, как будто шел по краю пропасти. Сильными босыми ногами он ступал по росистой траве, доходившей ему до колен, трава была такой густой, что приходилось наклоняться вперед, будто шел по воде. Трава созрела, и ее уже давно надо было скосить, но Модриян, который был на стороне врага, не мог найти косцов, потому что партизаны пригрозили: покосят всех огнем из автоматов, если кто покажется на лугу.
Матиц дошагал до Тихой лужи и вдруг услышал гудение самолета. Поднял голову – самолет уже прямо над ним. Он летел так низко, что Матиц со страху бросился на землю, от сильного порыва ветра взволновалась трава. Когда Матиц поднялся, самолета и след простыл. Может, это был призрак. Он почесал в затылке и снова вздрогнул, как будто смерть прошмыгнула мимо него.
И опять он стоял неподвижно до тех пор, пока не увидел партизан, спускавшихся по склону горы. Они перебежали через дорогу и прямиком к реке.
– Хо-ооо-хой! – радостно закричал Матиц и замахал обеими руками.
Однако партизаны не остановились, не засмеялись громко и весело, не помахали ему винтовками и не подождали, чтобы поговорить с ним о его палке и о его возлюбленной.
«Темникарица сказала им, что я испакостил молоко!» – осенило Матица. Он стоял как вкопанный и смотрел вслед партизанам, которые торопливо шагали по высокой траве, один за другим исчезая в серо-зеленом ивняке. Он услышал, как они зашлепали по воде, выходит, вошли в реку обутыми. У Матица отлегло от сердца, он понял, что Темникарица и в самом деле не сказала им про молоко, зато в следующее же мгновение он испугался, поняв, что теперь в село придут фашисты. Сникнув, он побрел вперед, потому что в его подсознании словно на камне был выбит приказ: он должен пойти к Лопутнику, к Тилчке, в Лазны, а потом к повороту дороги, где будет сидеть весь день.
Не доходя до села, Матиц встретил четырех крестьян, которые гнали коров и телят – каждый своих; гнали они их в соседнее село, находившееся на освобожденной территории, куда вражеская сволочь вряд ли сунется.
– Матиц, пойдем с нами! Помоги гнать скотину, – прохрипел Устинар, нелепо тянувший упиравшегося крупного теленка за веревку и за хвост.
– Я к Лопутнику иду, он меня побреет, – ответил Матиц.
– Смотри, как бы тебя фашисты не побрили. – сердито бросил Устинар, понимая, что уговаривать Матица все равно напрасный труд.
Матиц только заморгал своими огромными мутными глазами и зашагал дальше. Лопутника он застал перед домом. Веселый, любивший пошутить человек сегодня был мрачнее тучи. С презрением разглядывал он свою низкорослую супружницу, которая в неуверенности топталась на пороге, вытирала слезящиеся от дыма – он валил из кухни – глаза и причитала:
– Ты мне все-таки скажи, выпускать кур или оставить в курятнике?
– Дура! – обозлился Лопутник. – Ты их прирежь да опали, чтобы все было готово. Когда придут, тебе только спросить: «Каких желаете – вареных или жареных?»
– Ох, Лука, – в отчаянии вздохнула жена и воздела глаза к небу. – Неужели ты не можешь говорить серьезно? Ведь это не шутка. Ты мне скажи, выпустить их или оставить в курятнике?
Теперь Лопутник воздел к небу глаза, и не только глаза, но и руки, и воскликнул:
– Приди, святой дух! – А потом взорвался – Я же тебе говорю, выпусти! По крайней мере эти сволочи за ними побегают! А может, какая спрячется, чтоб куриное племя в хозяйстве не перевелось.
– Значит, ты считаешь – выпустить? – спросила жена, не двинувшись с места.
– Знаешь что, – Лопутник искоса посмотрел на свою половину, – ты спроси у них. Куры как-никак поумнее тебя, они сообразят, что лучше.
– Ох, Лука, тебе бы только дурака валять! – вздохнула Лопутница, покачала головой, дивясь легкомыслию мужа, и поковыляла за угол, к курам.
– Насчет дурака баба и впрямь в точку попала, – хмыкнул Лопутник, увидев Матица.
– В точку попала… – повторил Матиц и ухмыльнулся.
– Зато ты не попал! Сегодня мне не до дураков! – твердо сказал Лопутник и исчез в доме.
Матиц неслышно вошел за ним и застыл посреди горницы. Лопутник рылся в ящиках стола и на полках; собрал пачку бумаг, свернул их и засунул в старый сапог, который швырнул в кучу обуви, приготовленной для починки. Матиц по-прежнему стоял истуканом. Лопутник знал: он не сдвинется с места, пока его не побреют. Поэтому, еще раз осмотрев ящик стола и полки, Лопутник, не говоря ни слова, пихнул Матица на треножник и прикрыл засаленным фартуком, в котором чинил обувь. Прежде чем приступить к бритью, он заглянул в стенные часы и за все картины, висевшие на стенах. При этом был настолько озабоченным и углубленным в свои мысли, что Матиц лишь испуганно моргал огромными мутными глазами. В конце концов Лопутник перестал рыскать по комнате и взялся за кисточку. Однако не успел он и двух раз провести ею по куску мыла, как снова приложил палец ко лбу; схватив сапожный нож, подскочил к печи, отодвинул одну из плиток, которыми она была облицована, и заглянул, нет ли там чего. С облегчением вздохнул и вернулся к Матицу. Он долго намыливал его, покачивая головой, пожимая плечами и что-то бормоча.
– Эх, всякое может случиться! – вдруг сердито фыркнул он, словно споря с кем-то.
– Всякое может случиться… – как эхо повторил Матиц, от прикосновения кисточки совсем разомлевший.
– Всякое, всякое, – задумчиво подтвердил Лопутник. – Только тебе нечего беспокоиться, – махнул он рукой. А поскольку привычка шутить не оставила его и сейчас, добавил с горькой усмешкой: – Ну, если, скажем, с тобой что-нибудь случится, ты по крайней мере отправишься на небеса чисто выбритым.
– Я не отправлюсь на небеса, – тут же возразил Матиц.
– А куда? – усмехнулся Лопутник.
– К Кокошару, – ответил Матиц.
– К Кокошару? Зачем?
– За подсолнухом.
– За каким еще подсолнухом?
– Тилчка сказала, что даст мне подсолнух, – в замешательстве пояснил Матиц и принялся постукивать босыми пятками по полу.
– Тилчка? – выпрямился Лопутник и на мгновение задумался. – Знаешь что, Матиц, давай поспешим, чтобы ты застал Тилчку дома. И если она еще будет дома, ты ей скажешь, пусть сразу же уходит.
– Куда уходит? – вопрошающе заморгал Матиц.
– Ты только повтори: «Тилчка, Лопутник сказал: „Исчезни!“».
– «Тилчка, Лопутник сказал: „Исчезни!“» – повторил Матиц и поднял палец, чтобы хорошенько запомнить сказанное.
– Только не задерживайся в селе! – наказал Лопутник, выпроваживая уже побритого Матица из дома. – Иди прямо к Тилчке.
– Прямо к Тилчке! – повторил Матиц, поднял палец и быстро зашагал к селу.
Он перешел через мост, но почему-то сегодня на мосту не было ребятишек, которые обычно бежали за ним и спрашивали, с какого конца палка толстовата. Над дорогой сверкало яркое утреннее солнце. На повороте, неподалеку от усадьбы Устинара, ветер взметал пыль, отчего казалось, словно приближается ненастье. В селе было тихо и пусто. Только на широкой площади перед трактиром стояли Модриян и священник. Модриян снимал дорожную сумку с велосипеда священника – у того был велосипед с моторчиком, – а сам священник вылезал из своего серого плаща, как огромный черный жук из личинки.
– Куда это ты так торопишься, Матиц? – спросил священник и поднял короткую толстую руку, останавливая его.
Матиц остановился, но ничего не ответил. Модриян а он не любил, священника боялся, кроме того, несмотря на свое слабоумие, он замечал, что последнее время люди сторонятся обоих. Священник и Модриян переглянулись, как будто говоря, мол, и это «дитя божье» против нас. Тут в небе затрещало и загудело. Матиц поднял голову и посмотрел наверх: над дорогой пронесся огромный самолет, тот самый самолет с двумя парами крыльев, который утром промелькнул над Модрияновым лугом. Модриян и священник опять переглянулись и усмехнулись, Матиц же вздрогнул, будто мимо прошмыгнула смерть.
– Иди, Матиц, да пребудет с тобой господь! – сказал священник и взмахнул толстой рукой.
Матиц с облегчением вздохнул, торопливо завернул за угол и спустился к дому Жужельца. Жужельчевка, изо всех сил тащившая упрямого теленка из сумрачного хлева-развалюхи, обрадовалась его появлению.
– Матиц, помоги, – попросила она, с трудом переводя дыхание.
Матиц одним рывком вытащил теленка за порог.
– Ох, Матиц, возьми теленка с собой, – взмолилась измученная женщина. – А вечером, когда фашисты уйдут, пригонишь его обратно.
Матиц остановился, поморгал, потом медленно сказал:
– Я к Тилчке иду. За подсолнухом.
– Ох ты, горюшко-горе! – воскликнула Жужельчевка и запустила мозолистые руки в кудлатую гриву своих жестких медно-красных волос. – Вся сволочь валит в село – и белая, и черная, а ты направился за подсолнухом!..
– Темникарица сказала… – заморгал Матиц, оправдываясь.
– Ну конечно! – всплеснула руками отчаявшаяся женщина. Перекинув веревку через плечо, она потянула упрямого теленка к реке.
Матиц направился к Кокошаревым. Уже в саду он услышал сердитое карканье Кокошарицы, поэтому не решился войти в дом, спрятался за стогом и оттуда обозревал двор. Вскоре двери распахнулись и на пороге показалась Тилчка; она была в брюках, на ногах – тяжелые башмаки, на плече – скатанное одеяло, за спиной – рюкзак. Кокошарица тоже выскочила на порог и закричала угрожающе и вместе с тем просительно:
– Последний раз тебе говорю: останься!
– А я в последний раз тебе говорю: нет! – спокойно, но твердо ответила Тилчка и направилась к дороге мимо стога.
Кокошарица ринулась за нею. Услышав ее тяжелые шаги, Тилчка обернулась и выпрямилась, предостерегающе подняв руку, посмотрела на мать своими синими глазами. Кокошарица покачнулась, остановилась и застыла, не в силах оторвать ноги от земли. От злости, страха и удивления она широко открыла глаза, попыталась что-то сказать, однако дочь резким и повелительным движением руки остановила ее, и мать снова окаменела. Так они и стояли несколько томительных секунд. Потом Тилчка, не спуская глаз с матери, медленно опустила руку, медленно повернулась и торопливо, не оглядываясь, пошла по дороге.
Матиц тоже стоял неподвижно. Когда Тилчка поравнялась со стогом, он очнулся и вышел на дорогу. Тилчка вскрикнула и инстинктивно отшатнулась – и в тот же миг узнала великана.
– Матиц! – в испуге воскликнула она. – Что ты тут делаешь?
– Я за подсолнухом пришел, – протянул он и в замешательстве заморгал огромными мутными глазами.
– За подсолнухом? – удивилась Тилчка и сосредоточенно наморщила лоб. Потом улыбнулась. – Верно, – приветливо сказала она, – я обещала тебе подсолнух.
– Обещала… – повторил Матиц и поковырял пяткой землю.
– Дай мне нож! – попросила она. Подошла к палисаднику, где возле ограды росло несколько подсолнухов, срезала самый большой из них и заткнула Матицу за рубашку. Она разгладила еще мокрые от росы лепестки, и золотисто-желтый подсолнух, как настоящее солнце, вспыхнул на загорелой груди Матица. – Этот цветок я тебе дарю, – сказала она, поднялась на цыпочки и потрепала его по щеке. – Если ты его потеряешь, я рассержусь на тебя.
– Не потеряю… – пообещал Матиц – бог знает по каким непостижимым законам чувства, – отошел в сторону, чтобы не загораживать Тилчке дорогу.
Она улыбнулась ему, кивнула и пошла вперед. Сделав шага три, оглянулась, помахала рукой и сказала:
– Прощай, Матиц!..
Матица охватило странное ощущение – он слова не мог вымолвить, только голос Тилчки привел в движение его гигантское тело. Он вздохнул и зашагал вслед за ней. Голову он держал высоко поднятой, чтобы подбородком не задевать подсолнух, пылавший у него на груди; без слов поспешал он за Тилчкой, которая, словно серна, неслась по дороге. Его шагов она не слышала, зато услышала его тяжелое дыхание, поэтому оглянулась и спросила:
– А ты куда идешь?
– В Лазны… – протянул он.
– Ага! Тебя там накормят?
– Накормят…
– Ага! – кивнула она и свернула с дороги. Росистая отава с шумом ударялась о босые ноги Матица.
В Лазнах они остановились.
– Ну, Матиц, теперь в самом деле прощай! – сказала Тилчка и пожала ему руку.
Матиц не ответил на пожатие, он испуганно заморгал, спрятал руки за спину и даже попятился от нее.
– Ох ты, горюшко горькое, – засмеялась Тилчка. – Ведь это не ты ко мне притронешься, а я к тебе!
– Я к тебе, – удивленно повторил он, облегченно вздохнул и протянул руку.
– Вот! – сказала Тилчка и еще раз пожала ее.
Матиц стоял с протянутой рукой и не двигаясь смотрел, как Тилчка поднималась в гору. Внезапно его охватил озноб. Широко открыв глаза и рот, он лихорадочно глотал воздух. Это длилось довольно долго, наконец он позвал.
– Тилчка!..
В его голосе явственно звучал страх, и Тилчка сразу оглянулась.
– Что случилось, Матиц? – встревоженно спросила она.
Матиц выпрямился, поднял палец и очень медленно выдавил из себя:
– Тилчка, Лопутник сказал: «Исчезни!»
Она наморщила лоб и серьезно спросила:
– Когда он это сказал?
– Сегодня утром.
– Ага! – кивнула она и задумалась.
– Ты сердишься?.. – спросил Матиц и испуганно заморгал.
– А почему я должна сердиться? – удивилась Тилчка.
– За то, что я забыл про Лопутника… – полным раскаяния голосом пояснил Матиц и опустил только глаза, из-за подсолнуха он не мог опустить головы.
– О, Матиц, Матиц, – засмеялась Тилчка. – Ведь ты же видишь, что я ухожу! Видишь? – спросила она и хлопнула рукой по одеялу, а затем по рюкзаку.
– Видишь… – выдохнул Матиц и кивнул.
– Вот и скажи Лопутнику, что я ушла.
– Ушла, – повторил Матиц.
– И если вернусь, то вернусь с партизанами.
– С партизанами… – выпрямился Матиц и поморгал своими огромными мутными глазами.
– Правильно, а теперь еще раз: прощай! Нет, не прощай, а до свидания, – сказала она решительно и помахала ему рукой.
Матиц стоял неподвижно и смотрел ей вслед, пока Лазнар не толкнул его в спину и не заорал сердито:
– С дороги, колода!
Матиц только теперь увидел, что вокруг царит страшная суматоха. Обитатели усадьбы тащили куда-то мешки и корзины, чаны и кадки и при этом переругивались друг с другом. Матиц всем мешал, поэтому он сел за каменный стол под навесом, увитым виноградом.
Там он и сидел, прямой, с горящим на груди подсолнухом, похожий на вождя племени, свысока наблюдающего за стараниями подданных. Когда суета немного улеглась, из дома вышли Лазнарица и служанка. У Лазнарицы в руках была кропильница и оливковая ветка, у служанки – старая сковорода с длинной ручкой, в которой на раскаленных углях тлели листья оливы. Они двинулись по проселку в сторону дороги, кадили и кропили святой водой путь окрест себя.
Лазнар вышел из хлева и остановился как вкопанный. Сорвав с головы шляпу, со злостью бросил ее на землю и заорал во весь голос:
– Дура баба, ты что, с ума сходишь?
Лазарнице было неловко, что муж застал ее за таким занятием, поскольку она старательно скрывала от него свою набожность.
– Ох, Томаж, а ты отвернись! – сказала она, не глядя на него. – Хочу покадить и покропить вокруг, чтобы дьяволы к нам не явились!
– Дура! – презрительно рявкнул Лазнар, известный своим свободомыслием. – Сам папа римский и покадил, и покропил их именно для того, чтобы они явились. Если мне не веришь, сходи к священнику, попроси его покадить. Думаешь, он согласится?!
Лазнарица смотрела на него во все глаза и медленно качала головой.
– Ну! – развел руками Лазнар. Подобрал шляпу, стукнул ею о колено, стряхивая пыль, и задумчиво сказал – У бери-ка свое барахло. Покадишь после их ухода, если они сами не покадят…
– Как это сами покадят? – удивленно спросила жена.
– Как? Как в Рупах!..
– Иисусе! – ужаснулась Лазнарица и посмотрела на противоположный склон, где на просторном зеленом уступе торчали закопченные стены Рупаровой усадьбы.
– Оставь Иисуса в покое, лучше дай человеку поесть! – резко сказал Лазнар и показал на Матица, который все еще сидел за каменным столом и удивленно моргал огромными мутными глазами.
Женщины скрылись в доме. Вскоре служанка вернулась с большой миской поленты и поставила ее перед Матицем.
– Ого! – удивилась она и уперла руки в боки. – Матиц, вот это цветок!
Матиц с гордостью усмехнулся и принялся за еду. Есть ему, однако, было очень неудобно – из-за подсолнуха он не мог наклониться к миске.
– Матиц, так дело не пойдет! – засмеялась служанка и вытянула подсолнух из-под рубашки.
– Мне Тилчка дала… – испуганно захрипел Матиц и протянул руку за подсолнухом.
– Да не съем я его! – сказала служанка и положила подсолнух на стол. – Когда поешь, позови меня, я снова положу его на место.
Матиц умял поленту и сам засунул подсолнух за рубашку.
– Куда теперь пойдешь? – спросил Лазнар, который беспокойно крутился возле дома.
– Буду сидеть на повороте, – сказал Матиц и указал рукой на дорогу, извивавшуюся по склону.
– Ага! – безучастно пробормотал Лазнар. – На нашем повороте, – повторил он и вдруг заинтересовался этой мыслью. – Правильно, правильно, – кивнул он. – Ты сиди, Матиц, сиди! Весь день сиди!.. И если они придут… если придут… ну, если придут… я хочу сказать, ты тоже приди, если захочешь пить, напьешься молока…
– Напьешься молока… – повторил Матиц и пошел прочь, высоко держа голову. У первого же куста он срезал ореховую палку и направился к повороту. Там он вскарабкался на стену, на тот самый камень, на котором уже столько раз сидел. Спустил ноги, ободрал ножом палку, вытащил из кармана кусок стекла и начал строгать. Строгал, бил пятками по стене и иногда бросал взгляд на долину. Видел красные крыши, голубоватый дым, который клубился над трубами, видел реку, широким водопадом шумно перекатывавшуюся через плотину и мирно разливавшуюся по ровной глади под мостом. В деревне стояла тишина, какой еще никогда не было. Не слышно было человеческого голоса, только иногда лаял пес или кукарекал петух.
Солнце поднималось все выше: Матиц строгал и строгал, быстрее и быстрее колотил ногами, как будто хотел сдвинуть стену с места и уплыть на ней в долину. Он рассматривал свою палку, пытаясь определить, с какого конца она все еще толстовата, сморкался, чесал в своей густой гриве. И при каждом его движении солнечные лучи отражались от стеклышка, зажатого в руке, и казались молниями.
Сострогав первую палку до сердцевины, он отбросил ее в сторону, подошел к кусту и отрезал новую. И тут он услышал гудение. Посмотрел на небо, но там не было ничего, кроме ясной синевы. Посмотрел на белую дорогу, которая выходила из села. Увидел три грузовика, медленно выползавшие из-за Хлиповой усадьбы, словно бы прямо из Хлипового хлева.
– Едут! – всполошился Матиц и вскочил на стену. В этот момент, так же неожиданно, как утром на лугу и позже перед трактиром Модрияна, загудел уже знакомый ему самолет с двумя парами крыльев. Он летел совсем низко, и Матиц отчетливо увидел сидящих в нем двух человек. Он хотел броситься на землю, но не бросился, а, наоборот, бог весть почему – может, из-за подсолнуха, – еще больше выпрямился. Самолет был совсем рядом с ним и уже начал удаляться от него – и Матиц вздрогнул, как будто смерть прошмыгнула мимо… Но она не прошмыгнула. Матиц ясно видел, как из самолета вырвался огонь, и в ту же секунду незнакомый вихрь налетел на него и столкнул со стены.
Когда Матиц пришел в себя и открыл глаза, он увидел, что вокруг него все желтое. Он удивленно заморгал, и прошло немало времени, прежде чем он понял, что лежит навзничь среди зрелой пшеницы на поле Лазнара. Он не вспомнил и даже не задал себе вопроса, как он оказался здесь, просто попытался встать. А сделав эту попытку, вскрикнул и остался лежать неподвижно – резкая боль полоснула все тело. Он заморгал, положил руку на грудь, потом начал ощупывать себя. Добравшись до живота, почувствовал влагу – и в тот же миг вся боль собралась именно там и обожгла его, словно на него высыпали котел горящих углей.
Матиц вспомнил огонь, вырвавшийся из самолета, и вздрогнул, словно смерть прошмыгнула мимо.
«Подстрелили…» – осенило его. Он открыл глаза, уперся локтями в землю, приподнял голову и посмотрел: в животе у него зияла огромная, почти в две пяди шириной, рана. Он затрясся, но не испугался.
– Кожа всегда сама зарастет… – пробормотал он, как частенько бормотал в своей жизни. Обеими руками он крепко обхватил живот, повернулся на бок и с усилием поднялся на колени. И тут он увидел лежащий рядом подсолнух.
«Если ты его потеряешь, я рассержусь»… – услышал он голос Тилчки. На коленях дополз до подсолнуха, подобрал его и сунул за рубашку. Потом поднял наполовину обструганную палку и зажал ее под мышкой. А теперь – на ноги! Глубоко вздохнул, стиснул зубы и рывком рванулся вверх. Вскрикнул, и закачался, и все-таки удержался на ногах. Медленно вышел с поля и прислонился к стволу старой груши.
Солнце уже заходило. Оно лежало на Марновом перевале и было каким-то раздувшимся, усталым и, пожалуй, даже кровавым. Матицу это показалось очень странным, и он долго моргал, глядя на солнце. Потом его мутный взгляд заскользил по склону. Остановился на доме Лопутника, которого больше не было: над обгоревшими стенами лениво поднимался беловатый дым. Матиц снова удивленно заморгал, но, сколько ни моргал, видел перед собой только четыре голые стены, к тому же невероятно низкие и узкие, сиротские. Матиц не вспомнил ни Лопутника, ни его жену, он вспомнил только кисточку для бритья.
– Кто же меня теперь строгать будет? – забеспокоился он. На этот вопрос он не нашел ответа, потому что ему помешал поросячий визг. Блуждающим взглядом он осмотрел деревню, взгляд задержался на доме Модрияна. Возле дома стояли те три грузовика, которые выползли из-за Хлиловой усадьбы. В одном были солдаты, они кричали и пили прямо из бутылок, во втором – телята и поросята, третий грузовик тоже был с солдатами, среди них Матиц увидел Лопутника, Лазнара, Руди Облазара и Жужельчевку, которая, запустив руки в свою медно-красную гриву, раскачивалась из стороны в сторону. Матиц пошире раскрыл глаза, возможно, собираясь задать себе вопрос, когда же они успели его обогнать, но не успел – автомобили дрогнули и поехали. Удивленным взглядом он следил за ними, пока те не исчезли за Хлиповой усадьбой.
Село снова ожило. Люди вышли на дорогу, ходили от дома к дому. Матиц пошевелился.
«К Хотейцу»… – осенило его. Он должен добраться до Хотейца, показать ему рану – ведь ничего подобного с ним не случалось. И на его лице, покрытом холодным потом страданий, появилось что-то похожее на горделивую улыбку. Он стиснул зубы, крепче обхватил живот руками, словно в люльку уложил, и начал очень медленно спускаться в долину. Первые шаги были очень мучительными, хотя изумление и гордость брали верх над болью.
Никогда еще дорога не была такой длинной; все-таки он пришел в деревню – и с ним пришло молчание. Он шел посередине дороги – как-никак с ним случилось нечто такое, что он должен идти посередине дороги. Шел медленно, выпрямившись. Широкими ступнями неслышно ступая по пыли, словно по муке. Под мышкой он сжимал палку, на груди горел подсолнух, горел, хотя уже и поникший. Пот ручьями стекал со лба, влажные глаза широко раскрыты, под обвислыми усами таилась странная улыбка, неподвижная, словно застывшая.
За Матицем на почтительном расстоянии молча шли ребятишки, потом – женщины, присоединились и мужчины, тоже в молчании. Никто не произносил ни звука, казалось, люди боялись, что первое же громкое слово свалит Матица на землю.
Хотеец стоял на пороге. В вечернем солнце приближающаяся толпа казалась ему скопищем черных теней.
Матиц остановился в двух шагах от него и молча уставился своими огромными мутными глазами. За его спиной полукругом выстроились ребятишки, женщины и мужчины. Все молчали. Именно это молчание и насторожило Хотейца.
– Матиц! – воскликнул он в полной тишине, бросился к нему и обхватил обеими руками, опасаясь, что Матиц вот-вот рухнет. Взглядом приказал мужчинам, чтобы те подошли и помогли ему отвести Матица в горницу.
– Ему на ровном нужно лежать, на ровном, – сказал Хотеец.
Мужчины сдвинули два стола, осторожно подняли Матица и положили навзничь. Хотеец взял с лежанки темно-красную подушку и подложил ему под голову.
– Что случилось, Матиц? – спросил он.
– Подстрелили… – выдохнул Матиц.
– Где?
– На повороте в Лазны…
– Как?
– С воздуха… Роплан… – объяснил Матиц и заморгал.
Мужики переглянулись и закивали головами. Потом подошли поближе и склонились над ним.
– Да ведь еще немного, и его бы напополам разрезало, – прошептал Устинар и покачал головой.
– Разрезало… – повторил Матиц. И, несмотря на боль, на губах у него снова заиграла легкая горделивая улыбка.
Мужчины отступили, мол, здесь ничем не поможешь.
Матиц пристально посмотрел на Хотейца и спокойно произнес:
– Кожа всегда зарастает…
– Всегда, Матиц, всегда, – подтвердил Хотеец и положил костлявую руку на его влажный лоб.
– Всегда, – забормотали мужики и пониже надвинули на глаза шляпы, все еще пятясь.
– Кожа не рубашка, – продолжал Матиц.
– Да, не рубашка, – поддакнул Хотеец.
– И не штаны…
– И не штаны!
– Кожа всегда годится…
– Всегда годится, всегда! – кивал Хотеец, костлявой рукой вытирая ему лоб.
Матиц усмехнулся, мол, мы-то с тобой знаем что к чему. И тут по всему его телу пробежала дрожь, он закрыл глаза и пронзительно застонал.
– Дайте ему водки, – посоветовал Робар.
– Водки? – захрипел Матиц, вдруг приподнялся на локтях и с ужасом посмотрел на Хотейца. Как же так? Ведь тот говорил, что ему ни в коем случае нельзя пить водку.
– Ну-ну, Матиц! – успокоил его Хотеец, снова укладывая голову на подушку. – Теперь тебе можно пить водку. Теперь ты уже старый. Теперь ты умный. А водка хорошо помогает при больших ранах.
– При больших ранах… – повторил Матиц. Ужас пропал из его глаз, но все-таки он с недоверием следил за Хотейцем, наливавшим ему водку.
– Так, – сказал Хотеец. – Опрокинем по стаканчику.
Матиц не смог взять стакан, и Хотеец левой рукой придержал его обвислые усы, а правой влил в рот водку. В горле у Матица заклокотало, он закашлялся и схватился рукой за шею. Потом дернулся и приподнялся на локтях. Посмотрел на свою грудь, шире раскрыл глаза и отчаянно застонал:
– Потерял…
– Что потерял? – спросил Хотеец.
– Подсолнух… Тилчка рассердится… – выдохнул Матиц и испуганно заморгал своими огромными влажными глазами.
Хотеец вопросительно посмотрел на окружающих. Женщины тут же нашли подсолнух, расправили лепестки и положили на подушку рядом с головой Матица. Матиц успокоился и закрыл глаза.








