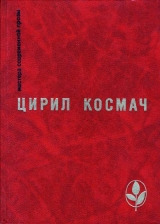
Текст книги "Смерть великана Матица"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)

Цирил Космач
СМЕРТЬ ВЕЛИКАНА МАТИЦА
Мы говорили о величии смерти в шедеврах мировой литературы. Я внимательно слушал и сам говорил с увлечением – и вдруг ощутил озноб, как будто сама смерть прошмыгнула мимо меня.
– Этот разговор задевает тебя за живое, – усмехнулся приятель.
Я тоже усмехнулся, а потом без слов махнул рукой. А вздрогнул я потому, что вспомнил, как умер Хотейчев Матиц, только мне показалось, что говорить об этой смерти не стоит. Я залпом выпил стакан вина, чтобы избавиться от побежавших по телу мурашек, зажег сигарету и снова прислушался к разговору. Я слушал с напряженным вниманием, и тем не менее не всегда воспринимал смысл сказанного, и вскоре улавливал лишь неясный шум, словно гул отдаленного водопада. Слова как будто проскакивали мимо моих ушей; я слышал их вполне отчетливо, но больше не понимал. Воспоминание о смерти Хотейчева Матица неудержимо ворвалось в меня и теперь с удивительной быстротой захватывало все силы моего восприятия. Я даже затряс головой, однако напрасно. Мысленно я уже видел просторную горницу в доме Хотейца, посреди горницы сдвинуто два голых стола, на столах – великанское, навзничь лежащее тело Матица; его голова покоилась на темно-красной подушке, рядом с ней большой, наполовину увядший подсолнух. В первое мгновение все было неподвижным, каким-то размытым и плоским, лишенным подлинной глубины, как на плохой, запылившейся старинной картине. Внезапно картина открылась вглубь, и все стало совершенно отчетливым: ожило, зашевелилось и медленно заскользило по направлению ко мне. Тело Матица росло и придвигалось ближе и ближе, и вдруг прямо передо мной оказалась темно-красная подушка с головой Матица и увядшим подсолнухом. Густые усы Матица мучительно вздрагивали от последних вздохов, по изборожденному морщинами лбу стекали прозрачные струйки пота, а большие голубые глаза были мокрые и мутные, такие же, какие были при жизни. Только сейчас эти глаза неподвижно смотрели на меня, смотрели с нечеловеческим усилием, словно хотели, преодолев врожденную неясность, внятно сказать мне, что Хотейчев Матиц и впрямь только Хотейчев Матиц, но при этом он страдает, умирая.
Я уже не старался отогнать от себя этот взгляд, потому что очень хорошо знал, что не смогу отогнать. Я выпил еще стакан вина, встал и начал прощаться.
– Куда ты? – удивленно спросили друзья.
– Ухожу, – я пожал плечами.
– Появилась идея? – поинтересовались они.
– Нет, идеи у меня нет, – усмехнулся я.
– А что же есть?
– Смерть.
– Великая смерть?
– Каждая смерть настолько велика, что по отношению к ней все наше словесное мастерство попросту ничтожно, – ответил я.
– Это тоже правда, – усмехнулись они и согласно закивали головами.
– Правда, правда, – вздохнул я и ушел.
Я отправился домой и по дороге решил во что бы то ни стало попытаться рассказать, как умер Хотейчев Матиц, наш большой младенец, наш великан Матия.
I
Хотейчев Матиц лежал навзничь на двух голых столах посреди просторной горницы в доме Хотейца; в его правой руке была свежевыструганная снежно-белая палка, в левой – большой наполовину увядший подсолнух. В изголовье уже несколько часов стоял старый Хотеец и держал свою костлявую руку на низком лбу Матица. Дом был полон людей. Все молчали, только трактирщик Модриян, затесавшийся к женщинам на кухню, охал:
– Люди божьи, давайте позовем священника, священника позовем!
Эти слова будто раскаленные иглы укололи Хотейца. Он порывисто выпрямил свое восьмидесятилетнее тело, быстро повернулся и шагнул на порог кухни.
– Андрейц, ты бы помолчал, – сказал он тихо, но так, что Модриян задрожал, как былинка на ветру.
– Е-е-ернеюшка! – заикаясь, тянул он и стал озираться на женщин. – Ернеюшка, да ведь я молчу, молчу. Только говорю…
– Тихо! – прошипел Хотеец и погрозил своим костлявым пальцем.
– Е-е-ернеюшка, да ведь я тихо. Только и говорю, что он умрет без последнего утешения.
– Тихо! – прохрипел Хотеец, и глаза его блеснули из-под белых бровей. – Ты же знаешь, что он был в церкви во время крещения и ни разу после. И точно так же ты знаешь, что молитва священника принесет ему не последнее утешение, а последний страх.
– Е-е-ернеюшка, что ты говоришь!..
– Тихо! Мои слова не твоя забота. И Матиц – тоже не твоя забота! Он будет спокойно строгать на небесах свои палки и смотреть, как ты жаришься в аду.
– Е-е-ернеюшка!..
– Тихо! Рядом со смертью все молчит, а ты и тут готов жульничать!
Модриян приподнял на цыпочки свое короткое тучное тело и почти закричал:
– Е-е-ернеюшка, смерть – это тебе не торговля!
– Да! – согласился Хотеец, который, выпрямившись, теменем касался поперечной балки. – Смерть – это тебе не торговля. Поэтому молчи и убирайся отсюда!
– Е-е-ернеюшка!..
– Хватит! Вон! – оборвал его Хотеец и указал костлявой рукой на дверь.
Модриян открыл рот, но не произнес ни слова; женщины расступились, они почувствовали, что ярость Хотейца дошла до предела, и дали Модрияну дорогу.
– Чего ты ждешь? – еле слышно прошептал Хотеец.
Модриян откатился к двери, там он остановился и еще раз подал голос:
– Е-е-ернеюшка, это будет на твоей совести!
– На моей! – подтвердил Хотеец. – Но спать я буду спокойнее, чем ты!
Модриян исчез в сенях. Хотеец собирался было вернуться к Матицу, и тут негромко запричитала Темникарица:
– Это я виновата!.. Я виновата… я послала его в деревню… Сказала, что его накормят в Лазнах… а палку выстругает на повороте к Лазнам…
Ее слова остановили Хотейца, он подошел к Темникарице и положил руку ей на плечо.
– Перестань, Анца! – сказал он сдержанно и вместе с тем повелительно. – Разве ты знала, что сегодня в деревню заявится эта чертова сволочь?
– Нет, не знала, – кивнула Темникарица и подняла на него заплаканные глаза.
– Значит, молчи! – снова скомандовал Хотеец. – Так ему было на роду написано.
– Так было на роду написано! – покорно вздохнула Темникарица и высморкалась в нижнюю юбку.
Накануне Хотейчев Матиц по своей привычке бросал камни, тешась силушкой, которая все еще не убывала в нем, хотя шло ему к пятидесяти. Занимался он этим почти всегда у Доминова обрыва, в получасе ходьбы от села, напротив одинокой усадьбы Темникара. Вот и вчера в летней полуденной тишине раздался его крик:
– Хо-ооо-хой!..
– Матиц! – завопили Темникаровы ребятишки и стремглав бросились из дому.
– Не подходите слишком близко! – закричала вслед мать, сбивавшая масло в сенях.
– Только до черешни! – пообещали ребятишки. Они промчались по саду и действительно остановились под черешней на откосе. Оттуда они хорошо видели Доминов обрыв, высокую скалу, которая отвесно поднималась из глубины реки ближе к тому берегу. На скале, широко расставив наги, возле груды камней, принесенных с песчаной отмели, стоял Матиц. Одни за другим он брал камни с земли, поднимал высоко над головой я с громким криком «Хо-ооо-хой!» кидал их в воду. Ребятишкл молча смотрели, как белые камни долго летели вдоль серой стены и потом с громким плеском падали в воду, откуда вздымались вверх, пенные брызги. Когда Матиц сбросил последний камень, ребятишки дружно закричали «Хо-ооо-хой?» и помчались к дому.
– Хо-ооо-хой! Он уже все сбросил? – доложили они. И принялись прыгать по сеням, изображая Матица, а мать пригрозила им:
– Вы у меня дождетесь! Погодите, чертенята, вот выстругает Матиц настоящую палку!..
– Хо-ооо-хой! Никогда он ее не выстругает! – радостным хором ответили ребятишки, которые знали историю о Матицевой палке.
– Выстругает! Выстругает! – качала головой Темникарица, процеживая пахту из маслобойки в десятилитровый горшок. – Вы не услышите и не увидите, как он придет. Матиц приходит нежданно-негаданно: сейчас его нет, а повернешься – он уже стоит посреди сеней и пьет молоко.
– Хо-ооо-хой, сегодня его не будет! – ответили ребятишки.
– Почему это не будет? Пить-то он захочет! Он всегда хочет пить. А молоко чует за километр.
Темникарица отнесла масло в погреб на холод, ребятишки побежали в кухню за ковшами, чтоб напиться пахтанья. И правда, когда они вернулись, посреди сеней стоял Матиц. Вначале они увидели его великанские ноги и широкие босые ступни; толстые большие пальцы торчали вверх, как два обточенных рога. Матиц действительно был великаном: головой он касался закопченного потолка. Обеими руками он держал десятилитровый горшок и пил с едва слышным приглушенным урчанием. Под мышкой у него была зажата белая палка.
– Матиц! – воскликнула Темникарица.
Матиц медленно и очень осторожно поставил горшок на ларь. Тыльной стороной руки вытер висячие усы, которые замочил в молоке. Потом склонил голову на плечо, поморгал огромными мутными глазами и низким голосом умоляюще пробормотал:
– Анца, я ведь только чуток попробовал.
– Попробовал! – Темникарица воздела руки к потолку. – Теперь можешь «пробовать» до дна. Все равно запакостил!
Матиц, упершись руками в колени, нагнулся и заглянул в горшок: в молоке расплывалась коричневая табачная слюна.
– Ну, теперь видишь? – спросила Темникарица.
– Вижу, – покаянно признался Матиц.
– И что скажешь?
– Да ведь табак полезный. Для здоровья полезный… – пробормотал Матиц.
– Я тебе покажу, какой он полезный… – пригрозила Темникарица и отвернулась, чтобы скрыть улыбку.
– Ты сердишься? – помолчав, спросил Матиц.
– Сержусь, – с деланной строгостью сказала Темникарица. – Да я-то что! Вот увидишь, как партизаны рассердятся.
– Почему? – Матиц широко открыл свои огромные глаза.
– Потому что молоко для партизан.
– Для партизан?
– Для партизан. Ты что думаешь, партизанам пить не хочется? А что я им скажу, когда они придут? А?
Матиц стоял неподвижно, словно гигантский пень. Он часто моргал и громко дышал; в широком и плоском носу у него свистело, густые усы подрагивали от могучего дыхания.
– Что я им скажу, а? – повторила Темникарица и развела руками. – Матиц испакостил вам молоко, так что ли?
Матиц пошевелился и медленно повторил свое единственное оправдание:
– Да ведь табак полезный. Очень полезный…
Темникарица фыркнула и замахала руками. Потом, вытерев лицо передником, показала Матицу на горшок и приказала:
– Пей!
– Пей! – громко повторил Матиц и поднял указательный палец, чтобы внушить себе этот приказ. Он схватил горшок, пошире расставил ноги и принялся пить. Ребятишки этому не очень удивились, потому что знали: Матиц ходит по домам в поисках молока, а выпить его может столько, сколько давно не поенная корова воды. И все-таки смотрели с уважением и изумлением. Матиц выпил больше половины. Наконец отнял горшок ото рта, набрал воздуха, глянул на Темникарицу и испуганно прохрипел:
– До дна пить?
– Эх ты, гора невинная! – воскликнула Темникарица, взяла у него из рук горшок и вылила остаток молока в корыто.
Матиц вытер мокрые усы, несколько раз громко вздохнул, шмыгнул носом и спросил низким голосом:
– Анца, ты еще сердишься?
– Да, – ответила Темникарица и поджала губы.
– И скажешь партизанам: Матиц испакостил вам молоко?
– Нет, партизанам я ничего не скажу.
– Ага! – с облегчением вздохнул Матиц.
– Не беспокойся!
– Не беспокойся, – повторил Матиц и вытащил из-под мышки свою палку.
– А правда, как у тебя дела с палкой? – приветливо спросила Темникарица. – Ты ее уже сделал?
– О, еще нет, еще нет! – покачал головой Матиц и протянул ей ореховую палку длиной не меньше метра и толщиной в палец. – Видишь, этот конец у нее толстоват.
– Тогда обстругай его.
– Обязательно обстругаю.
– Только поторопись, поторопись! – сказала Темникарица, которая уже рада была бы от него избавиться.
– Поторопись! – повторил Матиц и поднял палец, чтобы запомнить совет. Повернувшись на босых пятках, он неслышно шагнул к двери. Когда он, наклонившись, протискивал через двери свое крепкое тело, в сенях стало темно.
Матиц обогнул угол дома, ребятишки забежали в кухню и прижали носы к оконному стеклу, чтобы увидеть его еще раз, когда он пойдет по саду. Но Матиц по саду не пошел. Метрах в двадцати от дома крутой склон завершался высокой отвесной скалой. Матиц вскарабкался на нее, сел на край, спустил свои длинные ноги в пустоту и помахал ими, чтобы убедиться, что не заденет пятками стену. Потом он вытащил из кармана осколки стекла, выбрал кусок, который, очевидно, показался ему наиболее острым, положил палку на колени и принялся строгать, болтая ногами. Белые кудрявые стружки летели из-под рук, похожих на медвежьи лапы, сначала плавали в волнах легкого послеполуденного ветерка, а затем медленно опускались вдоль склона и ложились на зелень травы. Матиц усердно строгал, а его широкие ступни с вздернутыми большими пальцами равномерно двигались в воздухе, словно погоняя. И впрямь казалось, будто Матиц сидит не на скале, а медленно плывет по долине, взмахивая веслами. День был ясный и тихий. Вдалеке поднимался могучий, широкоплечий Крн. Однако Матиц казался более могучим: он закрывал гору своим туловищем, а его голова возвышалась над Крном и покачивалась прямо в синем небе. Временами эта великанья голова доставала до самых облаков. Ведь Матиц нет-нет да выпрямлялся, чтобы рассмотреть свою палку и определить, «с какого конца она все еще немного толстовата». Определив это, он потягивался. Медленно поднимал руки вверх, трижды ударял кулаками по воздуху, потом махал руками, как орел – крыльями. В левой руке белела палка, солнечный луч отражался от стеклышка, и чудилось, будто молния вспыхивала в пальцах правой руки. Он смотрел на небо и на вершины гор, потом сморкался и чесал в своей густой гриве. И при этих движениях луч солнца тоже отражался от стекла, и молния блеснула вначале у Матица под носом, а потом над его головой.
Вначале Темникаровы ребятишки смотрели на Матица из кухни. Понемногу они набрались храбрости, вышли из дома и придвигались все ближе и ближе. Наконец уселись в траве в нескольких шагах от него и молча наблюдали за тем, как он строгает. А он строгал и строгал, то один, то другой конец палки, пока палка не стала настолько тонкой, что сломалась у него в руках. Матиц ничуть не огорчился. Он закинул обломки в кусты, срезал новую палку, очистил с нее кору и опять принялся строгать осколком стекла.
Солнце заходило, и тень опускалась по склону в долину. Она дошла до Матица и окутала его, окутала долину, окутала реку и уже на другом берегу разливалась по широкому лугу Модрияна. Приближался вечер.
Из дома вышла Темникарица и исчезла в курятнике. Пересчитала кур, закрыла дверь. Повернувшись к скале, закричала:
– Матиц, тебе не пора спать?
– Спать! – загремел голос Матица. Он тут же спрятал стеклышко в карман, спустился со скалы и вышел на проселочную дорогу. Ребятишки провожали его.
– Ну, уже остругал? – спросила Темникарица и показала на палку.
– О, нет, еще нет, – покачал головой Матиц, вытащил палку из-под мышки и принялся объяснять: – Видишь, с этого конца она еще немножко толстая…
– Ладно, ты ее завтра обстругаешь, – успокоила Темникарица. – Придется тебе ее обстругать. Да ты разве не видишь, что она в крови? Ты снова порезался? Покажи руку!
Матиц медленно вытянул руку, широкая ладонь его вся была в крови.
– Это ничего, – пробормотал он. – Кожа всегда зарастает.
– Конечно, зарастает, – подтвердила Темникарица. – И все-таки не надо ее часто резать.
Матиц спрятал руку за спину, сунул палку под мышку и словно застыл.
Темникарица поняла, чего он ждет, и спросила:
– Ты уже знаешь, где будешь завтра есть?
– Еще не знаю, – ответил Матиц и наклонил голову к плечу.
– А где ты ел сегодня?
– У Юра, на Кобилнике.
– А Юр не сказал тебе, куда идти завтра?
– Не сказал, – покачал головой Матиц и уставился на Темникарицу, которая подперла подбородок рукой и задумалась.
– Пойди в Лазны! – сказала она, подумав.
– В Лазны! – повторил Матиц и поднял палец, чтобы запомнить приказание.
– Ведь тебе нравится ходить в Лазны? – спросила его Темникарица.
– Нравится, – согласился Матиц.
– Там и вправду красиво. Село как на ладони. И наешься до отвала.
– И наемся до отвала.
– А потом можешь весь день сидеть на повороте дороги и стругать свою палку.
– На повороте дороги, – повторил довольный Матиц и поднял палец.
– Правильно, а теперь иди, – сказала Темникарица и посмотрела на него так, словно хотела и взглядом отослать его прочь. Но не отослала, а наоборот, задержала. – Ух, какой ты! – ужаснулась она и скорчила гримасу. – Страшный, как медведь! И даже еще хуже! Щетина как у ежа.
– Как у ежа? – Матиц вытаращил глаза и почесал подбородок, который зарос редкой и длинной щетиной.
– Вот увидишь, – пригрозила Темникарица, – все девушки будут от тебя бегать.
– Бегать? – заморгал Матиц.
– Разумеется, бегать. А ведь ты на них все еще поглядываешь, правда? – спросила она.
– Все еще, – пробормотал Матиц, опустил голову и толстым тупым большим пальцем ноги стал переворачивать камешки на дороге.
Темникарица скрестила руки на груди, как будто приготовилась к долгому разговору, и спросила:
– А на какую ты сейчас посматриваешь?
Матиц поморгал влажными мутными глазами и ответил:
– На Кокошареву Тилчку.
– Ого! – с воодушевлением поддержала его Темникарица. – Ишь углядел! Кто бы мог подумать, что у тебя такой глаз. Тилчка на самом деле красивая!
– Красивая, – кивнул Матиц.
– И ты любишь на нее смотреть?
– Люблю, – признался Матиц и опять принялся переворачивать камешки.
– А что тебе говорила Тилчка?
– Ничего. Она даст мне цветок.
– Цветок?
– Подсолнух.
– Подсолнух? – всплеснула руками Темникарица. – Она даст тебе подсолнух?
– Подсолнух, – с гордостью подтвердил Матиц.
– А когда она его тебе даст?
Матиц смутился, поморгал, посмотрел в сторону и пробормотал:
– Она не сказала…
– А почему ты сам за ним не пойдешь? Подсолнухи уже цветут.
– Мать сердится, – сказал Матиц, словно оправдываясь.
– Вот дура! – пробормотала Темникарица себе под нос. – Матиц, а ты пойди за подсолнухом, если тебе Тилчка и правда обещала.
– Обещала, – кивнул Матиц.
– Тогда прямо завтра и пойди за ним!
– Пойти за ним? – спросил Матиц и почесал заросший подбородок.
– Пойди, пойди! – настаивала Темникарица. – Но вначале сходи к Лопугнику, пусть он тебя побреет!
– Вначале к Лопутнику, пусть он тебя побреет! – повторил Матиц и поднял палец, чтобы запомнить приказание.
– И только потом за подсолнухом!
– И только потом за подсолнухом!
– А потом в Лазны поесть!
– Потом в Лазны!
– Правильно, а сейчас спать! – решительно сказала Темникарица. – Где ты будешь спать?
– У Пленшкара на сеновале.
– Правильно. Только смотри не слишком храпи, – погрозила она пальцем.
– Не храпи? – испуганно заморгал Матиц. – Я не слышал, что храплю.
– Конечно, не слышал. А если бы слышал, то знал бы, что храпишь, как медведь. Так храпишь – того гляди сеновал обвалится.
– Сеновал обвалится? – Матиц вытаращил глаза и испуганно заморгал. – Ты думаешь, мне не надо ходить на сеновал?
– Ох ты, гора невинная! – усмехнулась Темникарица. – Иди, иди на сеновал! И храпи сколько душе угодно, божье дитя! А теперь – спокойной ночи!
– Спокойной ночи! – повторил Матиц, повернулся и зашагал к песчаной отмели.
Темникарица скрылась в доме, а ребятишки остались на дороге и смотрели вслед Матицу, который вошел в реку, перешел ее вброд и исчез в черных зарослях ольхи, а потом показался на Модрияновом лугу. Он стремительно шагал по отаве, как будто хотел догнать заходящее солнце. И он его догнал. Перешел через казенную дорогу и стал подниматься по свежескошенному лугу, который в лучах вечернего солнца казался пушистым мягким одеялом.
II
Перед первой мировой войной в наших краях еще бытовали выражения «божье дитя» и «дитя божье». Эти выражения, рожденные, разумеется, условиями и чувствами своего времени, сегодня мертвы; они исчезли в водовороте бурного времени, которое даже в самых захолустных краях настолько основательно перевернуло человеческие отношения и просквозило человеческие чувства, что унесло из живого языка многие выражения, а многие просто засохли на корню, поскольку жизнь больше не давала им своих соков. «Божье дитя», – называли незаконнорожденного ребенка, отец которого был никому не известен. «Дитя божье», – говорили про тех бедолаг, которые рождались слабоумными и потом, когда подрастали, оказывались не настолько опасными, чтобы их надо было отдавать в сумасшедший дом, то есть они на самом деле оставались детьми и тихо-мирно проживали свою жизнь.
Хотейчев Матиц был одновременно и «божье дитя» и «дитя божье», следовательно, «божье дитя божье», потому что «дал его бог», родился он слабоумным и оставался ребенком до самой смерти.
По сути дела, Матиц был не Хотейчев, а Лужников. Лужникова Пепа привезла его, еще не рожденного, из Египта, где служила у очень больших господ, как утверждала ее мать. Старая Лужница была ленивая, нерадивая и злобная баба. Жила она в одиночестве в ветхом домишке и кормилась за счет редкой поденщины и частых визитов к соседям. Целыми днями она слонялась по селу, молола языком, а заодно и наедалась; вечерами, заперев трех куриц, готовила себе горшочек настоящего кофе, садилась на порог свой и, громко прихлебывая, выпивала кофе, вынюхивала добрую щепотку табаку и сидела так на пороге, отдыхая после полного разговоров дня в тихом и мягком мраке; не спеша и с наслаждением острыми зубами своей злобы пережевывала она на покое те сплетни, которые в спешке проглотила днем, намечала, в какие дома наведается на следующий день, смотрела на вечерние звезды и, вздохнув с облегчением – как-никак завершила все дела, – вставала, закрывала ворота и шла в дом; ложилась, еще раз вздыхала и обращалась к богу, чтобы тот даровал ей спокойную ночь, потом засыпала и мирно спала в божьей благости. Жила она, таким образом, хорошо и спокойно, поэтому не очень обрадовалась возвращению Пепы, когда та в один прекрасный вечер приковыляла к дому. Острым взглядом Лужница уже с порога оценила располневшее тело своей незаконнорожденной дочери, которую не видела семь лет, и обратилась к ней со следующими словами:
– Ага!.. Ты уже давным-давно даже крейцера мне не посылала, поэтому я надеялась, что в один прекрасный день ты сама привезешь мне то, что заработала.
– И не напрасно надеялись! То, что я заработала, я вам привезла! – не задержалась с ответом Пепа, доказавшая этим, что она достойная дочь своей матери.
Лужница не ожидала такого ответа. Она помолчала, раздумывая, не пойти ли ей по другому пути, но инстинктивно почувствовала, что они с дочерью – ровня, и потому решила продолжать так, как начала.
– Это ты могла бы и дома заработать, – презрительно возразила она. – За этим не надо было ехать в Египет.
– Вы правы, – согласилась дочь. – Этого и дома хватает.
– Тебе, наверное, не хватало, раз потащилась на чужбину.
– Выходит, не хватало, – Пепа пожала плечами.
– Конечно, у больших господ все побольше! И грех тоже!
– Ну, на грех и в лачугах не скупятся! По крайней мере вы не скупились! Поскупились бы, меня не было бы!
– Ах так! – Лужница подняла голову и опять смерила ее с головы до ног острым взглядом. – С этого ты собираешься начать? Да?
– Нет! Этим я собираюсь кончить! – решительно возразила Пепа. – Рожу и вернусь в Египет кормилицей. Больше буду зарабатывать, значит, и вам буду больше посылать, чтобы легче было растить ребенка.
– Ты пошлешь!.. – фыркнула Лужница и замахнулась горшочком для кофе.
– Фигу так фигу! – пожала плечами Пепа.
Лужница не ответила, на том разговор и закончился. Пепа нагнулась, подняла свой узел. Лужница понюхала щепотку табаку, молча передвинулась с середины порога к дверному косяку и подтянула колени к груди. Пепа, не говоря ни слова, прошла мимо матери, остановилась в горнице, опустила узел на пол и занялась приготовлением постели.
Не прошло и двух месяцев, как Пепа родила ребенка. Женщины с нетерпением ожидали возвращения повитухи из Лужи. Едва Полона вернулась в село, они с нетерпением накинулись на нее:
– Кого родила?
– Мальчонку.
– Мальчонку?.. А какой он?
Полона помолчала, оглядела их своими хитрыми серыми глазами, пожала плечами и коротко ответила:
– Такой…
Ответ придал женщинам храбрости, и они пошли в открытую.
– Он что, черный? – спросили они.
– Нет, не черный. – Полона покачала своей маленькой головкой. – Чернявый немного, это есть.
– Немного чернявый, – повторили женщины и разочарованно переглянулись, мол, Египет как-никак в Африке, а в Африке, известно, живут негры, потому и ребенок должен быть черным.
– Какой есть, такой есть! – развела руками Полона. Разгладив передник, смиренно сказала: – Вот и еще одним Арнейцем больше стало…
– Точно! – закивали женщины. – А Хотеец уже был в Луже?
– Еще нет. Но будет.
Хотеец, довольно зажиточный и добросердечный крестьянин средних лет, у которого не было своих детей, был крестным отцом почти всем незаконнорожденным детям. Он не ждал, чтобы его об этом попросили, а сам предлагал свою помощь. Несчастные матери выражали свою благодарность тем, что нарекали детей его именем. Это стало настолько привычным, что на селе уже не говорили «незаконный ребенок» или «пригульный», вместо этого говорили «Арнейц». Лужница, однако, не была бы Лужницей, если бы поступила по заведенному обычаю и проявила хотя бы крупицу благодарности. Когда Хотеец и его жена пришли, чтобы отнести ребенка в церковь, и спросили, как его назвать, она тявкнула через плечо:
– Чего спрашиваете? Небось сами знаете!
Хотеец, правда, был готов к тому, что Лужница подкусит его, и все-таки эти слова обидели его. Он помрачнел и сказал:
– Ты прямо говори, что думаешь!
– И скажу! Сам знаешь, все такие бедолаги носят твое имя. Все Арнейцы!
– Я никогда этого не требовал!
– Требовал ты этого или нет, а я говорю, что вся твоя доброта – сплошная гордость, – ядовито прокаркала Лужница.
– Арнейц, оставь ребенка и пойдем! – подала голос жена, которая, вероятно, из-за своего бесплодия была женщиной робкой и при своем решительном муже очень редко открывала рот.
– Что ты говоришь? Ребенок-то ни в чем ни виноват, – с укором посмотрел на жену Хотеец и взял ребенка. Повернувшись к Лужнице, сказал: – Моя гордость – мое дело, а твое дело – выбрать ребенку имя.
– Я знаю, что это мое дело, а выбирать не буду. Пусть священник заглянет в свои святцы!
В те времена некоторые священники выбирали имена незаконным детям по собственному вкусу, то есть по собственному капризу, чтобы не сказать по собственной злобе. Поэтому, когда священник услышал, что ребенок не будет Ернеем и что дома ему не выбрали имени, он с радостью открыл «свои святцы» и начал листать их, чтобы найти «нечто подходящее» для ребенка, а также для Лужницы, которую с давних пор терпеть не мог. Он долго перелистывал святцы, и при этом на губах у него была такая затаенно-злобная усмешка, что у Хотейца кровь закипела.
– Хватит искать, – твердо сказал он. – Хотя ребенок родился в Луже, да к тому же еще и египтянин, как говорят, вы не дадите ему никакого дурацкого имени! Сегодня святой Матия, пусть он будет Матия.
– И то правда. Что тут особенно выбирать. Пусть будет Матия! – быстро согласился священник, который понимал, что ссора с зажиточным крестьянином может уменьшить сумму пожертвований в пользу церкви.
Итак, ребенка окрестили Матией, а это значило, что называть его будут попросту Матиц. Пепа оставалась с ним всего месяц, потом вернулась в Египет и никогда не прислала ни письма, ни денег. Пока она была дома, женщины не наведывались в Лужу, потому что Пепа по приезде заперлась в доме и решительно заявила, что не хочет видеть ни одной живой души, а баб – особенно. Женщины дождались, когда она уехала, и только потом явились в Лужу – посмотреть «маленького египтянина». Ребенок и впрямь не был черным и, собственно говоря, особенно чернявым – тоже. Если бы женщины не знали, что Пепа вернулась из Египта, они, вероятно, не пришли бы к выводу, что у него более темная кожа, более толстые губы, более приплюснутый нос и более низкий лоб, чем у здешних ребятишек. Глаза у него были голубые и очень большие, поэтому женщины повернулись к Лужнице и во всеуслышание заявили:
– А глаза у него – Лужниковы.
– Не только Лужниковы, но и похожие на лужу, – тявкнула Лужница так многозначительно, что женщины удивленно переглянулись и спросили:
– Как – на лужу?
– Чего вы притворяетесь, бабы! – возмутилась Лужница. – Ведь сами видите, нет у него настоящего света в глазах.
– Нет настоящего света в глазах? – медленно повторили женщины и опять принялись рассматривать ребенка.
– И правда, у него какие-то мутные глаза, – первой признала Вогричка.
– Мне тоже так кажется, – подтвердила Загричарица.
– Вы думаете? – возразила Усадарица. – Вероятно, это кажется из-за его темной кожи.
– Вот дурная баба, в темноте-то свет еще лучше виден! – презрительно возразила Лужница. – Нечистые у него глаза, и все тут, – заключила она. – А вообще-то, – добавила она ядовито-вызывающим тоном, – откуда у него быть чистым глазам, если он – из Лужи.
– Ох, как об этом можно сейчас судить? – не сдавалась Усадарица. – Ведь ребенок еще не видит. Вот увидит, и глаза у него очистятся.
– Как же, очистятся они у него, – снова возразила Лужница, махнула рукой и добавила с прежним ядовитым презрением: – Впрочем, чем глупей он будет, тем легче будет ему жить.
– Ох, это, в конце концов, тоже правда, – со вздохом согласились женщины и принялись наперебой перечислять трудности и горести, которые отравляют жизнь умного человека.
Лужница с этих пор еще реже ходила на поденщину, зато чаще прежнего наведывалась в дома односельчан. И теперь она не только сама кормилась во время этих посещений, но и набирала еды для Матица, «для этого несчастного червяка, готового есть день и ночь». Женщины давали ей не жалея, чтобы она могла заботиться о ребенке. Лужница заботилась о нем, да не слишком. Правда, голодом она его не морила, точно так же правда и то, что она беспрестанно предлагала смерти его забрать, мол, так будет лучше для него, для нее и для «стервы», то есть для Пепы, если та когда-нибудь вернется.
Матиц, однако, не умирал. Жил себе и даже рос. Первые два года он провалялся в доме. Лужница не выносила его на солнце, потому что в глубине души надеялась – в полумраке, без свежего воздуха он все-таки угаснет. Матиц не угас, а в один прекрасный день сам перебрался через порог и оказался на дворе.
– Тут и живи! – обрадовалась Лужница, которая подумала: если смерть не прибрала его в доме, то приберет на улице. Но смерть не прибрала его и на улице, хотя ежедневно проходила рядом: Матиц не скатился под гору и не утонул в луже, к нему не пристала ни одна хвороба. Каждый вечер, возвращаясь из гостей, Лужница находила его на пороге – живого и здорового.
– Не прибирает тебя безносая, не прибирает, – злилась она.
– Неплибилает, неплибилает, – повторял Матиц и испуганно моргал огромными мутными глазами.








