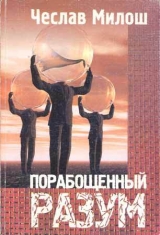
Текст книги "Порабощенный разум"
Автор книги: Чеслав Милош
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
За эти годы он стал писать лучше, чем до войны. Его небольшой талант не мог существовать сам по себе, он должен был опираться на доктрину. Примитивизм, которого Гамма уже перестал стыдиться, придавал теперь его произведениям черты искренности. В его стихах зазвучал его собственный голос, который он когда-то пытался искусственно заглушить: крикливый и громкий. Он написал несколько грамотных рассказов по образцу, который плодоносил тогда в России тысячами страниц прозы. Это были рассказы о войне с немцами и о нацистских зверствах.
В январе 1945 года Красная Армия начала наступление, перешла Вислу, на левом берегу которой стояли руины мертвой, лишенной жителей Варшавы, и быстро приближалась к Берлину. Гамма тоже двинулся на запад. Партия направила его в Краков, город, который после уничтожения Варшавы приютил особенно много писателей, ученых и художников. Там он познал сладость диктаторства. Из чуланов старых домов, можно сказать, из-под полу стали вылезать странно одетые существа – в лохмотьях шуб, в крестьянских куртках, подпоясанных поясами, в неуклюжих ботинках с веревочками вместо шнурков. Среди них были интеллектуалы, которым удалось пережить годы немецкой оккупации. Для многих Гамма перед войной был всего лишь начинающим поэтом, произведениям которого они не считали нужным уделять внимание. Теперь, однако, они знали, что Гамма всемогущ. От его слова зависела возможность печататься, получить должность в редакции, квартиру и заработок. Они приближались к нему с опаской. Ни до войны, ни в подполье во время войны они не были коммунистами. Однако новое правительство было фактом. Известно было, что ничто не предотвратит такого развития событий, какого будет хотеть Москва, а также Гамма и его товарищи. Велика магия власти. Гамма с широкой дружеской улыбкой пожимал протянутые руки и забавлялся. Наблюдал неподатливых и тех, которые старались не показывать, как важно им получить его поддержку. Немало было и таких, которые проявляли все признаки далеко идущего подобострастия. Вскоре Гамма был окружен двором поддакивающих, которые кривились, когда он кривился, громко смеялись, когда он изволил рассказывать смешное.
Может быть, он не сумел бы так быстро стать фигурой популярной, если бы действовал так, как прежде, – порывисто и грубо. Но у него уже была хорошая школа. Годы, которые он провел в России, не были – как я уже сказал – даже для «надежных» годами без страданий и унижений. Наблюдая жизнь в России и проводя долгие часы в дискуссиях о сталинской тактике и стратегии, Гамма, как и другие его коллеги, получил надлежащую подготовку для работы, которая его ожидала. Первый и важнейший принцип: не пугать; выказывать либерализм; давать возможность заработка; помогать; брать на работу в редакции и предъявлять лишь минимальные требования; люди не подготовлены, их ментальность подобна ментальности глупцов на Западе. Недопустимой ошибкой было бы создавать пункты психического сопротивления. Процесс должен быть постепенным, так, чтобы клиенты и сами не заметили, когда и как они подписали контракт. Второй принцип: если замечаешь возмущение грубыми методами правительства, цензурой или политической полицией, сразу же вставать на сторону тех, которые возмущаются, и самому прикидываться глубоко возмущенным; разводить руками и говорить, что трудно что-нибудь сделать с идиотами, которые заняли ответственные должности и совершают недопустимые ошибки. Третий принцип: брать всех, кто может пригодиться, независимо от политического прошлого, за исключением безусловных фашистов или тех, которые выказали склонность к коллаборации с немцами.
Придерживаясь этих принципов, Гамма вербовал сторонников новой власти; они становились ими не потому, что хотели, и не обязательно путем публичных высказываний. Это происходило путем фактов: правительство наложило руку на все типографии и взяло в собственность все крупные издательства; у каждого писателя и ученого было много рукописей военного времени, когда издательства не действовали; каждый хотел публиковаться. С того момента, как его имя появлялось на страницах изданий, контролируемых правительством, или его книгу издавала контролируемая правительством фирма, – он не мог утверждать, что к новым властителям он относится враждебно. Чуть погодя разрешили несколько католических журналов и некоторое количество небольших приватных издательских фирм [143]143
В 1948–1949 частные издательства в Польше закрыли.
[Закрыть]; следили, однако, чтобы они оставались незначительными и потому не представляли соблазна для писателей получше.
Не требовать слишком много; ни от кого не требовали. В городах развевались национальные флаги, аресты членов Армии Крайовой проводились потихоньку. Старались давать надлежащий выход национальным чувствам. Лозунгом были свобода и демократия. Согласно тактике, опробованной Лениным, провозгласили раздел помещичьих земель между крестьянами; крестьяне брали, старательно отмеряли новые участки, которые обогащали их маленькие хозяйства; не было, разумеется, и речи о колхозах, которые, как знал Гамма и товарищи, предполагались позже, «на следующем этапе». А тогда, если кто-то осмеливался говорить о колхозах, его наказывали как врага народа, клевещущего на правительство и пытающегося таким способом сеять смуту.
Разумеется, не были довольны землевладельцы, у которых конфисковали землю; однако большинство имений, так же как заводов и шахт, уже во время немецкой оккупации оказалось под принудительным немецким управлением, и владельцы были практически лишены права собственности. Классовая ненависть крестьян к помещичьему двору не была сильна в нашей стране, так что изгнанным хозяевам не чинили обид. Массы городского населения не чувствовали специальной симпатии к этому феодальному слою, и никто не переживал по поводу утраты им своего значения. Не переживали также интеллектуалы. Что заводы и шахты переходят в собственность государства, это им казалось в общем правильным – нужно также принять во внимание, что это происходило после пяти с половиной лет нацистского правления, которое уничтожило уважение к частной собственности; правильной в общем казалась интеллектуалам также радикальная земельная реформа. Интересовало их нечто другое: границы свободы слова. А они были довольно широкие. Одно было ясно наверняка: нельзя было написать ничего, что подвергало бы сомнению совершенство государственного устройства Советского Союза. За этим бдительно следила цензура. Хвалить, однако, не было обязательным, как стало позже. Можно было на эту тему молчать.
Несмотря на все это, польское население было охвачено одним чувством: чувством сильнейшей ненависти. Ненавидели крестьяне, получающие землю; ненавидели рабочие и чиновники, вступающие в Партию; ненавидели члены «легальной» социалистической партии, получившей право номинального участия во власти [144]144
«Легальная» польская социалистическая партия, ППС, – ее называли также «люблинской» – была организована 10–11 сентября 1944. В эмиграции продолжала существовать другая ППС, «лондонская».
[Закрыть]; ненавидели писатели, хлопочущие об издании их рукописей. Правительство не было собственным: оно было обязано своим существованием штыкам чужой армии. Супружеское ложе для бракосочетания правительства с народом было украшено национальными гербами и флагами, но из-под кровати торчали сапоги энкавэдэшника.
Ненавидели также те, которые заискивали перед Гаммой. Он это знал, и это доставляло ему немало удовольствия. Он бил в чувствительные места и наблюдал реакцию. Ужас и ярость, появлявшиеся на лицах собеседников, сразу же уступали место умильной улыбке. Да, так и должно быть. Они были у него в руках. От него зависели их должности, его карандаш мог вычеркнуть из уже набранной страницы журнала или газеты их стихи и статьи; его мнение могло стать причиной, что их книги будут отвергнуты издательством. Они должны были быть вежливыми. Что касается него, то, забавляясь ими, он выказывал самое дружеское отношение: помогал, позволял зарабатывать, заботился об их карьерах.
Я встретился с Гаммой в Кракове. Много лет прошло после наших дискуссий в университетской столовке; во время одной из них я бросил ему в суп с явной зловредностью коробку спичек; поскольку он склонен был к приступам бешенства, дошло тогда до боксерского поединка. В последующие годы я доучивался в Париже, позднее жил в Варшаве. Из нашего университетского города я эмигрировал [145]145
Переезд из Вильно в Варшаву в середине 1930-х Милош называет «эмиграцией» и в других своих книгах.
[Закрыть], потому что по указанию городской администрации меня выгнали с работы; меня подозревали в коммунистических симпатиях (похоже, что для всех полиций на свете различие между сталинскими и антисталинскими левыми представляет непреодолимые трудности) и в слишком доброжелательном отношении к литовцам и белорусам (справедливо) [146]146
Милош работал в редакции виленского радио и, по мнению виленского воеводы, слишком много времени давал на радио национальным меньшинствам.
[Закрыть]. А теперь я был беженцем из сожженной Варшавы. Мое имущество складывалось из рабочей одежды, которая была на мне, и холщового мешка за плечами, в котором я унес свои рукописи, бритвенный прибор и грошовое издание «Оперы нищих» Гея [147]147
Джон Гей (1685–1732), поэт и драматург, особенно известна его «Опера нищих» (1727–1728). Милош в годы немецкой оккупации в Варшаве изучил английский язык и переводил; перевел, в частности, комедию Шекспира «Как вам это понравится».
[Закрыть]. С точки зрения интересов Советского Союза я не имел никаких заслуг за годы войны; наоборот, были у меня кое-какие грешки на совести. Однако теперь я был нужным и полезным; мое перо представляло ценность для нового строя.
Встреча с Гаммой была почти нежной. Два пса, напряженные, но вежливые. Мы старались не показывать друг другу зубы. Гамма помнил наше давнее литературное соперничество, которое приносило ему огорчения; помнил также мое открытое письмо, которое ставило меня более или менее на позиции нынешних западных диссидентов [148]148
«В 1936 году я опубликовал в виленской „Карте“ открытое письмо, в котором я определил свою антисталинскую позицию», – писал Милош в 1951 году (Антонию Слонимскому // Культура. Париж, 1951. № 12). Ответственным редактором журнала «Карта» был Ежи Путрамент.
[Закрыть]. Однако к давним университетским коллегам он относился с сантиментом. Не был лишен этого сантимента и я. Это помогло сломать лед. Так началась между нами игра, которой предстояло длиться долго.
Это не была игра только между мной и Гаммой. Эту игру вели все мы, то есть интеллектуалы, пережившие войну в условиях нацистской оккупации, с той группой, которая прибыла с Востока. Граница была четкая. Здесь дело шло о вещах куда более важных, чем только личное соперничество. После опыта военных лет никто из нас – даже бывшие националисты – не сомневался в необходимости реформ; наша нация должна была превратиться в нацию рабочих и крестьян – и это было хорошо; ученый, писатель, художник переставал быть индивидом, подвешенным в пустоте, он получал контакт с массой, перед ним открывались неограниченные возможности. Однако же крестьянин, который получал землю, не был доволен. Он боялся. Рабочий, несмотря на то что с огромной самоотверженностью трудился, чтобы пустить в ход заводы, не имел ни малейшего ощущения, что заводы принадлежат ему, хоть в этом уверяла пропаганда. Интеллектуал начинал марш на канате, с трудом балансируя над ловушками цензуры. Мелкие предприниматели и купцы чувствовали страх как слой, обреченный на уничтожение в надлежащее время. Это была странная революция, ни имевшая в себе ни тени революционной динамики, совершенная путем декретов сверху. Интеллектуалы, которые провели годы войны в Польше, были особенно чутки к общим настроениям в стране. Для Гаммы и товарищей эти настроения умещались в формуле «пережитки буржуазного сознания», однако эта формула не содержала всей правды. Массы польской нации чувствовали, что от них ничего не зависит и ничего зависеть не будет. Всякая дискуссия отныне должна была служить только одной цели: оправдывать решения далекого Центра. Сопротивляться? Но в системе, в которой все постепенно переходит в собственность государства, саботаж направлен против интересов всего населения. Только сопротивление мысли было возможно. Интеллектуалы (во всяком случае, большинство) чувствовали, что на них лежит серьезная обязанность. Публикуя статьи и книги, они давали рыболову – то есть восточной группе – удовлетворение. Рыба проглотила приманку. Как известно, когда рыба проглотит приманку, нужно отпустить леску. Леска была отпущена, и до минуты, когда рыболов постановил вытащить рыбу, в нашей стране произошли определенные полезные культурные процессы, которые не были возможны, например, в присоединенных непосредственно к Советскому Союзу балтийских странах. Оставалось прикинуть, как долго может продолжаться такое состояние вещей. Это могло быть и пять, и десять, и пятнадцать лет. Это была единственно возможная игра. Запад в расчет не шел. А уж тем более польская политическая эмиграция.
Игра между мной и Гаммой имела, кроме этих общих черт, и личный оттенок. Гамма не был свободен от чувства вины, которое уходило вглубь в его детство. Особая забота, которую он оказывал членам нашей давней группы, вытекала как из общих воспоминаний юности, так и из желания, чтобы те, которые не стали сталинистами в то время, были обращены в веру теперь; тогда его действия были бы полностью оправданны. Трудность состояла в том, что Гамма был пессимистом, а обращаемые не были. Принятые критикой оценки, применяемые к какому-то писателю, часто бывают ошибочными. Гамма как писатель верный Центру выказывал официальный оптимизм. По существу же, после проведенных в России лет он был убежден, что История – это исключительная сфера дьявола и тот, кто служит Истории, подписывает договор с дьяволом. Он слишком много знал, чтобы иметь иллюзии.
Наша игра шла не только в Польше. Не без влияния Гаммы Ежи, который стал католическим поэтом, был послан культурным атташе во Францию, я – культурным атташе в Соединенные Штаты. [149]149
Поэт Ежи Загурский был культурным атташе в Париже в 1947–1948; Милош в декабре 1945 выехал в США, вначале работал в польском консульстве в Нью-Йорке, с 1947 был культурным атташе посольства в Вашингтоне.
[Закрыть]Пребывание за границей давало значительные преимущества: я публиковал нахальные поэмы [150]150
Милош имеет в виду поэму «Нравственный трактат», которую К. Выка опубликовал в апрельском номере журнала «Твурчость» в 1948; на этой поэме Милоша воспитывалось целое поколение молодых инакомыслящих поляков после войны.
[Закрыть]и статьи, в которых таились оскорбления Метода. Когда я замечал, что струна чересчур натянута, я посылал в Польшу что-нибудь такое, что могло бы свидетельствовать, что я дозреваю до обращения в веру. Гамма писал мне сердечные и лживые письма. Оба мы совершали ошибки. Гамма знал: риск, что я убегу, невелик: больше, чем кто бы то ни было другой, я был связан с моей страной; я был поэтом, я мог писать только на родном языке, и только в Польше была публика, состоящая преимущественно из молодежи, у которой я мог найти понимание. Он знал также, что я боюсь стать эмигрантом и обречь себя на бесплодие и пустоту, которые всегда присущи изгнанию [151]151
История польской поэзии давала и противоположные примеры; недаром поляки говорят и пишут о Великой Эмиграции XIX века. Эмигрант Милош стал крупнейшим польским поэтом-изгнанником XX века.
[Закрыть]. Он, однако, переоценивал мою привязанность к литературной карьере. Я знал, что его письма фальшивы. Но трудно отказаться от мысли, что в проявлениях чьего-то чувства не кроется частица подлинной дружбы. Я полагал также, что он достаточно умен, чтобы не ждать от меня обращения в веру. Пришла минута, когда он решил пустить в дело свой кинжал. Это произошло в Варшаве. Удар Гаммы был сильный, но он промахнулся, доказательством является то, что я могу написать этот портрет. [152]152
Путрамент, который в 1945 рекомендовал Милоша на дипломатическую работу, в конце 1950, на вопрос руководства партии, можно ли и сейчас надеяться, что Милош не убежит, ответил отрицательно; у Милоша отобрали заграничный паспорт, но ему удалось, благодаря заступничеству министра иностранных дел Зыгмунта Модзелевского, старого коммуниста, с которым власти считались, все-таки уехать в Париж.
[Закрыть]
Выезд Гаммы за границу произошел в тот момент, когда новые власти справились с первоначальным беспорядком и можно было предвидеть длительный период относительной стабилизации. Исключение из игры крестьянской партии, поглощение социалистов [153]153
В декабре 1948 ППС, организованная в Польше в сентябре 1944, была объединена с Польской рабочей партией, ППР, в Польскую объединенную рабочую партию.
[Закрыть]– эти проблемы в ближайшем будущем не представлялись чересчур серьезными, и результат был заранее предопределен; в целом это должен был быть период НЭПа; в культурной жизни рекомендован был либерализм. Гамма считал, что после нервного напряжения предыдущих лет ему положено немного покоя, он возглавил одно из дипломатических представительств.
Новую жену он послал на воспитание в одно педагогическое заведение в Швейцарии, чтобы ее там научили языкам и хорошим манерам. Вскоре из солдатки в неуклюжих русских сапогах она превратилась в куколку с высветленными волосами и длинными, крашеными ресницами. Она выглядела très chic [154]154
Очень шикарно (фр.).
[Закрыть]. Носила лучшие парижские платья. Гамма, пользуясь спокойной обстановкой, много времени уделял писанию. Он написал большой роман [155]155
Путрамент Е. Действительность. Варшава, 1947; рус. пер. – М., 1948.
[Закрыть], темой его был процесс группы молодых сталинистов в нашем университетском городе, процесс, в котором он сам был одним из обвиняемых. Политически роман был безупречен; его спешно издали, и рецензенты не жалели похвал; правда, похвалы не были столь горячими, как можно было бы ожидать; в нашей стране стиль прозы еще не подвергся тогда должной стерилизации, тогда как роман Гаммы уже имел все черты того идеологического упражнения, которое в России называется романом. Город Вильно, где происходило действие, был в годы нашей юности местом чрезвычайно живописным – не только благодаря окружающим его лесам и холмам или своей архитектуре, но также благодаря многообразию сосуществующих там культур и языков. Ничего из этой живописности не просочилось в прозу Гаммы. Поразительно бесцветная, лишенная дара воссоздания чувственного богатства мира, она служила исключительно средством информации о событиях и людях. С событиями и людьми, однако, было ненамного лучше. Без труда узнавая действительных людей в героях романа, я мог констатировать, что Гамма не был точен в изображении персонажей. Воображение писателя часто преображает людей, которых он мог наблюдать: сгущает краски, выделяет из многих психических черт те, которые для героев наиболее характерны; если писатель хочет верно представить действительность, он часто убеждается, что неверность бывает наилучшей верностью; мир неисчерпаем в своем богатстве, и чем больше усилий ничего не потерять из правды, тем больше оказывается чудес, не поддающихся описанию пером. Неточность Гаммы была иного рода. Он создавал, как требовал Метод, абстрактные типы политических деятелей. В эти готовые формы он втискивал живых людей; если они не помещались, он без стеснения отрубал им голову или ноги. Главные персонажи – Стефан и Хенрик – были редуцированы, сведены к их участию в политической деятельности. А я, который был хорошо знаком с ними, знаю, какими сложными личностями были эти люди. Хенрик, встретивший смерть перед немецким расстрельным взводом, был человеком несчастным, внутренне раздвоенным; он был самым ярким примером трагедии польского коммуниста, разрывающегося между двумя верностями [156]156
Милош имеет в виду верность коммунизму и верность Польше. О Дембиньском он писал чуть позже в главе «Марксизм» в книге «Родная Европа»: «При его исключительных способностях и динамичности, он, наверно, сыграл бы впоследствии важную роль в Польше или сел бы в тюрьму. Но его расстреляли немцы в 1941-м».
[Закрыть]. Стефан, который по возвращении из Москвы стал одним из диктаторов государственной экономики [157]157
С. Ендрыховский – министр мореплавания и внешней торговли ПНР (1945–1947), заместитель председателя комитета государственного планирования (1947–1951), вице-премьер (1951–1956), позже – на министерских должностях.
[Закрыть], всегда представлял для меня не меньшую загадку. Тяжелый, угрюмый мужчина, тип советского чиновника, он совершенно изменился с того времени, когда колебался, выбрать ли сталинизм. Я знал его, когда он писал стихи и проницательные размышления о литературе. Тогда это был молодой Фауст – упивающийся красотой мира, ироничный, блестящий, беспощадный. [158]158
В книге Милоша «Родная Европа» Стефан Ендрыховский описан под его прозвищем студенческих времен «Робеспьер»: «Благодаря блестящему и саркастичному уму Робеспьера наша группа оказалась зачатком левого движения и наделала шуму не только в университете».
[Закрыть]Роман Гаммы назывался «Действительность», но от действительности в нем было мало. Это был скорее памфлет на предвоенную Польшу, хотя попытку демонизировать тогдашнюю нерасторопную полицию и тогдашних апатичных судей трудно было бы назвать удачной.
Написав эту книгу о годах нашей юности, Гамма начал несколько скучать за границей. Он путешествовал. Побывал в нескольких европейских странах, съездил в Африку. Когда-то, во времена наших дискуссий в университетской столовке, мы мечтали о путешествиях. Наши сомнения, удастся ли нам когда-нибудь эти мечты осуществить, оказались излишними: нам было дано вкусить даже слишком много этого рода развлечений. Удовольствия, какие черпал из путешествий Гамма, не были, впрочем, рафинированными. Памятниками архитектуры и искусства он интересовался мало, наблюдать подробности жизни людей разных цивилизаций не слишком его увлекало: будь иначе, он был бы другим и гораздо лучшим писателем. Путешествия были для него интересным времяпрепровождением, а также удовлетворяли честолюбие бывшего провинциала.
Помимо путешествий, главное удовольствие он черпал в игре, которую вел с иностранцами. Их убежденность, что Гамма, в сущности, «либерален», не слишком была далека от истины; ту страсть, с какой он обрушивался на некоторые чересчур брутальные методы сталинизма, нельзя было бы квалифицировать как полную фальшь; Гамма считал себя слугой дьявола, но дьявола, правящего Историей, он не любил. Возмущаясь, он давал себе волю, он знал, что это полезно как прием, потому что создает ему хорошую репутацию. В то же время он следил за реакциями собеседников, внутренне смеясь над их простодушностью.
Дипломатические обязанности, приемы, политическая дрессировка персонала. В вечера, свободные от занятий, Гамма устраивал партии бриджа. Он был заядлым и хорошим игроком в бридж. Он говаривал, что слишком утомлен работой, чтобы заниматься чем-нибудь другим, кроме бриджа. Жаловался, что дипломатическая работа не дает ему возможности писать. В действительности было иначе. Гамма достиг в молодом возрасте вершины карьеры; если бы он захотел, он мог бы стать министром – в стране, в которой должность министра считается второстепенной, поскольку над министрами стоит Центральный Комитет Партии, Гамма был членом Центрального Комитета. Что дальше? Этот пункт остановки и расчетов с прошлым в прекрасной западной столице ничего не давал, кроме ощущения неудовлетворенности. «Qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeuness?» – говорит французский стих, [159]159
«Что ты сделал со своей молодостью?» – концовка стихотворения Поля Верлена; русский перевод этих строк у Ф. Сологуба:
О, подумай, что ты сделалС юными годами!
[Закрыть]который звучит, как голос эха. Что он сделал со своей молодостью? Где же хоть что-нибудь, что он мог бы признать своим собственным, а не продуктом детерминизма Истории? Он приближался к сорокалетию и способен был видеть ясно. Возвращалось давнее чувство литературного поражения. Он чувствовал себя пустым, как сито, сквозь которое дует ветер. Этот ветер исторической необходимости отнимал у литературы смысл: еще одно искусное идеологическое уравнение, еще сколько-то там страниц грамотной прозы. Зачем, если заранее известно, что там должно быть сказано, если это определено линией Партии? В свете свечей мерцали позолота стен и большие старинные зеркала восемнадцатого века. Гамма играл в бридж не потому, что был утомлен, а потому что это освобождало его от необходимости оказаться один на один с листом не исписанной бумаги. И дипломатией, и картами он пользовался, чтобы увернуться от самого себя.
Он привык к этому образу жизни. Партия не любит, однако, таких привыканий к комфорту. В Польше происходили перемены. Курс стал острым. От писателей потребовали, наконец, строгой ортодоксальности. Гамма был нужен на месте. С грустью он покидал дворец восемнадцатого века и прекрасную столицу. Он хорошо знал мир Востока, в который возвращался; его ждали ожесточенная борьба, интриги, страх находящихся наверху, что Москва гневно сморщит брови. Но отчаиваться было беспечно. Он должен был ехать.
Должность, которую он получил, была рангом выше, чем должность посла в западной столице. Гамма стал – на этот раз уже официально – политическим надсмотрщиком над всеми писателями, директором совестей. [160]160
В 1951–1956 Путрамент был секретарем Правления Союза польских литераторов.
[Закрыть]В его функции входило следить, чтобы литература развивалась согласно с линией Партии. Правительство как раз подарило Союзу Польских Писатели новый, только что отстроенный дом в Варшаве. В нем был большой современно оборудованный зал собраний с рядами кресел, возносящимися амфитеатром; залы для конференций; служебные помещения; квартиры для писателей; ресторан. Там и заседал Гамма, проводя многочисленные встречи с писателями, с издателями, с полицией безопасности и с представителями других творческих союзов.
Квартиру он получил в другом правительственном доме, где селили высших сановников. Войти в этот дом можно было только договорившись предварительно по телефону, но эти номера телефонов не фигурируют в телефонной книге и сообщаются только людям, пользующимся доверием. Полиция безопасности при входе звонит наверх и проверяет, действительно ли о встрече договаривались, после чего отбирает личные документы гостя и позволяет ему проникнуть внутрь.
Гамма не ошибался, предвидя новый период интриг и борьбы, не с писателями, конечно, поскольку он по должности стоял выше них, – хотя и среди писателей были опасные личности, превосходящие Гамму и степенью вызубренности диалектического материализма и прецизионностью своего раввинского ума. Подлинная борьба происходила выше, среди партийной верхушки, к которой принадлежал Гамма. У него было много врагов. Ведь несмотря на многолетний тренинг все еще вылезал из него вспыльчивый шляхтич, впадающий в гнев, если кто-то ему противится, и тогда уже не умеющий скрыть, что людей он трактует, как дворню на своем фольварке. Эти моменты явной грубости (будучи послом, он мог в отношении своего персонала позволять себе ее безнаказанно) теперь создавали ему осложнения. Кроме того, линия Партии в Польше уже была жесткой, одно искреннее слово (хотя бы это была искренность, используемая для привлечения сторонников) могло повлечь за собой губительные последствия. Вскоре по возвращении с Гаммой случилась одна из самых больших оплошностей за все время его политической карьеры. Произошло это на митинге, который проходил сразу же после начала войны в Корее. Гамма, отбиваясь от «пропаганды шепчущихся», крикнул запальчиво: «Да, мы атаковали первые, потому что мы сильнее!» – и большого труда стоило потом замять это его неудачное высказывание.
Гамма должен был также всерьез взяться за писательство. Членом Союза Польских Литераторов может быть только писатель «активный», то есть такой, произведения которого появляются в прессе или в издательствах (рыба, проглотившая приманку, была вытащена на берег; писатели должны уже были теперь писать и публиковать под угрозой исключения из Союза и утраты всех привилегий). Принцип активности тем более обязывал высших функционеров.
«Он ведет эту борьбу с империализмом и пропаганду в защиту Мира, – сказал кто-то в Варшаве о Гамме, – но мечтает об одном: о войне. Потому что если бы вспыхнула война, то были бы речи, полеты на самолетах, корреспонденции с фронта и он не должен был бы сидеть ежедневно за письменным столом и мучаться над романом. Но назло ему будет мир, и он будет иметь в этих своих шикарных апартаментах пять письменных столов и на каждом начатый роман и ежедневно будет выть от отчаяния, потому что он знает, что его писанина – деревянная».
Трудно завидовать тому выбору, какой сделал этот человек, и тому знанию, листик которого он отщипнул с дерева познания добра и зла. Глядя на свою страну, он знает, что ее жителей ждет все большая доза страдания. Глядя на себя, знает, что ни одно слово, которое он скажет, не будет его собственным. Я лжец – думает он о себе и полагает, что за его ложь ответствен детерминизм Истории. Временами, однако, ему приходит мысль, что дьявола, которому он записал по контракту свою душу, наделили силой именно такие люди, как он сам, и что детерминизм Истории – это продукт человеческого ума.








