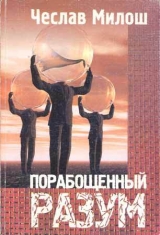
Текст книги "Порабощенный разум"
Автор книги: Чеслав Милош
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Альфа не обвинял русских. Это было бы бесполезно. Они выступали как сила Истории. Коммунизм воевал с фашизмом, а между двумя этими силами оказались поляки со своей этикой, не опирающейся ни на что, кроме верности. Джозеф Конрад, этот неисправимый польский шляхтич! [76]76
Джозеф Конрад – псевдоним Теодора Юзефа Конрада Коженёвского, он родился в 1857 в Житомире, в 1862–1867 вместе с отцом, высланным царскими властями, жил в Вологде; рано осиротел, до 1874 воспитывался в Кракове и Львове под опекой брата матери, затем уехал на Запад, где стал моряком, а позже писателем.
[Закрыть]А ведь в двадцатом веке, как показывал пример этого города, уже не было места для императива отчизны и чести, не подкрепленного никакой целью. Для немцев повстанцы даже не были врагом; они были низшей расой, которую нужно было уничтожить. Для русских они были «польскими фашистами». Моралист этой эпохи – думал Альфа – должен обращать внимание на общественные цели и общественные результаты. Варшавское восстание было лебединой песней интеллигенции и концом того строя, который она защищала. Оно было как безумные кавалерийские атаки конфедератов в американской Гражданской войне, которые не отвратили победу Севера. В момент поражения Варшавского восстания революция, по существу, уже совершилась: путь к ней был открыт. Это не была «мягкая революция», как, стараясь успокоить людей, писала пресса новой власти. Цена ее была кровавая. Свидетельством тому был лежащий в руинах самый большой город страны.
Нужно было жить и действовать, а не оглядываться на то, что минуло. Страна была разорена, новая власть энергично взялась восстанавливать, пускать в ход заводы и шахты; помещичьи земли делились между крестьянами. Писатель стоял перед лицом новых обязанностей. Его книг ждал человеческий муравейник, вырванный из оцепенения, перемешанный огромной палкой войны и социальных реформ, хотя и навязанных сверху, тем не менее эффективных. Поэтому не нужно удивляться, что Альфа, как большинство его коллег, сразу же заявил, что он хочет служить новой Польше, которая создавалась на развалинах давней.
Его приняла с открытыми объятьями немногочисленная группа польских коммунистов, которые провели годы войны в России и прибыли теперь с востока, чтобы организовать государство согласно принципам ленинизма-сталинизма. Тогда, то есть в 1945 году, каждого, кто мог быть полезен, радостно приветствовали; от него отнюдь не требовали, чтобы он был красным: в действительности в стране было чрезвычайно мало сторонников Сталина, отсюда и маски, под которыми выступала Партия, и умеренность ее лозунгов. Не подлежало сомнению, что лишь терпеливо дозируя и постепенно увеличивая дозы доктрины, удастся довести языческое население [77]77
В первых и в последних главах книги Милош сравнивает ситуацию «язычников» и «Новой Веры» в Восточной Европе после Второй мировой войны с ситуацией в Римской империи при императоре Феодосии, который в 380 году запретил язычество и все вероучения и «ереси», кроме ортодоксального христианства.
[Закрыть]до понимания и приятия Новой Веры. Альфа, с момента, как он порвал с праворадикальным еженедельником, пользовался в кругах, ставших теперь наиболее влиятельными, хорошей репутацией. Ему не ставили в упрек, что во время войны он держался в стороне от немногочисленных марксистских групп. Писателей, которые поддерживали подобные контакты, можно было пересчитать по пальцам. Теперь писатели вели себя чуть-чуть как девицы: хочется и колется. Их первые публичные высказывания были осторожные и старательно отмеренные. Но важно было не то, что именно они говорили. Нужны были их имена на страницах прессы. Таким путем власть создавала внешние признаки, свидетельствующие, что ее поддерживает вся культурная элита. Программа, как вести себя в отношении разных категорий населения, была разработана польскими коммунистами, – когда они еще находились в Москве, – и это была программа умная, опирающаяся на точное знание местных условий. Задачи, стоявшие перед ними, были необычайно трудные: страна не хотела их власти; Партия должна была быть организована заново, и нужно было примириться с фактом, что среди вступающих новых членов большинство составляют ловкачи, пользующиеся конъюнктурой; нужно было допустить к участию в правительстве левое крыло социалистов; все еще в перспективе была сложная игра с крестьянской партией, потому что после Ялты [78]78
Речь о ялтинской встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля в феврале 1945, на которой решалась будущность послевоенной Европы.
[Закрыть]западные союзники требовали по меньшей мере видимости коалиционного правительства [79]79
Во главе крестьянской партии стоял С. Миколайчик, недавний премьер эмигрантского правительства, вернувшийся в Польшу в июне 1945 и ставший одним из вице-премьеров коалиционного правительства; партия Миколайчика пользовалась большой популярностью у населения, но в результате разнообразных манипуляций была выведена из игры, а Миколайчик в 1947 бежал за границу.
[Закрыть]. Поэтому важнее всего было постараться создать мост между группкой коммунистов и страной, а в этом особенно могли помочь писатели с громкими именами, известные в качестве либералов и даже консерваторов. Альфа абсолютно отвечал этим требованиям. Его статья появилась на первой странице правительственного литературного еженедельника. Это была статья о гуманизме. Насколько могу припомнить, Альфа говорил там об этике уважения к человеку, которую несет с собой революция.
Был май 1945 года в старинном средневековом городе Кракове. И Альфа, и я, и многие другие писатели нашли себе там пристанище после гибели Варшавы. Ночь, когда пришло известие о взятии Берлина, освещена была вспышками ракет и орудийных снарядов; на улицах слышна была непрестанная стрельба из ручного оружия – это солдаты победоносной Красной Армии выражали свою радость по поводу скорого возвращения домой. Погожим весенним утром мы сидели с Альфой в бюро Польского Фильма и работали над сценарием. Строить композицию фильма – тяжелое занятие. Мы клали ноги на стол или на поручни кресел, ходили по комнате, выкуривали много папирос, и все время соблазняло нас окно, в которое врывалось щебетанье воробьев. За окном был двор с молодыми деревьями, а за ним большое здание, превращенное недавно в помещение органов безопасности и тюрьму. На первом этаже мы заметили в зарешеченных окнах много фигур молодых мужчин. Некоторые пробовали загорать, подставляя лицо лучам солнца; другие ловили крючком из проволоки бумажки, которые летели из окон соседних камер и падали на песок. Стоя с Альфой в окне, мы наблюдали за ними молча. Это были, как легко было догадаться, солдаты подпольной армии; если бы в Польшу вернулось эмигрантское правительство из Лондона, этих солдат «подпольного государства» чествовали бы как героев. Сейчас, как политически неблагонадежные, они сидели в тюрьме. Пример иронических шуток Истории. Эти преимущественно очень молодые юноши, привыкшие в годы войны жить с оружием в руках, теперь должны были как можно скорее забыть о своих конспиративных пристрастиях. Многие из них сумели это сделать достаточно быстро и притворяться, что они никогда не были в подполье; некоторых ловили в лесах или в городах и сажали за решетку. Хотя их врагом был Гитлер, теперь их в свою очередь признали агентами классового врага. Это были братья тех, что боролись и гибли в Варшавском восстании; они были из тех, чья слепая жертвенность пробуждала в Альфе угрызения совести. Не знаю, что он чувствовал, глядя на окна этих тюремных камер. Думаю, что уже тогда ему рисовался план его первого послевоенного романа.
Притязания Альфы, как видно из всей его биографии, всегда были огромные. Он не мог быть лишь одним из многих, он должен был обязательно лидерствовать и, лидерствуя, находить достаточные причины, чтобы держаться высокомерно. Роман, который он начал писать, должен был – он верил в это – поставить его на первое место среди писателей, действующих в новой ситуации. Эти писатели старались изменить свой стиль и содержание своих книг, но этого нельзя было достичь, не изменив свою личность. Альфа переживал нравственный конфликт, который был его собственным конфликтом, но в то же время был повторением конфликта, знакомого многим его землякам. Он чувствовал в себе силу, которая проистекала из его личной и в то же время всеобщей драмы. Его чувство трагизма жизни искало нового одеяния, в котором оно могло бы явиться.
Веря в себя, он не обманулся. Роман, который он написал, был произведением зрелого таланта и произвел на его читателей большое впечатление [80]80
«Пепел и алмаз». Роман писался в 1946–1947, опубликован в 1947, экранизирован А. Вайдой в 1957–1958.
[Закрыть]. Всю жизнь Альфа кружил вокруг фигуры сильного и чистого героя. В его предвоенном романе этой фигурой был ксендз, теперь он сделал героем представителя Новой Веры, старого коммуниста. Этот коммунист, неустрашимый борец, провел многие годы в немецких концлагерях. Он вышел оттуда несломленный духом и, вернувшись в разоренную родную страну, оказался лицом к лицу с хаосом, который его ясное знание и сильная воля должны были преобразить в новый общественный порядок. Этот человек был как алмаз, общество же, которое он должен был своей творческой деятельностью преобразовать, носило печать нравственного разложения. Старшее поколение интеллигенции еще предавалось бессмысленным мечтаниям, ожидая помощи со стороны западных союзников; пило и пыталось обеспечить себе карьеры. А молодежь, воспитанная в годы войны в принципах слепой верности, привыкнув к авантюрной жизни в подполье, теперь была совершенно потерянная; поскольку она не знала никаких других целей деятельности, кроме борьбы с врагом во имя чести, она пыталась по-прежнему организовывать конспиративные заговоры. На этот раз для борьбы с новым врагом, то есть с правительством, навязанным русскими, и с Партией. А ведь Партия была единственной силой, которая в этих условиях могла обеспечить спокойствие и восстановление страны, дать людям возможность зарабатывать на хлеб насущный, сделать так, чтобы действовали школы и университеты, железные дороги и водные пути. Не нужно было быть коммунистом, чтобы это констатировать. Этот вывод напрашивался как совершенно очевидный.
Убивать партийных работников, совершать акции на железных дорогах, перевозящих продукты питания, нападать на рабочих, которые старались восстановить уничтоженные заводы, – это значило высказываться за продолжение хаоса. Только безумцы могли решаться на подобные действия, не имеющие никакого логического обоснования, ибо совершаемые без всякой надежды. Такую картину страны представил Альфа в своем романе, и, может быть, его книгу можно было бы отнести к публицистической литературе, создаваемой кем-то, кто говорит во имя здравого смысла, если бы не что-то, что всегда отличало Альфу как писателя: сострадание. Он ощущал сострадание и к старому коммунисту, и к тем, которые считали этого коммуниста врагом. Только сострадая обеим борющимся сторонам, писатель может создать трагедию. Альфа, имея в себе сострадание, написал трагический роман.
Надо сказать, что недостатки его таланта, заметные в его предвоенных произведениях, помогли ему. Талант его не был реалистическим. Альфа строил нравственные конфликты, подчеркивая контрасты характеров, но его персонажи двигались в мире, который трудно было увидеть. Старый коммунист Альфы – это редко встречаемый экземпляр, точно так же редко встречаемым экземпляром был такой деревенский священник, какого Альфа перед войной сделал своим героем. Коммунист Альфы показан не в его внешней деятельности, которая является обычно сферой подобных ему людей, умных, фанатичных и дальновидных. Наоборот, он – как молчащая, неподвижная скала, а проникая внутрь этой скалы, мы находим там наиболее человеческое: тоску по добру и страдание. Уже сама его фигура монументальна и вызывает сочувствие той болью, в которой он никому не хочет признаться, потому что это его личная, частная боль: он потерял в концлагере свою любимую жену. Он аскет идеи. Он стыдится своих личных проблем, а в то же время лишь максимальным усилием воли может заставить себя продолжать жизнь, вдруг потерявшую смысл. Это титан с разорванным сердцем, полный любви и прощения. Одним словом, он выступает как потенциальная сила, способная в будущем привести мир к добру. В ту минуту, когда его чувства и мысли особенно чисты, он гибнет, застреленный молодым человеком, который видит в нем только агента Москвы.
Можно понять, почему Альфа в стране, где слово «коммунист» по-прежнему звучало еще ругательством, хотел показать старого борца как образец высшей этики; однако эта этика может быть оценена лишь применительно к конкретным задачам, там, где она трактует людей как орудия. Что касается общества, к преобразованию которого приступал старый коммунист, то наблюдательный писатель мог бы там обнаружить не только симптомы распада. Как интеллигенция, так и рабочие и крестьяне с большим энтузиазмом приступали к работе; делом интеллигенции, то есть разного рода специалистов, было восстановить заводы, шахты, железные дороги, школы и театры. В этой работе они руководствовались чувством долга перед своим народом и профессиональной гордостью, а не картиной социализма по российскому образцу. Тем не менее их этика долга давала серьезные результаты. Их политическое мышление было наивное, их привычки носили черты ушедшей эпохи. Но в первый момент не Партия, а они действовали особенно энергично. Молодежь была потерянной и лишенной какого бы то ни было руководства, но ее террористические акции были по меньшей мере в такой же степени результатом деморализации, как и отчаяния. Юноши, которых мы с Альфой видели в окнах тюрьмы, оказались там не за совершаемые ими покушения, а только потому, что во время войны состояли в подпольных группах, боровшихся против Гитлера. По всей стране проводились облавы на эту молодежь, преступлением которой было служение «подпольному государству», зависевшему от Лондона. Разумеется, Альфа по цензурным условиям не мог этого сказать; его явное сострадание к этим юношам позволяло читателю догадываться, что он недоговаривает. Но поскольку не была представлена многообразная канва событий, то менялась мотивация поступков.
Во всей книге Альфы был гнев на то, что проиграло. Этот гнев и Альфе, и многим другим был нужен, чтобы существовать. Сатирическое отношение к интеллигенции в конспирации, заметное в его рассказах, написанных под конец войны, теперь появилось в разделах романа, высмеивающих абсурдные надежды на внезапные политические перемены. Однако в действительности эти надежды, приобретавшие часто у интеллигентов смешную форму, не были чужды и рабочим, и крестьянам. Альфа никогда не знал рабочих и крестьян близко, с тем большей легкостью он мог приписывать надежду на волшебное отстранение России особым чертам интеллигенции, которая, несомненно, не отличалась умением политически мыслить.
Роман такого рода, то есть опирающийся на противопоставлении этики Новой Веры и побежденной этики, имел для Партии огромное значение. Книга сразу по выходе была широко разрекламирована. Альфа получил за нее в 1948 году государственную премию, а общий тираж вскоре достиг 100 тысяч экземпляров. Альфа не ошибся, считая, что ему положено первое место среди писателей страны. Один из городов [81]81
Щецин. Щецинский воевода хотел тогда создать у себя «городок писателей», там жил не только Анджеевский.
[Закрыть]подарил ему и обставил дорогой мебелью прекрасную виллу. Полезный писатель в странах народной демократии не может жаловаться на недостаток внимания.
Диалектики хорошо понимали, что герой романа Альфы не был образцом «нового человека». То, что он – коммунист, можно было угадать скорее только по уверениям автора. На страницах романа он выступал в приготовлении к действию, а не в действии. Нетрудно было заметить, что Альфа давнего своего героя, носившего сутану ксендза, переодел теперь в куртку коммуниста. Хотя язык понятий менялся, неизменным оставалось трагическое и метафизическое мироощущение Альфы, и хотя старый коммунист не молился, читатели не удивились бы, если бы из его всегда замкнутых уст вырвались бы вдруг слова сетований Иеремии: так хорошо слова пророков гармонировали бы с его личностью. Так что Альфа, в сущности, не исправился с предвоенных времен; не сумел ограничиться чисто утилитарной этикой, выражающейся в рационалистически понимаемом действии. В его герое по-прежнему присутствовали и король Лир, и Фауст. По-прежнему еще были и земля, и небо. Герой был немного похож на Пейроля из «Корсара» Конрада [82]82
Conrad J. The Rover. 1923, роман о французском моряке эпохи наполеоновских войн; польск. пер. – «Korsarz», 1925.
[Закрыть]. Однако нельзя было требовать слишком много. Альфа не состоял в Партии, но проявлял понимание, учился, о чем свидетельствовало – больше, чем образ коммуниста, – то, как он трактовал террористскую молодежь. Слишком рано было требовать от писателей «социалистического реализма»; момент для этого еще не наступил, они были еще в начальной школе; термин «социалистический реализм» не употреблялся, потому что мог бы понапрасну испугать писателей и художников; подобным образом крестьян уверяли, что в Польше никогда не будет колхозов.
День решения наступил для Альфы лишь года два спустя после выхода романа. Он жил на своей прекрасной вилле, участвовал в комитетах и ездил по стране, выступая с лекциями о литературе в заводских клубах и домах культуры. Эти поездки писателей, организованные в широком масштабе, для многих были только тягостной обязанностью, Альфе же они доставляли удовольствие, потому что он таким путем знакомился с рабочей молодежью, ее повседневной жизнью и занимающими ее проблемами. Впервые Альфа действительно выходил за пределы своего интеллектуального клана. К тому же выходил в качестве писателя уважаемого; учитывая высокий ранг писателей в странах народной демократии, он мог чувствовать себя если не кардиналом, то по меньшей мере почтенным каноником.
Преобразование страны, согласно планам Центра, продвигалось вперед; подошла минута, когда сочли, что ситуация достаточно созрела, чтобы держать писателей пожестче и потребовать от них ясно высказаться за Новую Веру со всеми последствиями; «социалистический реализм» был провозглашен на съездах писателей единственно рекомендуемым творческим методом. Похоже, что Альфа пережил эту минуту особенно болезненно. Неслыханная ловкость Партии привела писателей к вратам обращения в веру так, что они почти не заметили. Теперь можно было или вдруг взбунтоваться и опуститься на самые нижние ступени общественной лестницы, или войти в эти врата. Оставаться половинчатым, платить одну монету Богу, а другую Кесарю было уже невозможно. Никто не требовал, чтобы писатели формально записывались в Партию. Понимая, однако, правильно, если ты принимал Новую Веру, – ничто этому не препятствовало. Такое решение свидетельствовало бы скорее об отваге: вступление в Партию означало не уменьшение, а увеличение обязанностей. Для Альфы, который очень заботился о своем положении самого ценимого партийными кругами прозаика, возможно было только одно решение. От него ждали, что он выступит как писатель – нравственный авторитет и даст своим поведением пример коллегам. Альфа за первые годы нового порядка на самом деле привязался к революции. Наконец-то он был писателем народным, его читателями были люди из рабочих масс. Его предвоенный роман, который так хвалили, разошелся тогда лишь в нескольких тысячах экземпляров. Теперь и он, и каждый писатель мог рассчитывать на большое число читателей. Он уже не чувствовал себя изолированным; он говорил себе, что он нужен – не двум-трем снобам из литературного кафе, но той новой, рабочей молодежи, перед которой он выступал в своих поездках по стране. Такая перемена произошла благодаря победе России и благодаря Партии, зависящей от Центра. Нужно было сделать из этого выводы и принять не только практические результаты, но и философские основы. Это не было для Альфы легко. Все чаще на него нападали за его пристрастие к монументальному трагизму. Он пробовал писать иначе – но когда он запрещал себе что-то, что лежало в самой природе его таланта, проза его становилась плоской и бесцветной, он рвал свои рукописи. Он задавал себе вопрос, неужели он, видя ежедневно вокруг себя новые трагические конфликты, свойственные жизни в большом коллективе, сможет отказаться представить их. Страна становилась большим коллективом, причины человеческих страданий были уже иные, нежели при капиталистическом строе, но не казалось, что сумма страданий уменьшается; наоборот, она росла. Альфа слишком много знал о России и слишком много знал о беспощадных средствах, применяемых диалектиками в отношении «человеческого материала», чтобы не иметь приступов сомнения. Он ясно сознавал, что, принимая Новую Веру, он перестанет быть писателем – нравственным авторитетом, а станет писателем-педагогом, который показывает в своих книгах не то, что мучает его самого, а то, что признано полезным. Отныне десять или пятнадцать специалистов будут взвешивать каждую его фразу и задумываться, не впал ли он в грех чистого трагизма. Однако пути назад уже не было. Альфа сказал себе, что в своей практической деятельности он уже коммунист. Сказавши так, он вступил в Партию и сразу же опубликовал большую статью о себе как о писателе. Это была самокритика, то есть акт, который в христианстве носит название исповеди. Другие писатели прочли эту статью с завистью и с ужасом. То, что Альфа всегда и во всем первый – возбуждало ревность; то, что он оказался таким проворным и поступил, как шахтер-стахановец, который первым обещает выдать необычайно много сверх нормы, – наполняло страхом; шахтеры не любят своих товарищей, слишком склонных получать поощрения за то, что они подталкивают других к speed-up [83]83
Ускорение или увеличение выпуска продукции (англ.).
[Закрыть].
Самокритика Альфы была написана весьма хитроумно. Можно признать ее классическим высказыванием писателя, который отрекается от прошлого во имя Новой Веры. Ее перевели на другие языки, ее печатали сталинские издания на Западе. Альфа осудил в этой статье свои давние книги. Он употребил при этом особый прием: он открыто признал то, что давно думал про себя о недостатках своих произведений; чтобы обнаружить эти недостатки, отнюдь не нужен был Метод; Альфа знал эти недостатки прежде, чем приблизился к марксизму; теперь он свое умение увидеть их приписал преимуществам Метода. Каждый хороший писатель знает, что дать себя обольстить красиво звучащим и эмоционально действенным словам, но пустым понятиям – это плохо. Альфа утверждал в своей статье, что он совершил эти ошибки потому, что не был марксистом. Он давал также понять (в соответствии с заповедью смирения), что не считает себя писателем коммунистическим, а только таким, который лишь старается овладеть Методом, этим высшим искусством. Обращал на себя внимание в статье высокопарный тон, приподнятый тон, свойственный Альфе всегда. Этот тон заставлял подозревать, что, осуждая свои ошибки, Альфа продолжал совершать их далее: он любовался складками своего священнического облачения.
Как бывшему католику Партия доверила Альфе функцию произнесения речей против политики Ватикана. Вскоре затем Альфа был приглашен в Москву. По возвращении он опубликовал книгу о «советском человеке» [84]84
Анджеевский Е. О советском человеке. Впечатления о пребывании в СССР (Варшава, 1951).
[Закрыть]. Доказывая, что истинно свободным человеком является только гражданин Советского Союза, Альфа и в этот раз притязал на пальму первенства. Его коллеги, пишущие похвалы Центру, хотя и знали, что такого рода рассуждение диалектически правильно, – до того времени не пользовались этим приемом. В литературном гетто Альфа не был любим. Я говорю «в гетто», потому что, несмотря на высокие тиражи книг и выезды на заводы, писатели замкнуты были теперь в своих писательских домах и в клубах не меньше, чем до войны в литературных кафе. Его коллеги, завидуя его успехам, которыми он был обязан благородству своего тона, называли его «блудницей с принципами».
Сурово осуждать Альфу мне трудно. Я сам был на этом пути, этот путь выглядит неизбежным. Я думаю, то, что сделало наши судьбы разными, таилось в небольшом различии наших реакций в тот момент, когда мы посетили развалины разрушенной Варшавы, и тогда, когда мы смотрели на заключенных.
Я чувствовал, что писать об этих вещах для меня невозможно: возможно было бы только высказать целую правду, а не ее часть. То же самое, впрочем, я чувствовал, участвуя в событиях, которые происходили во время нацистской оккупации в Варшаве: любая форма описания могла быть для них применена за исключением «fiction» [85]85
«Выдумка, вымысел, фикция», но также «художественная литература, художественная проза» (англ.).
[Закрыть]. Я припоминаю, что, когда Альфа читал нам в зачумленном городе свои рассказы, эксплуатировавшие тему «по горячим следам», мы чувствовали странное смущение: их композиция была слишком гладкой. Тысячи людей умирали тут же рядом под пыткой, поэтому транспонирование этих страданий сразу же в трагическую театральность казалось нам нескромным. Иногда лучше заикаться от избытка волнения, чем говорить округлыми фразами. Внутренний голос, который нас удерживает, когда нужно выразить слишком много, – мудр. Я могу допустить, что Альфа не знал этого голоса. Только страсть к правде могла бы уберечь его, чтобы он не стал тем, чем стал. Он, правда, не написал бы тогда своего романа о старом коммунисте и деморализованной молодежи; сострадание к ней он позволил себе там в пределах безопасных в отношении цензуры и получил признание, упрощая картину событий согласно пожеланиям Партии. Одно отступление от правды влечет за собой другое и третье, пока, наконец, все, что ты говоришь, не станет уже великолепно логичным, закругленным и замкнутым, но уже ничего общего не имеет с кровью и плотью людей. Это оборотная сторона медали диалектики: за умственный комфорт, который она дает, нужно платить. Вокруг Альфы жили и живут многочисленные рабочие и крестьяне, слова которых неуклюжи, но в конечном счете внутренний голос, который они слышат, не отличается от того наказа, который часто замыкает писателям уста и требует: все или ничего. Может быть, никому неведомый крестьянин или маленький почтовый чиновник должны быть поставлены выше в иерархии заслуг перед человеческим родом, нежели Альфа – моралист.








