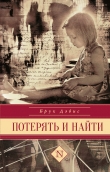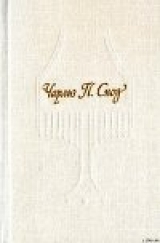
Текст книги "Пора надежд"
Автор книги: Чарльз Перси Сноу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
С прозорливостью глубоко несчастного человека я многое понял. Я понял, что он любит Шейлу. Я понял, что он торжествует, ибо Шейла избрала его сегодня своим спутником. И торжествуя от сознания, что Шейла предпочла его, он мне сочувствует. Но я понял и то, что это добрый, порядочный человек, не лишенный проницательности: он догадался, с какою целью Шейла привела его сюда, и сердился на нее за это. Ведь он ничего не знал, пока не увидел меня в гостиной и не сообразил, что Шейла пригласила меня раньше, чем его.
Так мы стояли, с трудом выдавливая из себя слова и проникаясь сочувствием друг к другу. При иных обстоятельствах мы могли бы стать друзьями.
Шейла кивком подозвала его. Я вышел вслед за ними, решив во что бы то ни стало поговорить с ней. Любая ссора, любая размолвка лучше, чем это молчание.
Но когда я вошел в холл, они уже надевали пальто и Шейла не отходила от Девита.
– Я довезу его до больницы, – сказала она мне. – Хотите, я вас тоже подвезу?
Я отрицательно покачал головой.
– Ну, как угодно. – Она пристально посмотрела на меня. – До скорой встречи.
Они вышли вместе. Я видел, как, прежде чем сесть в машину, Девит повернулся к Шейле, словно спрашивая ее о чем-то. Лицо у него было хмурое, но после ее ответа озарилось улыбкой.
Пока я слышал шум мотора, мне казалось, что Шейла еще не покинула меня. Но вот он наконец замер вдали, и я побрел домой тем же путем, каким четыре часа назад пришел сюда. Я был убит горем; однако, шагая через парк под низко нависшим, беззвездным небом, я временами не верил случившемуся, и тогда в душе моей вновь загоралась надежда, не уступавшая в яркости той, что преисполняла меня восторгом по дороге на вечер. Так человек, на которого свалилось несчастье, пытается иной раз обмануть себя счастливой мечтой.
Как слепой, вошел я к себе в комнату. При ярком свете ничем не затененной лампочки я увидел кресло, стол, кровать, но все это было безликим, как тьма, что окружала меня в ту бессонную ночь. Я много часов лежал, уставясь в эту тьму, и то одно, то другое чувство всевластно и безраздельно овладевало мной, – они сменяли друг друга, как жар сменяет при болезни озноб.
Мне хотелось рыдать, но слез не было. Я катался по постели, обуреваемый страстной тоской. Потом во мне вдруг вспыхивал гнев, и я готов был собственными руками задушить Шейлу.
Мне уже пришлось однажды столкнуться с унижением – в то утро, когда я вручил учителю ассигнацию в десять шиллингов, которую дала мне мама, – и сейчас, ночью, я вспомнил об этом. Вообще я не страшился унижений и не наталкивался на них. Я ведь не походил на Джорджа Пассанта, которому казалось, что его за каждым углом ждут оскорбления, и который остро переживал малейший пустяк. До сих пор жизнь моя в этом отношении складывалась довольно удачно, ибо мне не пришлось испытать многих мелких унижений. Но сейчас, когда страдание настигло меня, уязвленное самолюбие заговорило во весь голос, и, кипя от горечи, я поклялся положить конец знакомству с Шейлой, никогда больше не встречаться с нею и вообще вести себя так, будто ее никогда не было в моей жизни.
Однако, повернувшись на другой бок и тщетно моля судьбу послать мне сон, я уже надеялся – да, да, надеялся, – что найду объяснение, которое поставит все на свое место. Это вышло случайно, уверял я себя; Шейла – странная девушка, она живет по каким-то своим понятиям: она была где-то с Девитом и прихватила его с собой. Появление его у Иденов объясняется очень просто. С глупой педантичностью влюбленного я припоминал каждое слово, каким мы обменялись с той минуты, как она пригласила меня к Иденам, и, отказавшись во имя надежды от враждебных чувств к ней, доказывал себе, что все это лишь случайное совпадение, а вовсе не подстроено заранее. Завтра, нет, скорее всего послезавтра я получу от нее письмо, которое разрешит загадку. Возможно, Шейла даже не подозревает, как я обижен. Ведь у Иденов она держалась со мной дружески, как ни в чем не бывало, словно мы скоро увидимся. И она не выказывала никакого предпочтения Девиту. Даже ни разу нежно не взглянула на него.
Потом во мне заговорила ревность. Куда Шейла с ним поехала? Может, он целовал ее? А может, даже спал с нею? Кто знает, может, сейчас, когда я мечусь здесь в бессоннице, они сжимают друг друга в объятиях? Впервые мои думы о Шейле были окрашены чувственностью, воображение рисовало мне картины, от которых я не знал, куда спастись.
Ночь тянулась без конца, медленно тикали часы – гораздо медленнее, чем билось мое сердце. Я снова пришел к выводу, что все было подстроено заранее. Снова все с той же педантичностью, но уже с иной целью перебирал я в памяти каждое слово, сказанное Шейлой после того, как она пригласила меня: как она волновалась, когда впервые заговорила со мной об этом, каким возбужденным тоном сообщила мне по телефону, что опоздает. Ее поступок был верхом жестокости. Тогда, в детстве, я был унижен жестоко, но без злого умысла, теперь же я столкнулся с преднамеренной жестокостью – жестокостью любви. Отдавал ли я себе в ту ночь отчет, что прощаюсь с порой невинности? Выходка Шейлы сорвала с любви многое, чем я ее наделял, и во мраке ночи увидел в душе Шейлы и в своей собственной черную пропасть ненависти, от которой даже сейчас, при всем своем горе, в ужасе отшатнулся. Я всегда знал о ее существовании, но пытался не замечать ее. Теперь же Шейла заставила меня заглянуть в эту пропасть.
Начало заниматься серенькое зимнее утро, и все мои ночные раздумья свелись к двум мыслям. Во-первых, я думал о том, что должен выбросить Шейлу из головы, забыть самое ее имя; и чем больше меня одолевала усталость, тем больше я склонялся к этому решению. А во-вторых, я задавался вопросом, скоро ли Шейла напишет мне, чтобы я снова мог ее увидеть.
Глава 23
ПОД ОСВЕЩЕННЫМИ ОКНАМИ
Прошло несколько дней. Я сидел у себя над книгами, но между моими глазами и текстом то и дело возникала пелена. И когда эта пелена появлялась, я вспоминал какую-нибудь, фразу, сказанную Шейлой, и мысль моя начинала работать, как в ту бессонную ночь. Учебники лежали раскрытые, но я не мог заставить глаза прорвать пелену.
А Шейла не подавала признаков жизни; дни шли за днями, но она не появлялась, и письма от нее все не приходило. Я договорился с Джорджем и Джеком встречать вместе Новый год, однако после первого же бокала вина Джордж ушел, заявив, что у него «важное свидание», и мы с Джеком остались одни.
– Должно быть, завел себе новую даму сердца, – заметил Джек. – Пожелаем ему удачи!
Мы стали решать, как провести новогоднюю ночь. Джек считал, что лучше всего пойти в дансинг и подцепить там двух девушек. Но стоило ему это сказать, как я вспомнил фразу, однажды брошенную Шейлой: «Мы сбежали в дансинг», и испугался того, что могу столкнуться там с нею, хотя шансов на встречу было ничтожно мало.
Я предложил остаться в кабачке. Джеку мое предложение не улыбалось, но по мягкости характера он уступил. Для него это было настоящее самопожертвование. Ведь в наших попойках с Джорджем он участвовал только потому, что был компанейский парень и ему нравилось наше общество.
Слегка морщась, он любезности ради потягивал виски. В вознаграждение за его уступчивость я решил объяснить, почему я не пошел в дансинг. К тому же мне хотелось поговорить с ним по душам: я знал, что могу рассчитывать на его сочувствие, а отчасти и на понимание. Однако едва я раскрыл рот, как уязвленное самолюбие одержало во мне верх над всем остальным, и история, которую я ему рассказал, получилась такая ничтожная, такая нелепая, что он, конечно, не мог догадаться ни о моем унижении, ни о том, какая пустота с каждым днем все больше наполняет мне душу. И все же мне стало легче, – может быть, даже легче, чем если бы я открыл ему всю правду.
– Э, милые бранятся, только тешатся, – заметил Джек.
– Я тоже так думаю, – согласился я.
– Зато как приятно, когда помиришься.
Он улыбнулся мне.
– Прояви твердость, – посоветовал он. – Потребуй, чтобы она извинилась. Надери ей уши, как маленькой девчонке. А потом будь с ней поласковее. – Джек помолчал немного и продолжал: – В общем ничего страшного, не надо только на это трагически смотреть. Но будь осторожен, Льюис! А то достанутся тебе одни страдания и никакого удовольствия! Нужно заставить ее сдаться. Я сейчас расскажу тебе, как у меня это вышло на прошлой неделе…
Последние минуты 1925 года я провел, слушая рассказ Джека Коутери о превратностях и тактике любовных интрижек, о том, как он добился успеха при самых неблагоприятных обстоятельствах, о постигшей его вначале забавной неудаче, о том, как он плакал и как эти слезы перешли во вздохи блаженства. Внимая его красноречивому повествованию, я несколько утешился и даже почти поверил, что так же благополучно все обернется и у меня.
Прошли первые дни января. От Шейлы – ни слова. Голос благоразумия во мне умолк, и я принялся писать ей письмо. Но тут заговорило самолюбие, и письмо было порвано. Когда меня тяготила бессонница, я заставлял себя встать и взяться за работу. Я понятия не имел о том, как долго может длиться такое состояние, ведь у меня не было в этих делах никакого опыта. Я продолжал работать – «как машина», дразнил меня высокий звонкий голос, самый пронзительный на свете. Занимался я до тех пор, пока хватало сил, а потом спал допоздна. Я всегда жил следующим днем.
Еще до рождества наш кружок решил съездить на ферму в первую субботу нового года. Я обещал тогда, что присоединюсь к компании. Но сейчас мне не хотелось быть на людях, и я оказал Джорджу, что не смогу поехать.
– Ты начинаешь пренебрегать своими обязанностями, – сухо заметил он.
Но порою я жадно искал общения с людьми. Тогда я шел в кабаки, вступал в разговор с официантками и проститутками и, казалось, готов был на все за одну улыбку. В одну из таких минут я снова изменил свое решение насчет поездки на ферму. В пятницу вечером я разыскал Джорджа и заявил, что передумал.
– Очень рад, что к тебе вернулся здравый рассудок, – буркнул Джордж. И приличия ради спросил: – Надеюсь, на личном фронте у тебя все в порядке?
Эта суббота оказалась для Джорджа великим днем. Кружок был в полном составе, и Джордж мог вдоволь наслаждаться преклонением своего «мирка», окруженный людьми, которых он любил и о которых пекся, с которыми переставал быть застенчивым, колючим, подозрительным, злым. Здесь, на ферме, среди друзей, нервы Джорджа успокаивались и пробуждались его лучшие качества. Он был прирожденным вожаком, однако в силу некоторых особенностей своей натуры держался всегда в тени, являясь, так сказать, вождем несостоявшегося мятежа. Человек это был странный, до того странный, что многие считали его чуть ли не сумасшедшим. Однако все, кто знал его близко (в том числе и те, кто не слишком его уважал), безоговорочно признавали, что он создан для великих свершений.
В тот вечер Джордж был, как никогда, в ударе. Мы сидели за ужином вокруг стола, на котором лежал золотистый кружок от керосиновой лампы, и внимательно вслушивались в каждое его слово; стоило ему заговорить, как прекращались все споры, всякая, пусть даже самая занимательная, болтовня. Говорил он главным образом о свободе, утверждая, что при желании (а в наличии его у нас он не сомневался) мы можем создать уже для наших детей счастливейшую жизнь на земле. И достичь этого можно не только путем переустройства общества, где все люди будут обладать равными возможностями, но и воспитывая наших детей в идеалах свободы и счастья.
– Добро в человеке неизмеримо сильнее зла, – заключил Джордж. – Мы всегда должны помнить об этом, что бы с нами ни случилось!
Все были взволнованы, ибо говорил он с большим чувством, Он как бы давал нам наказ – наказ человека, упорно боровшегося со злом в самом себе. Джек, наиболее разнузданный среди нас, возразил ему, что зло может быть очень прельстительным.
– Я не это подразумеваю под злом, – рявкнул на него Джордж. – Добрая половина бед от того и происходит, что из века в век попы, родители и ученые мужи пытались сделать людей несчастными, взваливая на них бремя вины за первородный грех!
Я почти не вмешивался в беседу, так как мысли мои были заняты другим: я вспоминал о том ужине, когда я вернулся на ферму промокший до нитки, но внутренне согретый ощущением счастья. На минуту я стряхнул с себя груз собственных забот и посмотрел на Джорджа. Я знал, что бремя этой вины отягощало его больше, чем кого-либо из нас, – потому-то он и добивался нашего самораскрепощения.
После ужина кружок разбился на мелкие группки. Мы с Мэрион сели поболтать в эркере. Она только что вернулась после рождественских каникул, и мы не виделись с ней три недели.
– Мне нужна ваша помощь, – сразу же заявила она.
– Чем же я могу вам помочь?
– Я хочу, чтобы вы разрешили одну проблему, – сказала она и вдруг спросила: – О чем это вы сейчас думали?
– Так что же это за проблема, Мэрион? – ответил я вопросом на вопрос.
– Ладно, проблема подождет. О чем же вы думали? Я никогда не видела у вас такого отсутствующего взгляда.
– Я думал о Джордже.
– Так ли? – с сомнением спросила Мэрион. – Когда вы думаете о ком-то, вы смотрите на этого человека, смотрите так, точно хотите пронзить его вашими дурацкими глазами. А сейчас вы не смотрели на Джорджа. Вы вообще ни на кого не смотрели.
Я успел собраться с мыслями и сказал ей, что сопоставлял слова Джорджа о свободе с проблемой первородного греха. В другое время Мэрион поинтересовалась бы моим мнением на этот счет, ибо она любила слушать мои высказывания о людях. Но сейчас она увидела в моих словах только отговорку и рассердилась, что я вожу ее за нос.
– Господи, и когда вы только научитесь завязывать галстук! – без всякой связи с предыдущим вдруг нетерпеливо воскликнула она. – Это же просто позор.
Это был крик души, оскорбленной тем, что я не захотел ей открыться. Мне стало стыдно: ведь я был очень привязан к Мэрион. Но, с другой стороны, ее назойливое желание проникнуть в мои мысли заставило меня острее почувствовать мое горе. Я весь внутренне сжался и лишь большим усилием воли удержал готовую слететь с языка резкость.
– Кто бы говорил об этом, только не вы, – шутливо заметил я, превращая разговор в веселую пикировку по поводу взаимной небрежности в одежде.
Джек, болтавший неподалеку с одной из девушек, усиленно прислушивался к нашему разговору. Однако, не обнаружив в наших словах никакого тайного смысла, он отошел.
Я напомнил Мэрион, что она хотела о чем-то меня спросить.
– Вас это никак не может интересовать, – заметила она.
– Напротив, меня это очень интересует, – настаивал я.
Она колебалась, но в конце концов не вытерпела, ибо ей очень хотелось поделиться со мной. Так вот; ей предложили место учительницы в родном городе. Место неплохое: школа расположена в самом центре. И если она намерена стать педагогом, то глупо от такого предложения отказываться. Ведь она могла бы жить с сестрой и сэкономить на этом немало денег.
Мэрион хотелось услышать от меня отнюдь не мое мнение о том, правильно ли она поступает, – ей хотелось только, чтобы я сказал: «Не уезжай!» Но я не мог этого сказать, и по мере того, как она говорила, мне все больше становилось не по себе, я даже почувствовал угрызения совести. Меня угнетало то, что в разговоре с нею я не ощущаю той легкости, с какою мог балагурить с Шейлой. Я вдруг стал косноязычен и с трудом выдавливал из себя слова. Обычная непринужденность покинула меня. Я сознавал, что, если Мэрион уедет, мне будет ее недоставать, я даже буду скучать по ней – ведь я всегда мог найти у нее поддержку. Однако, сознавая это, я все же попытался с полной беспристрастностью высказать ей свое мнение, а она возмущенно смотрела на меня и возражала резко, отрывисто. Я старался думать только об ее интересах, но именно поэтому она не желала слушать меня и не могла мне простить.
– Эй, Льюис, как насчет моциона? – весело окликнул меня Джордж.
Это было условное обозначение, придуманное Джорджем, который считал необходимым соблюдать в присутствии молодых женщин своеобразный этикет. Под «моционом» подразумевалась прогулка до ближайшего кабачка, где мы проводили часок-другой, а затем возвращались на ферму и спорили до утра. В этот вечер я охотно расстался с компанией. Кроме нас с Джорджем, никто не двинулся с места, и мы отправились в кабачок вдвоем.
– Джордж, – сказал я вдруг, подчиняясь возникшему во мне властному побуждению, – я покину тебя на часок. Мне надо пройтись.
Сначала Джордж был озадачен, но, быстро смекнув, в чем дело, со свойственным ему тяжеловесным тактом сказал:
– Вполне понимаю тебя, дружище! Вполне понимаю! – И он сочувственно и удовлетворенно хихикнул. Затем в своей излюбленной витиеватой манере добавил; – Я полагаю, ты поручишь мне разработку известных тонкостей, диктуемых предосторожностью? Если мы вернемся на ферму вместе, то у наших друзей едва ли будут серьезные основания полагать, будто ты уходил куда-то и занимался… м-м… чем-то другим.
Вопреки его предположению, у меня и в мыслях не было встречаться с Шейлой. Я шел в темноте по тропинкам, влекомый к ее дому неким инстинктом. Я бы и сам не мог сказать, зачем я туда иду, только чем ближе я подходил к ее дому, тем легче мне становилось. Я понимал, что не должен видеть Шейлу. Остатки благоразумия и гордости подсказывали мне, что встреча с нею будет равносильна катастрофе. Однако сейчас, уступив этому порыву, который увлекал меня по дорогам и тропинкам к дому Шейлы, шагая по тем самым полям, которые я впервые видел сквозь сетку дождя, когда все во мне пело от радости, я почувствовал в душе такую умиротворенность, какой не знал с сочельника. Умиротворенность эта была непрочная, она могла в любую минуту развеяться, и тем не менее сознание, что я приближаюсь к Шейле, рождало во мне иллюзию, будто все в порядке.
На улице поселка я поднял воротник пальто. Мне не хотелось, чтобы меня узнали, если я случайно столкнусь с отцом или с матерью Шейлы. Я держался в тени, подальше от света, падавшего из окон коттеджей. Сквозь двери бара до меня донеслись громкие, хриплые голоса, распевавшие какую-то песню. Я миновал ворота кладбища – на фоне звездного неба четко вырисовывался темный шпиль кладбищенской часовни. Но вот и яркие огни дома викария. Я остановился у подъездной аллеи и, прислонившись к дереву, постарался укрыться в его тени, чтобы меня не увидели из машины, если она ненароком выедет из ворот. Так я стоял – без цели и смысла. Над освещенными окнами гостиной светилось еще одно окно. Я понятия не имел, где находится комната Шейлы. Возможно, это и есть окно ее комнаты – реальной, а не воображаемой, которую я рисовал себе в дни первых восторженных порывов любви? Возможно, и сама Шейла сидит сейчас там, укрывшись от назойливых поклонников, от всех, кто смущает ее покой? Возможно, сейчас, в эту самую минуту, она пишет мне письмо?
Ни одной тени не промелькнуло в окне, пока я наблюдал за ним. Я не чувствовал холода. Трудно сказать, сколько времени протекло. Наконец я оторвался от созерцания окна и, по-прежнему держась в тени, зашагал по улице поселка.
Глава 24
ПОСЛЕДНИЕ ЗАПОРЫ ОТОМКНУТЫ
По ночам меня снова мутила бессонница. Днем я то и дело отрывался от учебника и подолгу глядел на крыши. Все мои желания свелись к одному – снова увидеться с Шейлой. Я уже несколько оправился от удара, который она нанесла мне в сочельник, и боль в душе у меня притупилась, ну а самолюбие не обладает такой сдерживающей силой, которая могла бы помешать мне взяться за перо и с наслаждением вывести: «Любимая моя Шейла!» Однако я почему-то не делал этого.
Прошло несколько дней с того субботнего вечера, когда я стоял под окнами ее дома. Позади уже понедельник, вторник, среда. Как мне хотелось, чтобы у нас с Шейлой был хотя бы один общий знакомый, у которого я мог бы что-то узнать о ней, которому мог бы, будто невзначай, сказать, что жду с нею встречи. Мне думалось, что такой знакомый помог бы нам обоим, замолвив ей за меня словечко. Но, помимо нас самих – и я в сущности рад был, что это так, ибо нам не на кого было пенять и, значит, оставалась надежда, что еще можно все изменить, – никто не мог напомнить нам друг о друге, мы не слышали никаких разговоров на наш счет. Мои друзья принадлежали к совсем другому миру, чем Шейла, почти не знали ее и лишь питали к ней неприязнь; а ее знакомых я вообще не знал.
Мне безумно хотелось разведать все, что можно, о Томе Девите. Впиваясь ногтями в ладони, я гнал мысли о нем, старался забыть и его, и сценку, разыгравшуюся у Иденов, и мои тогдашние переживания. Однако в понедельник, после возвращения с фермы, я поймал себя на том, что выискиваю предлог, чтобы зайти в читальню. Оказывается, мне неясен один вопрос, который якобы недостаточно освещен в учебниках. В читальне я быстро нашел нужный материал, хотя вполне мог бы этим не заниматься, так как вопрос был пустячный и утруждать себя из-за него не было нужды. Затем я как бы невзначай принялся шарить взглядом по полке с биографическими словарями и справочниками Уиттэкера, Крокфорда (где я давно уже почерпнул все необходимые сведения о преподобном Лоренсе Найте) и других. Почти машинально взял я с полки Медицинский справочник. Вот он: «Девит Э. Т. Н.» Буквы, составлявшие это имя, казались мне особенно четкими, даже какими-то выпуклыми. В справочнике не было указано, когда Девит родился, зато сообщалось, что медицину он изучал в Лидсе, звание врача получил в 1914 году (когда нам с Шейлой было по девять лет, с завистью подумал я), во время войны служил в армии врачом, был награжден Военным крестом (тут меня снова кольнула зависть). После войны Девит занимал различные должности в больницах; с 1924 года работает врачом-регистратором. Я понятия не имел, что означает та или иная больничная должность, как не знал и того, что такое регистратор. А мне хотелось бы знать, сделал ли Девит хорошую карьеру и какая его ждет будущность.
Четверг выдался солнечный и холодный, как это нередко бывает в начале января. Я работал у себя в комнате, плотно запахнувшись в пальто и закутав ноги одеялом. По временам я отрывался от тетради, в которой делал записи, и, поскольку стол находился у самого окна, смотрел на черепичные крыши, посеребренные тусклым зимним солнцем.
Неожиданно на лестнице, ведущей в мою мансарду, послышались шаги. Раздался резкий стук в дверь, и она широко распахнулась. В комнату вошла Шейла. Закрыв за собой дверь, она сделала два шага и остановилась, пристально глядя на меня немигающим взглядом. Лицо у нее было бледное, без тени улыбки, руки опущены. Я забыл обо всем на свете, кроме того, что она здесь, у меня, и, вскочив со стула, раскрыл ей объятия. Но Шейла не шевельнулась; застыл на месте и я.
– Я пришла вас навестить, – сказала она.
– Так, – пробормотал я.
– Я ведь не видела вас с того вечера. Вы все еще ломаете голову над тем, что произошло? – Голос ее звучал громче обычного.
– Я не могу не думать об этом.
– Так знайте: я сделала это нарочно!
– Но почему?
– Потому что вы злили меня! – Глаза ее были неподвижно устремлены на меня, их блеск меня гипнотизировал. – И пришла я вовсе не для того, чтобы извиняться.
– А надо бы, – сказал я.
– Извиняться мне не в чем! – Шейла еще больше повысила голос. – Я рада, что так поступила.
– Что это значит? – спросил я, начиная сердиться.
– То, что я уже сказала: я рада, что так поступила.
Мы стояли на расстоянии ярда друг от друга. Руки ее были по-прежнему опущены, она словно оцепенела.
– Можете ударить меня, – сказала она.
Я посмотрел на нее: в глазах ее что-то блеснуло.
– Вы должны меня ударить, – настаивала Шейла.
Из окна за моей спиной лился яркий свет, и я увидел, как белки ее глаз покраснели, увлажнились, и слезы медленно поползли-по щекам. Но она даже не пыталась вытереть их. Плакала она беззвучно, застыв, словно изваяние; лицо ее утратило свое жесткое, свирепое выражение, как утратило и красоту, я его не узнавал.
Я обнял ее за плечи и осторожно повел к кровати – единственному месту, где я мог ее усадить. Шейла не сопротивлялась, но двигалась, как автомат. Я поцеловал ее в губы, вытер ей слезы и впервые признался в своем чувстве.
– Я люблю тебя, – сказал я.
– А я тебя не люблю, но верю в тебя! – вскричала Шейла тоном, расплавившим мне сердце.
Она вдруг обняла меня, крепко прижала к себе и в каком-то отчаянном порыве поцеловала. Затем она разжала объятия и, уткнувшись лицом в покрывало, снова заплакала. Плечи ее содрогались от рыданий, и на этот раз слезы, видимо, облегчили ей душу. Я сидел рядом с Шейлой на кровати и, держа ее за руку, ждал, пока она выплачется. В те минуты я проникся уверенностью, что наивная любовь, внушенная мне Шейлой, созданной моим воображением, по глубине своей не может идти ни в какое сравнение с той, которую я ощущал сейчас.
Я увидел в Шейле нечто пугающее, и все же, хотя завеса над сокровенными сторонами ее натуры приоткрылась, я продолжал любить ее. Но вместе с любовью во мне зашевелилась какая-то странная жалость, и я понял, что то смутное чувство, которое я ощутил в гостиной Найтов, было не чем иным, как предвестником этой жалости. У меня возникло ощущение беды, которая ждет ее и, конечно, меня: передо мной было сложное, ушедшее в себя существо, которого мне никогда не понять, – существо жестокое, раздираемое муками, которых я не сумею облегчить. И все же на душе у меня никогда еще не было так легко. Я любил Шейлу и верил, что она тоже любит меня хотя бы немножко, что мы будем с ней счастливы.
Она подняла голову, высморкалась и улыбнулась. Мы снова поцеловались.
– А ну-ка поверни голову, я полюбуюсь на тебя, – сказала она и с полунасмешливой, полупечальной улыбкой окинула меня взглядом. – Ну и вид же у тебя с губной помадой на щеках!
Я парировал ее насмешку, заметив, что теперь, во время поцелуя, я как следует разглядел ее и понял, что она вовсе не такая красивая, какой кажется издали: ни правильных пропорций, ни классических черт, – словом, самое обыкновенное лицо, сплющенное и несовершенное.
Затем я вернулся к ее выходке в сочельник.
– Зачем ты это сделала? – спросил я.
– Я злючка, – ответила Шейла. – Мне показалось, что ты уже считаешь меня своей собственностью.
– Собственностью? – изумленно воскликнул я.
– Ты слишком многого от меня требовал, – пояснила Шейла.
Мы сидели рядом, тесно прижавшись друг к другу. Я спросил о Томе, ревниво и в то же время самоуверенно.
– Ты его любишь? – спросил я.
– Нет, но очень хотела бы полюбить! – горячо воскликнула Шейла. – Он такой добрый! Но для меня он слишком хорош. Он лучше тебя!
– Он тебя любит, – сказал я.
– По-моему, он хочет жениться на мне. Но я никогда за него не выйду. Ведь я не люблю его. – И, помолчав немного, она добавила: – Иногда мне кажется, что я никогда и никого не полюблю. – Она притянула меня к себе и поцеловала. – Я и тебя не люблю, но верю в тебя. Помоги мне! Я верю, что ты мне поможешь! – И она еще раз повторила: – Я тебя не люблю, но верю в тебя!
Я заговорил о своей любви; слова лились легко и свободно – я просто не в силах был себя сдержать; захлестнутый безумной радостью, я говорил без умолку, как никогда еще не говорил ни с одним живым существом. Ее страстный призыв: «Помоги мне!» отомкнул последние запоры моего сердца. Я не понимал всего значения ее призыва, но не мог не откликнуться на него. Моя гордость, моя сдержанность – эти узы, сковывавшие меня, когда мама и Мэрион пытались завладеть моим сердцем, – исчезли. Я наконец увидел в Шейле человека, а не образ, созданный мечтой, и бремя моего я было сброшено. Захлебываясь от полноты чувств, я поведал Шейле обо всем, что пережил со дня нашего знакомства. Я казался самому себе другим человеком, способным поступиться всем на свете, кроме моей страстной любви к ней. В ее объятиях я забыл об окружающем меня мире, – в ушах моих лишь слабо звучал ее непонятный призыв.