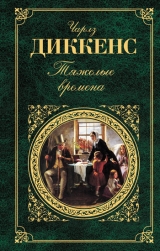
Текст книги "Тяжелые времена"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Глава VIII
Взрыв
Летнее утро выдалось такое чудесное, что жаль было тратить его на сон, и Джеймс Хартхаус, поднявшись спозаранку, расположился в уютной оконной нише своей комнаты, дабы насладиться редким сортом табака, некогда оказавшим столь благотворное действие на его юного друга. Греясь в лучах солнца, вдыхая восточный аромат своей трубки, следя за прозрачными струйками дыма, медленно таявшими в мягком, насыщенном летними Запахами воздухе, он подводил итог своим успехам, точно картежник, подсчитывающий вчерашний выигрыш. Против обыкновения он не испытывал ни малейшей скуки, и мысль его работала усердно.
Он завоевал ее доверие, узнал тайну, которую она скрывала от мужа. Он завоевал ее доверие потому, что, вне всяких сомнений, она не питала никаких чувств к своему мужу и между ними никогда не было и тени духовного сродства. Он искусно, но недвусмысленно дал ей понять, что знает все тончайшие изгибы ее души; он стал так близок ей, через ее самую нежную привязанность; он пристегнул себя к этой привязанности; и преграда, за которой она жила, растаяла. Все это очень удивительно и очень недурно!
А между тем и сейчас еще он не замышлял ничего дурного. Куда лучше было бы для века, в котором он жил, если бы он и легион ему подобных наносили вред семье и обществу преднамеренно, а не по равнодушию и беспечности. Именно о дрейфующие айсберги, которые уносит любое течение, разбиваются корабли.
Когда дьявол ходит среди нас аки лев рыкающий, он ходит во образе, который, кроме дикарей и охотников, может соблазнить лишь немногих. Но когда он принаряжен, отутюжен, вылощен по последней моде; когда он пресыщен пороком, пресыщен добродетелью и до такой степени истаскан, что ни для ада, ни для рая не годится; вот тогда – занимается ли он волокитой или волокитством, – тогда он сущий дьявол.
Итак, Джеймс Хартхаус сидел в оконной нише, лениво посасывая трубку, и подсчитывал каждый шаг, сделанный им на пути, по которому, волею судеб, он следовал. Куда это заведет его, он видел с достаточной ясностью, но конечная цель пути его не тревожила. Что будет, то будет.
Так как ему предстояла долгая поездка верхом, – в нескольких милях от усадьбы ожидалось публичное собрание, где он намеревался, придравшись к случаю, поратовать за партию Грэдграйнда, – то он рано совершил туалет и спустился вниз к завтраку. Ему не терпелось проверить – а что, если она за ночь опять отдалилась от него? Нет. Он мог продолжать свой путь с того места, где остановился накануне, – она снова подарила его приветливым взглядом.
Проведя день более или менее (скорее менее) приятно, насколько это было возможно при столь утомительных обстоятельствах, он в шесть часов пополудни возвращался обратно. От ворот усадьбы до дома было с полмили, и он ехал шагом по ровной, посыпанной гравием дорожке, когда-то проложенной Никитсом, как вдруг из-за кустов выскочил мистер Баундерби, да так стремительно, что лошадь Хартхауса шарахнулась.
– Хартхаус! – крикнул мистер Баундерби. – Вы слышали?
– Что именно? – спросил Хартхаус, оглаживая свою лошадь и мысленно отнюдь не желая мистеру Баундерби всех благ.
– Стало быть, вы не слышали!
– Я слышал вас, и не только я, но и моя лошадь. Больше ничего.
Мистер Баундерби, потный и красный, стал посреди дороги перед мордой лошади, дабы его бомба разорвалась с наибольшим эффектом.
– Банк ограбили!
– Не может быть!
– Ограбили этой ночью, сэр. Ограбили очень странным образом. Ограбили с помощью подделанного ключа.
– И много унесли?
Мистер Баундерби так сильно желал изобразить случившееся событием необычайной важности, что отвечал даже с некоторой обидой:
– Да нет. Не так чтобы очень много. Но ведь могли бы и много.
– Сколько же?
– Ежели вам так уж непременно хочется узнать сумму, то она не превышает ста пятидесяти фунтов, – с досадой сказал Баундерби. – Но дело не в украденной сумме, а в самом факте. Важен факт – произошло ограбление банка. Удивляюсь вам, что вы этого не понимаете.
– Дорогой мистер Баундерби, – сказал Джеймс, спешиваясь и отдавая поводья своему слуге, – я отлично это понимаю и до такой степени потрясен картиной, которая открылась моему внутреннему взору, что лучшего вы и пожелать не можете. Тем не менее, надеюсь, вы позволите мне поздравить вас – и, поверьте, от всей души, – что понесенный вами убыток не столь уж велик.
– Благодарствуйте, – сухо обронил Баундерби. – Но вот что я вам скажу – могли бы унести и двадцать тысяч фунтов.
– Вероятно.
– Вероятно! Еще как, черт возьми, вероятно! – воскликнул мистер Баундерби, свирепо мотая и тряся головой. – Ведь могли унести и дважды двадцать тысяч. Даже и вообразить нельзя, что могло бы случиться, ежели бы грабителям не помешали.
Тут к ним подошла Луиза, а также миссис Спарсит и Битцер.
– Вот дочь Тома Грэдграйнда, не в пример вам, отлично понимает, что могло бы быть, – похвастался Баундерби. – Упала как подкошенная, когда я сказал ей! В жизни с ней этого не бывало. Но ведь и случай-то какой! Я так считаю, что это делает ей честь, да-с!
Она все еще была бледна и едва держалась на ногах. Джеймс Хартхаус настоял, чтобы она оперлась на его руку, и медленно повел ее к дому; по дороге он спросил, как произошло ограбление.
– А я вам сейчас скажу, – вмешался Баундерби, сердито подавая руку миссис Спарсит. – Ежели бы вас так страшно не занимала украденная сумма, я уже давно сообщил бы вам подробности. Вы знакомы с этой леди (слышите, леди!), миссис Спарсит?
– Я уже имел удовольствие…
– Отлично. И этого молодого человека, Битцера, вы тоже видели в тот раз? – Мистер Хартхаус утвердительно наклонил голову, а Битцер стукнул себя по лбу костяшками пальцев.
– Отлично. Они живут при банке. Может быть, вам известно, что они живут при банке? Отлично. Вчера вечером, перед закрытием, все было убрано, как всегда. В кладовой, возле которой спит этот малый, лежало… неважно, сколько. В маленьком сейфе, в комнате Тома, где хранятся деньги на мелкие расходы, лежало около ста пятидесяти фунтов.
– Сто пятьдесят четыре фунта семь шиллингов один пенс, – подсказал Битцер.
– Ну-ну! – оборвал его Баундерби, круто поворачиваясь к нему. – Потрудитесь не прерывать меня. Хватит того, что меня ограбили, пока вы изволили храпеть – уж больно вам сладко живется. Так уж не лезьте со своими семь шиллингов один пенс. Я-то сам не храпел в ваши годы, могу вас уверить. На пустое брюхо не захрапишь. И не совался никого поправлять, а помалкивал, хоть был не глупее других.
Битцер угодливо стукнул себя по лбу, всем своим видом показывая, что такое стоическое воздержание мистера Баундерби одновременно и поразило и сразило его.
– Около ста пятидесяти фунтов, – повторил мистер Баундерби. – Том-младший запер деньги в свой сейф, – не очень надежный сейф, но не в этом дело. Все было оставлено в полном порядке. А ночью, пока этот малый храпел… миссис Спарсит, сударыня, вы говорите, что слышали, как он храпел?
– Сэр, – отвечала миссис Спарсит, – я не могу сказать с уверенностью, что слышала именно храп, и следовательно, не берусь утверждать это. Но зимними вечерами, когда ему случалось уснуть за своим столом, я иногда слышала хрипы, похожие на те, какие издает человек, страдающий удушьем. И еще я слышала шип, который позволю себе уподобить звукам, нередко исходящим от стенных часов. Однако, – продолжала миссис Спарсит с горделивым сознанием, что она добросовестно исполняет свой долг беспристрастной свидетельницы, – я отнюдь не хочу бросить тень на его нравственность. Напротив, я всегда считала Битцера молодым человеком самых высоких моральных правил; прошу учесть эти мои слова.
– Короче говоря, – едва сдерживая ярость, сказал Баундерби, – пока он храпел, или хрипел, или шипел, или уж не знаю что еще делал, – словом, пока он спал, какие-то люди пробрались к сейфу Тома – спрятались ли они заранее в банке, или проникли туда ночью, еще не установлено, – взломали его и унесли все деньги. Тут им помешали, и они пустились наутек; открыли главный вход (дверь была заперта на два поворота, а ключ лежал у миссис Спарсит под подушкой) и вышли, снова заперев ее на два поворота подделанным ключом; его нашли сегодня около полудня на улице неподалеку от банка. Спохватились только утром, когда этот самый Битцер поднялся и начал прибирать помещение. И вот, посмотрев на сейф Тома, он видит, что дверца приотворена, замок сломан, а деньги исчезли.
– Кстати, где же Том? – спросил Хартхаус, озираясь.
– Он помогает полиции. – отвечал Баундерби, – и потому остался в банке. Попробовали бы эти жулики ограбить меня, когда я был в его годах! Ежели бы они всего восемнадцать пенсов вложили в это дело, и то остались бы в накладе; пусть так и знают.
– Подозревают кого-нибудь?
– Подозревают ли? Еще бы не подозревали! Будьте покойны! – сказал мистер Баундерби, выдергивая руку из-под руки миссис Спарсит, дабы вытереть вспотевший лоб. – Чтобы Джосайю Баундерби из Кокстауна обобрали и ни на кого не пало подозрение? Нет уж, спасибо!
Мистер Хартхаус полюбопытствовал, кого же именно подозревают?
– Уж так и быть, – отвечал Баундерби, остановившись и поворачиваясь ко всем лицом, – я вам скажу. Об этом не надо повсюду болтать – вернее, нигде об этом не надо болтать, – чтобы не спугнуть причастных к ограблению негодяев (их целая шайка). Так что я сообщаю вам мои подозрения по секрету. Слушайте. – Мистер Баундерби еще раз вытер лоб. – Что вы скажете… ежели тут замешан один из рабочих?! – взорвался он.
– Надеюсь, – равнодушно протянул Хартхаус, – не друг наш Блекпот?
– Он самый, – отвечал Баундерби, – только не пот, а пул.
У Луизы вырвался тихий возглас недоверчивого удивления.
– Да, да! Я знаю! – немедленно отозвался Бауни. – Знаю! Я к этому привык. Все слова знаю. Мол, лучше этих людей нет на свете. Болтать языком-то они горазды. Они, видите ли, хотят только одного – чтобы им объяснили, какие у них права. Но я заявляю вам: покажите мне недовольного рабочего, и я покажу вам человека, способного на любую подлость, любое злодеяние.
Это была еще одна фикция, имевшая хождение в Кокстауне, которую усердно распространяли и которой кое-кто искренне верил.
– Но я-то знаю этот народ, – продолжал Баундерби. – Я читаю в них, как в открытой книге. Миссис Спарсит, сударыня, я сошлюсь на вас. Разве не предостерегал я этого бунтовщика, когда он в первый раз пришел ко мне в дом и допытывался, как ему ударить по религии и сокрушить государственную церковь? Миссис Спарсит, по своим родственным связям вы ровня высшей знати, – скажите, говорил я или не говорил ему: «От меня вы не скроете правду; такие, как вы, мне не по душе, вы плохо кончите»?
– Несомненно, сэр, – отвечала миссис Спарсит, – вы очень убедительно внушали ему это.
– Он тогда возмутил вас, сударыня, – сказал Баундерби, – уязвил ваши чувства?
– Совершенно верно, сэр, – отвечала миссис Спарсит, смиренно покачав головой, – именно это он сделал. Впрочем, должна сказать, что, быть может, такая уязвимость – или, допустим, безрассудство, – не была бы присуща мне в столь большой степени, ежели бы я издавна занимала нынешнее свое положение.
Мистер Баундерби, чуть не лопаясь от спеси, в упор поглядел на мистера Хартхауса, как бы говоря: «Эта женщина – моя собственность и, я полагаю, достойна вашего внимания». Затем он продолжал свою речь.
– Да вы и сами, Хартхаус, можете припомнить, что я сказал ему, – вы были при этом. Я все ему выложил без обиняков. Я с ними не миндальничаю. Я их насквозь вижу. Так вот, сэр. Три дня спустя он удрал. Скрылся, – а куда, никто не знает. Точно как моя родительница во времена, моего детства – с той только разницей, что он, ежели только это возможно, почище ее злодей. А что он делал, прежде чем скрыться? (Мистер Баундерби говорил с расстановкой, сопровождая каждую фразу ударом кулака по тулье своей шляпы, которую держал в руке, – словно бил в бубен.) Вот, не угодно ли: его видели – каждый вечер – заметьте, каждый вечер – возле банка. – Он шатался там – когда же? – после наступления темноты. Миссис Спарсит поняла, что это не к добру – указала на него Битцеру, – они вдвоем стали следить за ним, а нынче мы узнали из расспросов, что и соседи приметили его. – Достигнув кульминационной точки своей тирады, мистер Баундерби жестом восточной танцовщицы надел бубен себе на голову.
– Подозрительно, – заметил Джеймс Хартхаус, – очень даже.
– Еще бы! – сказал Баундерби, воинственно вскинув подбородок. – – Еще бы не подозрительно. Но тут и другие приложили руку. Замешана какая-то старуха. Всегда так – спохватятся, когда уже поздно; как сведут лошадь с конюшни, – вот тут-то и обнаружат, что дверь плохо пригнана. Теперь вдруг оказывается, что какая-то старуха время от времени прилетала в город верхом на метле. И за день до того, как этот злодей стал околачиваться возле банка, она с утра до вечера подглядывала за моим домом, а когда он вышел от меня, она вместе с ним скрылась, и потом они держали совет – надо думать, старая ведьма отчитывалась перед ним.
«Была какая-то женщина в комнате Стивена, и она пряталась в темном углу», – подумала Луиза.
– И это еще не все, нам уже сейчас кое-что известно, – сказал Баундерби, таинственно тряся головой. – Но довольно, больше я теперь ничего не скажу. А вы, будьте любезны, помалкивайте, никому ни слова. Может быть, на это потребуется время, но они от нас не уйдут. Пусть погуляют до поры до времени, это делу не повредит.
– Разумеется, они будут наказаны по всей строгости закона, как пишут в объявлениях, – заметил Джеймс Хартхаус, – и поделом им. Люди, которые берутся грабить банки, должны нести ответственность за последствия. Не будь последствий, мы все бы это делали. – Он мягко взял у Луизы из рук зонтик и, раскрыв его, держал над ней, хотя они шли не по солнцу, а в тени.
– А теперь, Лу Баундерби, – обратился к ней ее супруг, – надо позаботиться о миссис Спарсит. Из-за этой истории у миссис Спарсит нервы расходились, и она дня два поживет здесь. Так что устрой ее поудобнее.
– Весьма признательна, сэр, – смиренно отвечала миссис Спарсит, – но, прошу вас, не хлопочите о моих удобствах. Мне ничего не нужно.
Однако именно неприхотливость миссис Спарсит явилась причиной беспокойства для всего дома, ибо она столь мало пеклась о себе и столь много о других, что очень скоро стала всем в тягость. Когда ей показали ее комнату, она была так потрясена ее великолепием, что невольно напрашивалась мысль, будто она предпочла бы провести ночь в прачечной, улегшись на каток для белья. Правда, Паулеры и Скэджерсы привыкли к роскоши; «но я почитаю своим долгом, – с достоинством говорила в таких случаях миссис Спарсит, особенно в присутствии слуг, – не забывать, что я уже не то, чем была когда-то. Скажу вам больше, – добавляла она, – ежели бы я могла окончательно вычеркнуть из памяти, что мистер Спарсит был Паулер, а я состою в родстве с семейством Скэджерс, или – еще лучше – ежели бы я могла отменить самый факт и превратиться в особу менее высокого происхождения и более заурядных родственных связей, я бы с радостью это сделала. Я считала бы, что в нынешних обстоятельствах я должна так поступить». Этот же подвижнический дух побудил ее отказаться за обедом от закусок и вин, предварительно заявив во всеуслышанье, что она «будет дожидаться обыкновенной баранины», и только после того, как мистер Баундерби прямо-таки приказал ей пить и есть, она произнесла «вы чрезвычайно добры, сэр» и переменила свое решение. Когда ей потребовалась соль, она просто не знала, куда деваться от стыда; а кроме того, чувствуя себя обязанной отплатить любезностью за любезность, она, дабы в полной мере оправдать свидетельство мистера Баундерби о состоянии ее нервов, время от времени откидывалась на спинку стула и безмолвно проливала слезы; и каждый раз при этом можно было видеть (или, вернее, нельзя было не видеть), как прозрачная капля величиной с хрустальную серьгу медленно ползла по ее римскому носу.
Но главной силой миссис Спарсит была и оставалась ее непоколебимая решимость жалеть мистера Баундерби. То и дело, глядя на него, она горестно качала головой, словно хотела сказать: «Увы, бедный Йорик!»[54]54
«Увы, бедный Йорик» – слова Гамлета, произнесенные над черепом покойного шута Йорика («Гамлет», акт V, си,. 1-я).
[Закрыть] Невольно выдав таким образом свои чувства, она заставляла себя приободриться и судорожно веселым голосом говорила: «Я рада, что вы не падаете духом, сэр!» – и всячески давала понять, какое это, по ее мнению, великое благо, что мистер Баундерби так легко несет свой крест. Была в ее поведении и еще одна странность, за которую ей неоднократно приходилось извиняться, но переломить себя она никак не могла. Она почему-то упорно называла миссис Баундерби «мисс Грэдграйнд» и в течение вечера оговорилась таким образом раз сто. Эта столь часто повторяемая ошибка в конце концов несколько смутила миссис Спарсит; но, право же, смиренно оправдывалась она, такое обращение для нее вполне естественно, между тем как представить себе, что мисс Грэдграйнд, которую она имела счастье знать в детстве, теперь и в самом деле миссис Баундерби, почти невозможно. И весьма примечательно, что чем больше она об этом думает, тем меньше ей это кажется возможным, – «при столь явном несоответствии», – заключила она.
После обеда, в гостиной, мистер Баундерби учинил суд над грабителями: допросил свидетелей, записал их показания, признал подозреваемых лиц виновными и приговорил их к высшей каре, предусмотренной законом. Засим он отпустил Битцера в город, поручив ему передать Тому, чтобы тот почтовым поездом воротился домой.
Когда внесли свечи, миссис Спарсит прошептала:
– Умоляю вас, сэр, не грустите. Я хочу видеть вас таким же веселым, каким вы были раньше.
Мистер Баундерби, который под воздействием этих попыток утешить его впал в совершенно несвойственное ему и оттого крайне нелепое элегическое настроение, тяжко и шумно вздохнул, словно некое морское чудовище.
– У меня душа за вас болит, – сказала миссис Спарсит. – Почему бы вам не сыграть в трик-трак[55]55
Трик-трак – старинная игра с фишками, передвигаемыми по расчерченной доске.
[Закрыть], сэр, как в былые дни, когда я имела честь жить с вами под одной кровлей.
– С той поры, сударыня, я не садился за триктрак. – отвечал мистер Баундерби.
– Да, сэр, – сочувственно сказала миссис Спарсит, – я это знаю. Я помню, что мисс Грэдграйнд никогда не любила трик-трак. Но ежели вы соизволите, сэр, я рада буду сыграть с вами.
Они сели играть у окна, выходящего в сад. Луна не показывалась, но вечер был теплый, почти душный, в воздухе стоял сильный аромат цветов. Луиза и мистер Хартхаус прогуливались по саду, и оттуда доносились их голоса, но слов разобрать нельзя было. Миссис Спарсит, сидя за доской трик-трака, то и дело напряженно смотрела в окно, пытаясь проникнуть взором в полутемный сад.
– Что там такое, сударыня? – спросил мистер Баундерби. – Уж не пожар ли вы видите?
– Что вы, сэр, нет, нет, – отвечала миссис Спарсит, – меня роса беспокоит.
– А какое вам дело до росы, сударыня? – спросил мистер Баундерби.
– Дело не во мне, сэр, – отвечала миссис Спарсит. – Я боюсь, как бы мисс Грэдграйнд не простудилась.
– Она никогда не простужается, – сказал мистер Баундерби.
– Вот как, сэр? – сказала миссис Спарсит.
И вдруг сильно закашлялась.
Когда пришло время ложиться спать, мистер Баундерби налил себе стакан воды.
– Что вы, сэр? – воскликнула миссис Спарсит. – А почему не подогретый херес с лимонной цедрой и мускатным орехом?
– Я уже отвык от этого, сударыня, – отвечал мистер Баундерби.
– Очень жаль, сэр, – сказала миссис Спарсит. – Я вижу, вы мало-помалу отказываетесь от всех своих добрых старых привычек. Но не печальтесь, сэр! Ежели мисс Грэдграйнд разрешит, я сейчас приготовлю вам стаканчик, как делала это столь часто в прошлом.
Так как мисс Грэдграйнд с величайшей охотой разрешила миссис Спарсит делать все, что угодно, то сия заботливая особа немедля приготовила питье для мистера Баундерби и вручила ему стакан со словами: «Это вам поможет, сэр. Душу согреет. Именно это вам нужно, не лишайте себя этого, сэр». А когда мистер Баундерби сказал: «Ваше здоровье, сударыня!» – она проникновенно ответила: «Благодарю вас, сэр. И вам того же, а также побольше счастья». Наконец, чуть не плача от умиления, она пожелала ему спокойной ночи; и мистер Баундерби отправился спать в глубоком унынии, убежденный, что он чем-то уязвлен в своих лучших чувствах, но чем именно – он и вообразить не мог.
Еще долго после того, как Луиза разделась и легла в постель, она не засыпала, поджидая возвращения Тома. Она знала, что он едва ли приедет раньше часу ночи; но безмолвие погруженной в сон природы не успокаивало, а лишь усугубляло ее тревогу, и время для нее тянулось томительно медленно. Прошло, как ей казалось, много часов, в течение которых тишина и мрак, точно состязаясь между собой, становились все глубже, и вот, наконец, у ворот зазвонил колокольчик. У нее мелькнула смутная мысль, что хорошо бы он звонил до самого рассвета; но колокольчик умолк, его последний отзвук, все шире расходясь кругами, замер вдали, и снова настала мертвая тишина.
Она подождала еще немного, по ее расчетам – с четверть часа. Потом встала с постели, накинула капотик, вышла из комнаты и впотьмах поднялась в комнату брата. Она тихо отворила дверь и, окликнув его, бесшумно приблизилась к его кровати.
Она опустилась возле нее на колени, обняла его за шею и притянула к себе его голову. Она знала, что он только притворяется спящим, но не произнесла ни слова.
Вдруг он приподнялся, как будто его только что разбудили, и спросил, кто тут и что случилось?
– Том, тебе нечего сказать мне? Если когда-нибудь ты любил меня, – что бы ты ни утаил от других, откройся мне.
– Не понимаю, о чем ты говоришь, Лу. Тебе что-то приснилось.
– Дорогой мой Том, – она положила голову на подушку, и ее распущенные волосы накрыли его, точно она пыталась спрятать брата от всех, кроме самой себя, – нет ли чего-нибудь, о чем ты хотел бы мне сказать? Нет ли чего-нибудь, о чем ты мог бы мне сказать, если бы захотел? Что бы ты ни сказал, я буду все та же для тебя. Том, скажи мне правду!
– Не понимаю, о чем ты говоришь, Лу!
– Как ныне ты здесь лежишь один, в ночной тиши, так суждено тебе лежать в ином месте, и даже я, если доживу до того времени, должна буду покинуть тебя. Как ныне я здесь подле тебя, босая, полуодетая, неразличимая во мраке, так суждено мне некогда лежать всю долгую ночь, истлевая, пока не обращусь во прах. Во имя этого неотвратимого часа, заклинаю тебя, Том, скажи мне правду!
– О чем ты меня спрашиваешь?
– Знай одно, – в порыве любви и Отчаяния она прижала его к груди, словно малого ребенка, – знай, что я никогда не упрекну тебя. Знай, что я пожалею тебя и останусь верна тебе. Знай, что я спасу тебя любой ценой. Том, подумай, тебе нечего сказать мне? Шепни совсем тихо. Скажи только «да», – и я все пойму!
Она приблизила ухо к его губам, но он упрямо хранил молчание.
– Ни единого слова, Том?
– Как могу я сказать «да» или «нет», когда я не знаю, о чем ты говоришь? Послушай, Лу, ты хорошая, славная, и я понимаю, что я тебя не стою – не такого брата бы тебе иметь. Но больше мне тебе нечего сказать. Иди спать, иди.
– Ты устал, – прошептала она более спокойным тоном.
– Да, смертельно устал.
– Сегодня у тебя было много забот и хлопот. Открылось что-нибудь новое?
– Известно только то, что ты слышала… от него.
– Том, ты никому не говорил, что мы ходили к тем людям и видели их там втроем?
– Нет. Ты же сама настаивала, чтобы я держал это в тайне, когда просила меня проводить тебя.
– Да. Но я ведь тогда не знала, что случится.
– И я не знал. Откуда я мог знать?
Уж очень быстро он произнес эти слова.
– Следует ли мне, после того что случилось, сознаться, что я ходила туда? – спросила Луиза, поднявшись с колен и стоя возле кровати. – Нужно ли это? Должна я это сделать?
– Бог мой, Лу, – отвечал Том, – не в твоих привычках советоваться со мной. Говори или не говори, как хочешь. Если ты будешь молчать, и я буду молчать. Если ты расскажешь, что ж, так и будет.
Было темно, и они не видели друг друга, но и он и она говорили очень осторожно, взвешивая каждое слово.
– Том, как ты думаешь, тот человек, которому я дала деньги, в самом деле причастен к ограблению?
– Не знаю. Не вижу, почему бы и нет.
– Он показался мне очень честным.
– Это ничего не значит. Кто-нибудь может казаться тебе нечестным, а на самом деле быть честным.
Он запнулся и умолк. Молчала и она.
– Впрочем, – продолжал Том немного погодя, словно приняв какое-то решение, – раз уж ты об этом заговорила, то имей в виду, что он отнюдь не внушал мне большого доверия. Я даже вышел с ним за дверь, чтобы с глазу на глаз объяснить ему, что он должен ценить подарок моей сестры, – и пусть хорошо распорядится этими деньгами. Ты ведь помнишь, что я выходил вместе с ним. Я ничего дурного не хочу сказать о нем. Может быть, он и отличный малый, не знаю. Надеюсь, что это именно так.
– А он не обиделся на тебя?
– Нет, он выслушал меня спокойно; во всяком случае, вполне учтиво. Где ты, Лу? – Он сел на кровати и поцеловал ее. – Спокойной ночи, дорогая, спокойной ночи.
– Больше тебе нечего мне сказать?
– Нет. Что я мог бы сказать еще? Уж не хочешь ли ты, чтобы я тебе лгал?
– Меньше всего, Том, я хочу, чтобы ты лгал мне этой ночью, сколько бы ночей – и, надеюсь, более счастливых – тебе ни суждено прожить.
– Спасибо, Лу. Я так устал, что, кажется, готов сказать, что угодно, лишь бы мне дали уснуть. Иди ложись, иди.
Он еще раз поцеловал ее, отвернулся к стене, натянул одеяло на голову и лежал так тихо, словно уже пробил тот час, которым сестра заклинала его сказать правду. Она постояла еще немного возле кровати, потом медленно отошла. Открыв дверь, она еще раз с порога оглянулась на него через плечо и спросила, не звал ли он ее? Но он лежал не шевелясь, и она, бесшумно притворив дверь, спустилась в свою комнату.
Тогда злополучный мальчишка осторожно выглянул из-под одеяла и убедился, что она ушла; сполз с постели, запер дверь и опять уткнулся в подушку; он рвал на себе волосы, плакал упрямыми слезами, боролся с любовью к сестре, ненавидел и презирал самого себя, но не чувствовал раскаяния и столь же бесплодно ненавидел и презирал все доброе на земле.








