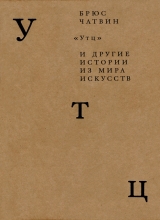
Текст книги "«Утц» и другие истории из мира искусств"
Автор книги: Брюс Чатвин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Стоял хмурый зимний день. У Утца был приступ синусита и ячмень на глазу. Он взглянул на свое отражение в зеркальной витрине магазина и вдруг – это был особый момент освобождения от иллюзий – с необычайной остротой почувствовал, что амплуа вечного героя-любовника уже не для него.
Можно только гадать, что произошло в тот день между ним и Мартой, но с тех пор она спала на кровати. Походный матрас отошел в прошлое.
Розовый халат из искусственного шелка стал эмблемой ее победы.
Его раздраженно-горестный тон при нашем расставании на Староместской площади, возможно, был вызван тем, что они с женой поменялись ролями. Врожденный такт не позволял ей демонстрировать это на людях, но к тому времени главой семьи, несомненно, стала она. И с тех пор, если Утца одолевало желание за кем-нибудь приударить, ему приходилось заниматься этим вне дома.
Затем она окончательно закрепила свой успех. Так как церемония их бракосочетания была атеистической, чтобы не сказать языческой, Марта всегда чувствовала себя обделенной. Стоя на коленях перед пражским Младенцем, она жарким шепотом каялась в том, что живет в невенчанном браке.
Однажды весной, когда они с Утцем разбирали коробки с одеждой, она наткнулась на белую кружевную фату, которую надевали на свадьбу невесты из рода Утцев начиная с XVIII века.
Марта разложила ее на розовом атласном покрывале и многозначительно поглядела на Утца. Он кивнул.
Они обвенчались в костеле Св. Николая жарким полднем Пражской весны 1968 года. Цвели сливы, в воздухе висела голубоватая дымка.
На ней был белый костюм с пятнами пота под мышками. В руке – букетик из белых лилий и ландышей. Несмотря на выбившуюся прядь седых волос, фата ей шла.
Под свадебный марш из «Сна в летнюю ночь» священник в кружевных оборках и парике повел их по главному проходу храма.
Разумеется, они наткнулись на неизбежную уборщицу, которая, пропуская их, поставила на пол ведро, села на скамью и приветственно помахала шваброй. Они миновали кафедру цвета малинового мороженого и остановились перед алтарем напротив статуи святого Кирилла в митре. Святой пронзал язычника толстым концом посоха.
Зеваки, привлеченные вопиющим несоответствием в росте жениха и невесты, невольно подались назад, когда пожилые венчающиеся, оглянувшись, смерили их вызывающими взглядами. Не исключено, впрочем, что еще больше, чем суровые взгляды, их напугали кровавокрасные следы губной помады, которые неопытная Марта (пользуясь помадой впервые в жизни) оставила на виске жениха, будучи слишком высокой, чтобы дотянуться до его губ в момент ритуального поцелуя.
Орган прогремел «К Тебе взвываю я» Зигмунда Ромберга, и когда супруги вышли из храма в сверканье солнечного дня, толпа, собравшаяся на ступенях, разразилась аплодисментами.
На улице ждала своей очереди следующая пара. В петлицах молодых людей торчали веточки мирта. Острый глаз Марты отметил, что невеста беременна. Марта сжалась от аплодисментов, решив, что над ними потешаются, но жених, милый интеллигентный парень, пригласил Утцев в храм на венчание, а потом на банкет – в ресторан гостиницы «Бристоль».
Чествование одной пары превратилось в чествование двух. Разгоряченные токаем гости произнесли несколько издевательских тостов в честь медведя, чучело которого стояло напротив их стола.
Теперь я могу кое-что добавить к своему рассказу о похоронах. За время, прошедшее между моментом смерти и прибытием агента из похоронного бюро, Марта закрыла стеллажи с коллекцией фарфора черной материей. Затем вызвала Орлика, и они вдвоем стояли на часах, пока не увезли гроб.
Между тем Ада Красова этажом ниже служила свою панихиду. Женщины из Праги, Брно, Братиславы, презиравшие друг друга на оперной сцене и ревновавшие друг друга к Утцу, объединились в своей ненависти к Марте за то, что она лишила их возможности в последний раз взглянуть на усы.
Они орали. Шипели. Колотили в дверь кулаками. Но Марта осталась глуха к их мольбам.
Накануне погребения она, попросив Орлика выступить в роли телохранителя, провела на лестнице нечто вроде брифинга, информировав безутешных дам о расписании на завтра.
В порыве злокозненного вдохновения она объявила, что отпевание состоится в костеле Св. Иакова (вместо Св. Сигизмунда), а похороны – на Вышеградском кладбище (вместо Виноградского). Завтрак в гостинице «Бристоль» – «на который мой дорогой супруг просил вас всех пригласить» – в 9.45 утра (вместо 9.15).
В результате тем печальным утром по Праге носились еще две «татры»: в одной сгрудились бывшие оперные дивы, в другой – официальные представители музея «Рудольфинум».
Две эти группы столкнулись в дверях гостиничного ресторана как раз в тот момент, когда вдова Утц, осушив бокал токая («За медведя! За медведя!»), не испытывая ни малейших угрызений совести, направлялась к выходу.
Зайдя со своей сумкой из искусственной кожи в дамский туалет, она сменила траурный наряд на коричневый шерстяной костюм. Затем взяла такси до Центрального вокзала, там пересела на поезд, следующий в Ческе-Будеëвицы, и отправилась к сестре, безвыездно жившей в их родном поселке.
Когда пытаешься восстановить ход событий, не нужно бояться фантазировать: чем невероятнее твои предположения, тем больше шансов на успех.
Держа в уме туманные намеки Ады Красовой о звуках разбиваемого фарфора, якобы долетавших из квартиры Утца, я между часом и двумя ночи занял наблюдательный пост на пересечении улиц Широкой и Майсловой в ожидании мусоровоза.
В Праге, во всяком случае в Старом городе, у людей какие-то особенные отношения с мусором. В жилых домах № 5 и № 6 по Широкой улице, построенных до войны для преуспевающих буржуа, в подъездах сохранилась их родная красно-бурая облицовка из мрамора. Но там, где в былые дни, вероятно, стояло зеркало или ваза с искусственными цветами, в наши менее утонченные времена посетителей встречает взвод серых мусорных баков из оцинкованного железа с одинаковыми крышками на петлях.
Мусоровозы в Праге уже лет пятнадцать красят в ярко-оранжевый цвет. На крышах у них установлены оранжевые вращающиеся прожекторы, озаряющие своими лучами окрестную архитектуру. Эти прожекторы и в еще большей степени скрежет механизмов – проклятье для людей с чутким сном и подобие развлечения для тех, кто страдает бессонницей, – можно вылезти из постели и, стоя у окна, поглазеть на этот маленький уличный спектакль.
Мусорщики одеты в оранжевые комбинезоны и кожаные фартуки, чтобы не испачкаться, когда они выкатывают баки на улицу.
Я увидел, как молодой человек вытащил контейнер с отбросами кошерного еврейского ресторана и подъехал к ресторану «У голема», где я накануне вынужден был отказаться от «Kalbsfi let jüdischer Art» [63]63
Телятина по-еврейски ( нем.).
[Закрыть], украшенной ломтиком ветчины.
Это был ладный парень со смеющимися глазами и копной курчавых волос. Свои обязанности он выполнял с налетом веселой бравады. В огнях прожектора его лицо казалось оранжевой маской.
Его напарником был крупный доберман-пинчер в наморднике из стальных прутьев. Пес либо лежал на пассажирском сиденье, либо гонял местных кошек, либо любовно водружал передние лапы на плечи хозяина.
Выехав на Широкую, молодой человек развернул машину задом к бордюру напротив синагоги Пинхаса. Потом выкатил баки из подъездов домов № 4, 5 и 6 и в соответствующем порядке расставил их на тротуаре.
Из машины высунулась оранжевая клешня, вцепилась в края бака, перевернула его в воздухе и с двойным «Чвынк!.. Чвынк!..» вытряхнула содержимое в чрево машины.
После чего бак был с грохотом поставлен обратно на землю, а из мусоровоза донеслись жуткие звуки прессовки, перемалывания и лязганья металлических челюстей.
Доберман попытался было лизнуть меня в лицо, но не смог просунуть язык сквозь прутья намордника. Мусорщик отнесся с доверием к человеку, сумевшему расположить к себе его собаку. К моему удивлению, он неплохо говорил по-английски.
Что я здесь делаю?
– Я писатель, – отрекомендовался я.
– Я тоже, – отозвался он.
Он рассказал, что многие его коллеги – писатели, поэты и безработные актеры. По субботам они встречаются в пивной в деревушке рядом со свалкой. Он объяснил мне, как туда проехать.
– Спрóсите Людвика, – сказал он.
Деревня представляла собой оазис фруктовых садов и огородов посреди свалки промышленных отходов. В саду, засаженном розами, Людвик мыл свою машину.
Он привел меня в бар, где его товарищи в оранжевых и синих комбинезонах стучали кружками с пльзеньским пивом. Несколько человек читали газеты, кто-то играл в шахматы. Двое, забравшись в тихий уголок, перекидывались в «дурака». Закончив партию, они подошли к нам поздороваться.
Одним из игроков оказался католический философ Мирослав Житек (я знал его по публикациям в эмигрантской прессе), автор статьи о саморазрушительной природе Силы, широкоплечий человек с сединой на висках и открытым румяным лицом. Он курил пеньковую трубку. Житек рассказал, что в социалистической Чехословакии каждый достигший шестидесятилетнего возраста получает право на пенсию, конечно при условии, что он отработал положенное число лет на государственной службе. Они с друзьями предпочитают не участвовать в карьерной возне и академических склоках. Физический труд позволяет держать сознание чистым.
Житек работал садовником, дворником и мусорщиком. Но теперь, в пятьдесят восемь, ему это уже тяжеловато, поэтому он устроился на новую работу: стал велосипедным курьером.
Его обязанности заключались в том, чтобы развозить программы по компьютерным центрам Праги. В одну из прикрученных к велосипеду сумок он засовывает диски, в другую – тетради с философскими записями. Когда он доставляет диски, директор центра пускает его поработать в свободную комнату. Он пишет в среднем часа три. Иногда в конце рабочего дня читает написанное сотрудникам центра.
Житек не пожалел крепких выражений в адрес некоторых чешских писателей-эмигрантов, возомнивших себя единственными полномочными послами богемской культуры и при этом знать не знающих того, что творится в сегодняшней Богемии.
У партнера Житека были впечатляющие бицепсы и нахальная физиономия, вся в шрамах. Его звали Кошик. После событий 1968-го он уехал в Америку, в Элизабет, штат Нью-Джерси. Но вернулся – слишком уж гадким оказалось тамошнее пиво.
Именно он в 1973 году – когда с Утцем случился первый удар – забирал мусор в Старом еврейском квартале, в том числе и в доме № 5 по Широкой улице.
И здесь мы приближаемся к самому непростому этапу моего расследования. Поскольку я вбил себе в голову, что Утцева коллекция и впрямь могла оказаться в утробе мусоровоза, мне, естественно, хотелось собрать максимум фактов в пользу этого дикого предположения.
В разговоре со мной Кошик держался открыто и непринужденно. Но по здравом размышлении у меня возникли серьезные сомнения в достоверности его рассказа. Нельзя исключить, что он просто говорил то, что, как ему казалось, мне бы хотелось услышать.
Мне представляется чрезвычайно подозрительной нарисованная им картина: будто бы, вытаскивая мусорные баки из дома № 5, он иногда замечал некую смутную фигуру (не то женскую, не то мужскую), прижимавшуюся к стене подъезда. Как-то раз, сообщил он, в окне квартиры на верхнем этаже обозначились два силуэта. Они прощально махали.
Гораздо более правдоподобной кажется мне другая история, которую он рассказал. По крайней мере, слова Кошика подтвердили еще несколько человек.
Все они помнили, что десять-двенадцать – а может, и больше – лет назад воскресным днем в деревню на такси приехала пожилая чета. Мужчина был заметно ниже женщины и подволакивал ногу. Его спутница поддерживала его. Они прошли по дорожке до проволочного забора, огораживающего свалку по периметру, и вернулись обратно к такси.
Я пошел по дорожке.
Поля заросли полынью и иван-чаем. Фабричные трубы выплевывали клубы коричневого дыма. Небо было опутано электрическими проводами.
Я приблизился к забору. У сарая застыла армия бульдозеров. За ними открывался вид на свалку: черная голая земля и горы мусора, над которыми, пронзительно крича, носились чайки.
Я пошел назад к деревне, обдумывая разные версии.
Могли ли Утц с Мартой тайно вывезти коллекцию за границу? Нет. А сотрудники музея? Тоже нет. Об этом бы обязательно узнал д-р Франкфуртер. Мог ли Утц уничтожить фарфор из чувства мести? Я сомневался в этом. Он презирал музеи, но мстительным человеком он не был.
А вот кем он действительно был, так это шутником. Сознание того, что эти хрупкие изделия в стиле рококо закончат свои дни на свалке ХХ века, могло отвечать его чувству смешного.
А может, это было проявлением иконоборчества? Может быть, наряду с боготворением вещей и образов – тем, что Бодлер называл «своей единственной и примитивной страстью», – существует противоположное стремление – расколошматить все к чертовой бабушке? Не требуют ли произведения искусства своего уничтожения?
А может быть, это сделала Марта? Может быть, в ней была эта мстительная жилка? Может быть, Утцева любовь к фарфоровым человечкам соединилась в ее сознании с его любовью к оперным дивам? Если так, то, разделавшись с одними, она могла пожелать избавиться и от других.
Нет. Мне кажется, что ни одна из этих версий не «работает». Скорее уж случилось вот что: оглядываясь на свою жизнь в последние, предсмертные месяцы, Утц горько пожалел о том, что вечно ловчил и всегда выходил сухим из воды сам и спасал свою коллекцию. Он пытался сохранить микрокосм, в котором оставалось бы место изяществу европейской великосветской жизни. Но цена оказалась слишком высока. Он возненавидел унижения и компромиссы и в конце концов саму коллекцию.
Марта никогда не отказывалась от своих принципов и требований законности. Она не меняла курса. Она была его вечной Коломбиной.
Моя пересмотренная версия этой истории выглядит следующим образом: поздним вечером в памятный день их венчания она вышла из ванной в своем розовом шелковом халате и, развязав пояс, дала ему соскользнуть на пол. После чего обняла Утца как законная жена. И с тех пор они страстно любили друг друга, отвергая все, что могло бы этому помешать. А фарфоровые вещи были всего-навсего дурацкими глиняными безделушками, чем-то вроде старой потрескавшейся посуды, которую пришла пора выкинуть вон.
Поселок Костелец находится неподалеку от австрийской границы, в устье Дуная и Эльбы. Пшеничные поля заросли библейскими «плевелами», неподвластными никаким ядохимикатам. Глаз путешественника радуют васильки, маки-самосейки, крестовник, вдовушки, шпорник – украшение европейской природы. На краю деревни – заливные луга, а за ними в полукружье сосен – пруд, в котором разводят карпов.
На домах – красные черепичные крыши; стены выкрашены в рыже-коричневый и белый. Хозяйки выращивают герань в заоконных ящичках. В центре поселка – аккуратный костел с небольшим куполом.
За костелом сохранилось основание памятника с двойной буквой «К» – Kaiserlich und Königlich [64]64
Императорский и королевский ( нем.).
[Закрыть]– символом Габсбургской монархии. Теперь тут торчит ржавая загогулина в честь советского налета в космос.
Только что прошла гроза. Отгрохотал гром, и над заливными лугами встала радуга. Солнце осветило заросли золотых шаров, фиолетовых флоксов и клумбы с белыми маргаритками.
Я распахнул калитку. Белоснежный гусак вытянул шею и, угрожающе шипя, захлопал на меня крыльями. На пороге показалась старая крестьянка в домашнем платье в цветочек и белом платке, надвинутом почти до бровей. Она нахмурилась. Я пробормотал несколько слов, и ее лицо озарила изумленная улыбка.
– Ja! – сказала она, воздев глаза к радуге. – Ich bin die Baronin von Utz [65]65
Да! Я баронесса фон Утц ( нем.).
[Закрыть].
Георгий Костаки. История советского коллекционера
{3}3
Впервые статья вышла под названием «Неофициальное московское искусство» («Moscow’s Unoffi cial Art») в приложении к газете «Sunday Times» 6 мая 1973 года. Затем, под новым названием «Georgу Cost akis: The st ory of an Art Collect or in the Soviet Union», была включена в сборник, составленный самим Чатвином, но вышедший уже посмертно, «What am I doing here» (London: Jonathan Cape Ltd, 1989). Печатается по изданию: Bruce Chatwin. What am I doing here. London: Vintage, 2005. Далее WAIDH.
[Закрыть]
Георгий Костаки – владелец крупнейшей частной коллекции искусства в Советском Союзе. Причем коллекция его не обычная – она способна увлечь всякого, кто разбирается в искусстве нашего века. В течение двадцати шести лет он в одиночку занимался археологическими раскопками – иначе ему было не достичь своих целей, – пытаясь вытащить на свет левое искусство, течение, ворвавшееся в Россию незадолго до революции. Российская революция стала выдающимся событием интеллектуальной жизни двадцатого столетия, и художники, скульпторы, архитекторы оказались ее достойны. Во время Первой мировой центр современного искусства переместился из Парижа в Москву и Ленинград, где и оставался на протяжении нескольких беспокойных лет.
«Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего», – декламировал наиболее видный представитель нового искусства поэт Владимир Маяковский. Молодые женщины трепетали от удовольствия при звуке голоса человека, называвшего себя «облаком в штанах». Показательно то, что оживить, побудить к действию угасающие таланты Западной Европы сумел лишь русский эмигрант Сергей Дягилев. Правда, и он, покинув страну, лишился источника вдохновения. Русская земля – могущественная родина; немногим из ее художников удалось пережить травму расставания.
Те, кто обладал сильной волей, остались. Уникальность российской ситуации порождала в них едва ли не мессианскую веру в то, что искусство в силах преобразовать мир. А поскольку самые ярые сторонники модернизма распахнули объятия большевикам, им удалось свою веру реализовать. Да, они дрались между собою (на кулаках) и раскалывались на сектантские группы, каждая из которых выступала с собственным манифестом, напоминавшим анафему средневековой церкви. Названия, которые они себе давали, – конструктивисты, продуктивисты, объективисты, супрематисты – способны были запутать любого; в этих определениях часто отражались личные распри, а не настоящие идеологические расхождения. Однако в целом произведения левого искусства отличаются новизной и смелостью, которые возвышаются над умствованиями, истерией и бесплодностью, в немалой степени присущими европейскому искусству двадцатых годов.
Когда настанет время и будет написана полная история этого российского течения – а за то, что ее можно написать, в определенной мере следует благодарить Костаки, – оно, вероятно, окажется наиболее значительным из всех. Что бы мы там ни думали, грядущие поколения будут считать двадцатый век веком абстрактной живописи. Пионерами ее являются двое русских, Казимир Малевич и Василий Кандинский, и для того, чтобы как следует разобраться в этом течении, его следует рассматривать прежде всего в изначальном славянском контексте.
Несколько лет, пока не угасла эйфория, авангард процветал, хотя его анархистская философия явно противоречила основным учениям советского марксизма. Он был предметом осуждения властей, его официально душили, картины же исчезали под кроватями или в запасниках музеев. В то время, когда начинал Костаки, левое искусство успели окончательно забыть. За пределами Советского Союза оно вызвало несколько пренебрежительных замечаний, внутри – не пробуждало ни малейшего интереса. В 1947 году критик-искусствовед мог громить Сезанна с его лживым «безразличием к предмету» и сетовать на то, что его фруктам и цветам «недостает аромата и структуры». Нефигуративная живопись была в те дни парией.
Костаки считали «сумасшедшим греком, который покупает ужасные картины». Пятнадцать лет его никто не замечал, и теперь, когда за последнее десятилетие его квартира сделалась местом паломничества, это явно приносит ему удовлетворение. В молодости Костаки покупал гобелены, серебро и голландские пейзажи. «Калф… Берхем… прочее в таком роде [66]66
Вилем Калф (1619–1693) и Николас Питерс Берхем Старший (1620–1683) – голландские живописцы. Первый знаменит своими натюрмортами, второй – пейзажист и график.
[Закрыть]. Потом мне мало-помалу стало казаться, что все они одного цвета. У меня на стене висело двадцать картин, а казалось, будто всего одна». Он не может вспомнить, было ли в его детстве какое-то конкретное событие, определившее его интерес к произведениям искусства, хотя допускает, что на него могли повлиять обряды православной церкви. «Но настоящая причина не в этом. Всю жизнь мне хотелось написать книгу… или построить самолет… или изобрести какое-нибудь индустриальное чудо. Мне надо было чего-то добиться. И я сказал себе: “Если продолжать собирать старые полотна, так ничего и не добьешься. Даже если в один прекрасный день тебе попадется Рембрандт, люди скажут, ему повезло, вот и все”». Потом, в трудные послевоенные времена, кто-то предложил ему три забытые авангардные картины, написанные в ярких цветах. «Для меня это был знак. Мне плевать было, что это такое… да в то время никто ничего не знал».
Эти три картины стали для Костаки знаком того, что существует мир, о котором он и не подозревал. С тех пор он все свободное время, когда не был занят на службе в канадском посольстве, охотился за «потерянными» картинами, «разбросанными по углам в Москве и Ленинграде». Охота приводила к старикам, которые считали, что их время прошло. Некоторые были раздавлены произошедшим, счастливы получить признание, пусть символическое. Он спасал полотна, свернутые трубкой, покрытые пылью. Перед смертью Татлина он познакомился с этим «великим дураком», автором проекта памятника Третьему интернационалу, жившим в одиночестве, с курами и балалайкой. Подружился со Степановой, вдовой Александра Родченко, всестороннего гения. Разыскал друзей великого Малевича. Покупал работы эмигрировавших Кандинского и Шагала; Лисицкого, мастера книжной графики, и Густава Клуциса, художника-конструктивиста; Любови Поповой, «сильнейшего живописца своего поколения» («В борьбе за искусство она была мужчиной, в постели – женщиной»); Ивана Клюна, чьи космические абстракции предвосхищают Ротко. Он упорно гонялся за малоизвестными художниками, подписывавшими ранние манифесты, и находил в них качества, не замеченные их современниками. И по мере того, как его коллекция пополнялась, восстанавливал по кусочкам их историю, узнавал про их взгляды, союзы, фантастические проекты, склоки и романы – ведь революционная свобода была синонимом свободной любви.
Костаки никогда не был богат, но платил столько, сколько мог себе позволить, порой предлагая сумму, в два – три раза превышающую ту, что устанавливал продавец. (Об этом я узнал из независимых источников.) Каждое следующее приобретение всегда было сопряжено с немалыми трудностями. Как-то ему удалось накопить денег на машину, его жена была в восторге от перспективы выездов на природу. Спустя несколько дней появился Шагал, и машина вернулась в гараж на ремонт по каким-то загадочным причинам. «Что тебе больше нравится, Шагал или машина?» – спросил он ее, на что она ответила: «Шагал мне нравится, но…» Шагал остался висеть на стене, а машина – стоять в гараже.
Все годы революции и Гражданской войны семейство Костаки провело в России. Его отец был родом с Закинтоса, острова в Ионическом море, имел табачные предприятия на юге России. Мать Костаки, которой теперь сильно за девяносто, живет на даче под Москвой; недавно она, ко всеобщему удивлению, обнаружила, что свободно говорит по-английски, хотя не говорила на этом языке уже пятьдесят лет. Ее сын – человек непростой, весьма располагающий к себе, ему шестьдесят один год, у него сросшиеся черные брови, лукавый взгляд, застенчивая, но обезоруживающая улыбка, о которой фотографии дают неверное представление. «На фотографиях у меня вид, как у жулика». Он предприимчив и в то же время наивен, почти не от мира сего. В хорошем настроении он прямо-таки не в состоянии удержать своей жизнерадостности; когда возбужден, играет на гитаре и поет русские народные песни – голосом печальным, меланхоличным.
Они с женой, русской, обладающей неукротимо веселым нравом, живут в квартире на верхнем этаже дома-новостройки – бетон, белая плитка – на проспекте Вернадского, в отдаленном от центра районе.
Ландшафт, который можно созерцать из окон: безымянные высокие здания, стоящие на большом расстоянии друг от друга, открытые ветру, что задувает из леса. В феврале снег там лежал сугробами. В белом пространстве между зданиями лишь изредка попадались то одинокое дерево, то черные фигуры в меховых шапках, бредущие по узким грязным тропинкам.
У себя дома Костаки превращается в крупную звезду на московском небосклоне. Стены он увешал картинами, к дверям прикрепил необрамленные полотна. Яркие цвета и примитивные формы картин пляшут по стенам; в квартире словно витает радостный дух самих художников. Визиты к знаменитым коллекционерам искусства слишком часто сопровождаются необходимостью терпеть скучный эксгибиционизм владельца; Костаки, напротив, заражает своим энтузиазмом каждый уголок. Некоторые искусствоведы обходились с ним не особенно порядочно: с расчетливой скупостью ученого получали от него необходимые сведения и забывали сослаться на источник.
В комнатах – то музейный порядок, то милый хаос семейной жизни. Тут есть самовары и раскрашенные русские крестьянские сундуки, коллекция икон, фетиши с Конго, китайские чайники и эскимосские резные амулеты из Заполярья. Иногда на побывку из армии приезжает сын Костаки. То и дело приходят дочери со своими мужьями и друзьями в ожидании, что их накормят. Еще тут живут две большие ласковые собаки, борзая и керри-блю-терьер. Дом Костаки – своего рода неофициальный российский Музей современного искусства – притягивает специалистов и любопытных из разных стран. Первая запись в книге посетителей – строчка с автографом Стравинского, дальше идет череда знакомых имен. Почтительные комментарии директоров музеев с Запада и Востока подчеркивают уникальную природу этой коллекции. Знаменитый советский актер пишет: «Один из лучших, самых живых музеев в мире. Написано в трезвом виде».
Существование коллекции Костаки свидетельствует о том, что у советской жизни есть незнакомая нам сторона. В западном воображении марксистское государство – признанный враг частной собственности; кое-кто, возможно, увидит в существовании ценной частной коллекции искусства всего лишь доказательство непоследовательности марксизма. Это не так. Советский уголовный кодекс вовсе не запрещает человеку иметь картины – как не запрещает иметь пару ботинок. Объяснение, будто Костаки пользуется своим греческим гражданством ради особых прав и свобод, тут выдвинуть невозможно. Он им не пользуется.
Сегодня в Советском Союзе имеется множество частных коллекций, причем цены растут. Запись в книге посетителей Костаки, гласящая: «Пример всем нам – русским коллекционерам авангардного искусства», говорит о том, что у него есть соперники. Однако остаются два щекотливых факта: то, что к 1932 году абстрактное искусство в СССР было запрещено, и то, что оно так и не появилось снова на стенах музеев. Тем не менее Министерство культуры подает признаки более снисходительного отношения. Ходят слухи о создании советского Музея современного искусства. Костаки, который питает к своей приемной родине нежность и не дает на нее клеветать, считает, что это оправдало бы труд всей его жизни. Отдать все свои картины сразу он не может себе позволить, но надеется в один прекрасный день увидеть их в этом музее.
Причины упомянутого запрета далеко не ясны. Западные специалисты по этому вопросу давно утешаются сказкой о том, что партийные бюрократы не смогли понять левое искусство, а потому возненавидели его и заклеймили как подрывное. Его исчезновением пользуются в качестве предлога, чтобы делать ханжеские утверждения о необходимости художественной свободы и продолжать выставлять смехотворное «официальное» советское искусство. Все это мало что объясняет. Я не отрицаю того, что с представителями левого искусства в конце тридцатых обошлись крайне несправедливо. Но заявления о том, будто их искусство было запрещено вследствие невежества, – избитые разъяснения, принижающие его значимость.
Большевистская революция, по мнению тех, кто ее делал, дала человеку свободу. Пролетариат победил – установил, в теории, свою диктатуру и получил право решать, какое искусство является пролетарским, а какое нет. Маркс надеялся, что, как только у рабочего появится свободное время, он станет заниматься «и живописью как одним из видов своей деятельности». Однако, несмотря на всю свою гениальность, склонности к изобразительному искусству он не имел и советов касательно того, что именно следует писать рабочему, не давал. К тому же его теория не принимала в расчет восприимчивости русских к визуальным образам, как и статуса русского художника – пророка и учителя. Такую фигуру не может позволить себе игнорировать ни одно правительство; это – факт, недооцениваемый на Западе, где покровительство богатых лишает революционное искусство его взрывной силы. Один из секретарей Ленина пишет о том, как людей проводили перед полотном Репина «Бурлаки на Волге» в Третьяковской галерее и они, проникшись этим изображением несправедливости, вставали на сторону революции. Все настоящие большевики, конечно, считали, что искусство принадлежит народу. Однако к октябрю 1917-го сложились два противоречащих друг другу мнения о том, какие формы должно принимать новое искусство.
В одном лагере были футуристы. (Термин «футуристы» я использую здесь в самом широком смысле.) Старый порядок шатался, а они тем временем вели психологическую войну против мелкобуржуазных морали и вкуса. Себя они считали разрушителями, которым предстояло оторвать будущее от прошлого. Во французском кубизме художники из этого лагеря видели начало крушения образов, столь любимых буржуазией. Философ Бердяев говорил, что Пикассо – последний из людей каменного века. Поэты-футуристы испытывали «непреодолимую ненависть к языку, существовавшему до них». Лишив поэзию смысла, они отдавали первенство чистому звуку. «Корни лишь призраки, за которыми стоят струны азбуки» [67]67
Цитата из статьи Велимира Хлебникова «Своясь» (1919).
[Закрыть]. Они печатали свои манифесты – «Идите к черту!», «Громокипящий кубок», «Пощечина общественному вкусу» – на самой дешевой бумаге «цвета вши, упавшей в обморок». Маяковский и Давид Бурлюк, добровольцы ударных частей футуризма, разгуливали по Петербургу в не поддающихся разумному объяснению маскарадных костюмах; толпы гадали, кто это: клоуны, дикари, факиры или американцы. Как-то на выступлении Маяковский посоветовал слушателям «тащить домой свои жирные туши».
И все же футуристы, как правило, происходили из хороших семей, их поза представляла собой, по сути, мелкобуржуазный бунт. Большевики были жестче, серьезнее и обладали другими взглядами на искусство. Композитор-народник Мусоргский однажды сказал, что художникам следует «не знакомиться с народом, но ждать, пока тот примет их в свое братство». Любой серьезный художник должен слиться с массами и избегать всего, что может оскорбить вкус простого человека. Этот вкус – непременно традиционный. Прагматичный Ленин тоже считал, что народу необходимо такое искусство, которое воспевало бы революцию в простых, традиционных образах.








