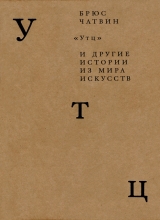
Текст книги "«Утц» и другие истории из мира искусств"
Автор книги: Брюс Чатвин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
После этого Утц снял с полки одного из семи Арлекинов, того самого, что в детстве подарила ему бабушка, и, перевернув его вверх ногами, указал на «скрещенные мечи» – клеймо мейсенской фабрики, а также на инвентарный номер и буквы кода.
Инвентарный номер свидетельствовал, что данная вещь является собственностью Национального музея.
– Но эти ребята просчитались, – шепнул Утц.
Февральским утром 1952 года Утца разбудил грозный стук в дверь. В квартиру ввалились трое незваных гостей: музейный куратор, молодая женщина-фотограф и прыщавый крепко сбитый дядька, представлявший, как догадался Утц, органы безопасности.
В течение последующих двух недель он оказался беспомощным свидетелем разгрома, учиненного в доме этой троицей: весь ковер изгваздали талым снегом, буквально каждую вещь «инвентаризировали». Куратор строго-настрого предупредил его, чтобы он не вздумал подделывать ярлыки, иначе коллекцию конфискуют.
Наибольшее отвращение у Утца вызвала фотограф, фанатичка с астигматизмом, то и дело доводившая его до полуобморока. Она была абсолютно уверена, что Утц – преступник, просто потому, что хранит у себя сокровища, по праву принадлежащие народу.
– В самом деле? – ядовито осведомился он. – Это по какому же праву? По праву грабителей, так, что ли?
Дядька из органов посоветовал ему прикусить язык – а то хуже будет. Фотограф, носившаяся со своей камерой как с писаной торбой, превратила гостиную во временную фотостудию. Когда однажды Утц нечаянно задел объектив, она выставила его в спальню.
О ее профессиональной компетентности он судить не мог, но ее близорукость и чудовищная неуклюжесть, с которой она брала в руки фарфоровые фигурки, повергали Утца в мрачное оцепенение – сидя на краешке кровати, он с замиранием сердца ждал звука разлетающегося на куски фарфора. Он умолял, чтобы ему самому позволили ассистировать при фотосъемке. Ему приказали не вмешиваться.
В конце концов, когда фотограф отбила-таки голову у тролля работы Ватто, Утц не выдержал.
– Заберите его! – взвизгнул он. – Заберите его в ваш проклятый музей! Я не хочу его больше видеть!
Фотограф пожала плечами. Агент поиграл желваками. Куратор ушел в уборную и вернулся оттуда с мотком туалетной бумаги. Завернув отдельно голову, отдельно туловище, он положил фигурку себе в карман.
– Эта вещь, – объявил он, – не будет внесена в список.
– Спасибо, – сказал Утц. – Большое вам спасибо.
Когда они наконец ушли, Утц понуро оглядел свою лилипутскую семью. Он чувствовал себя униженным и потерянным, как человек, вернувшийся из путешествия и обнаруживший, что в его доме побывали воры. Какое-то время он подумывал о самоубийстве. Незачем – а зачем, собственно? – жить дальше. Но нет! Этот выход не для него! Он не из таких. Но сможет ли он бросить коллекцию? Сжечь мосты? Начать все с чистого листа за границей? У него, слава богу, имелись еще кое-какие сбережения в Швейцарии. Как знать, может быть, в Париже или в Нью-Йорке он соберет новую коллекцию?
Он решил, что, если ему удастся уехать, он уедет.
Самым надежным способом добыть выездную визу во времена Готвальда считался запрос о заграничном путешествии в связи с ухудшением состояния здоровья. Процедура была отлаженной: сперва следовало пойти к своему участковому врачу, чтобы тот написал соответствующее заключение.
– Вы страдаете от депрессии? – спросил доктор Петрасельс.
– Непрестанно, – ответил Утц. – С самого детства.
– У вас нарушена работа печени, – сказал врач, явно не собираясь заниматься тщательным осмотром. – Я бы советовал вам съездить в Виши.
– Но ведь… – запротестовал было Утц. – Чехословакия как-никак страна минеральных источников. Лечебные воды есть в Мариенбаде… И в Карлсбаде. Не покажется ли это подозрительным?
– Абсолютно нет, – заверил его врач. – Виши – место известное.
В том числе и властям предержащим. Вам нужно именно туда.
– Ну, если вы так считаете, – неуверенно пробормотал Утц.
Чиновник в визовом отделе бросил беглый взгляд на врачебное заключение, равнодушно произнес слово «Виши» и отправился проверять досье. Явившись в то же самое учреждение через неделю, Утц узнал, что ему дали разрешение на месячное пребывание за рубежом. Он подписал бумагу, в которой обязался не распространять ложных слухов, порочащих Чехословацкую Социалистическую Республику. Коллекцию фарфора признали залогом его хорошего поведения и своевременного возвращения на родину.
Сотрудник визового отдела дал понять, что у них имеются «свои способы» установить, куда именно отправился Утц после пересечения границы с Западной Европой и прибыл ли он в Виши. Утца поразило, что никто не поинтересовался, на какие, собственно, средства он собирается существовать в другой стране. Может быть, невольно подумалось ему, это ловушка?
– На что они рассчитывают? – недоумевал он. – Что я буду питаться воздухом?
Накануне отъезда, когда все вещи были собраны, билеты куплены, документы готовы, он отдельно попрощался с каждой фигуркой коллекции. Марта по его просьбе готовила ужин на двоих.
Она застелила стеклянную столешницу чистой камчатной скатертью, и Утц, оглядев сияющие тарелки из Лебединого сервиза, солонку и столовые приборы с фарфоровыми ручками, почти поверил, что его мечта сбылась: он – реинкарнация Августа и живет в фарфоровом дворце.
Марта, которую он сам когда-то научил делать суфле, спросила, в котором часу придет гость. Утц встал. Поправил галстук. Затем чуть снисходительно поцеловал ее шершавую руку.
– Сегодня, дорогая Марта, моя гостья – ты.
От смущения Марта залилась краской. Стала отказываться, уверять, что недостойна, и в конце концов, разумеется, с радостью согласилась.
Она родилась в поселке Костелец в Южной Богемии, в семье деревенского плотника. Мать рано умерла от туберкулеза, а отец спился и однажды в пьяной драке едва не убил собутыльника. Подвергнутый остракизму и обвиненный в дурном глазе, он вынужден был покинуть родные места. Двух старших дочерей он отослал к тетке, а младшую взял с собой. Он устроился лесорубом в поместье Утца – Ческе-Крижове. После его смерти (его придавило упавшим деревом) управляющий имением выставил девочку на улицу.
Поначалу она кормилась тем, что помогала пекарю и прачке. Потом – из страха угодить в работный дом – сбежала на ферму присматривать за стадом гусей. Спала в сарае, на соломенном тюфяке.
Она пела странные бессвязные песни и считалась дурочкой – особенно с той поры, как влюбилась в гусака. Дети в сельских районах Европы в те времена еще верили сказкам про волков-оборотней; про звезды, которые на самом деле никакие не звезды, а летящие по небу утки; и про красавца-принца, превращенного в гусака.
Гусь Марты был великолепной белоснежной птицей, наводящей ужас на окрестных лис, собак и детей. Она вырастила его из маленького гусенка, и всякий раз при ее появлении он радостно гоготал и обвивал шеей ее бедра. Иногда на рассвете, когда все еще спали, она плавала со своим возлюбленным в озере, позволяя ему перебирать ее длинные светлые волосы.
Однажды в конце тридцатых годов, когда Утц ехал на своем двухместном «стейре» из замка на станцию, чтобы сесть на утренний поезд до Праги, он увидел промокшую до нитки девушку, за которой гналась толпа деревенских парней. Утц притормозил и распахнул перед ней дверцу.
– Поедем со мной, – ласково предложил он.
Она сжалась от страха, но не посмела ослушаться. Он отвез ее в замок.
В жизни Марты началась новая глава – она стала прислуживать по дому. Обожающим взглядом следила она за каждым движением своего господина, и ему то и дело приходилось отдергивать руку, которую она так и норовила облобызать. Четыре года спустя, когда он назначил ее чем-то вроде мажордома, другие слуги, озадаченные странностями этого чудаковатого холостяка, распустили слух, что она делит с ним ложе.
Правда заключалась в том, что в мире, где предательство становилось нормой, особенно после смерти верного бабушкиного мажордома, Марта была единственным человеком, которому он мог доверять. Только она знала, где прячется гебраист Краус со своими Талмудами. Рискуя жизнью, она носила ему еду на сеновал. Лишь у нее был ключ от погреба, где всю войну пролежала коллекция фарфора.
Она стояла на часах, готовая в любую минуту предупредить Утца о нападении одурманенных коммунистической пропагандой крестьян, вообразивших, что новая власть и новая идеология позволяют им безнаказанно грабить помещиков. Исключительно благодаря ей Утцу удалось беспрепятственно вывезти из замка свои сокровища.
В Праге она сняла крохотную сырую комнатушку под самой крышей в одном из соседних с Утцом домов на Широкой улице. Когда ее как-то раз вызвали на допрос и начали допытываться, сколько она получает, Марта возмутилась. Она – не наемная работница и ухаживает за господином Утцем просто как друг.
Пригласив ее разделить с ним вечернюю трапезу, Утц тем самым как бы подтвердил, что дружба принята.
За ужином он объяснил ей причину своего отъезда.
– Господи, – ахнула она, – неужто заболели?
От ужаса она даже уронила нож с вилкой.
Он развеял ее страхи на этот счет, но ничего не сказал о своих эмигрантских планах. Пока он в отъезде, он просит ее ночевать в его квартире – в его кровати, если ей захочется, – и следить за тем, чтобы все двери были тщательно заперты. Время от времени Марту будет навещать его друг, д-р Орлик, так что если ей что-нибудь понадобится, она смело может к нему обращаться.
Вино ударило ей в голову. Она раскраснелась. Может быть, болтала чуть больше, чем следует. Это был один из самых счастливых вечеров в ее жизни.
Утром она снова пришла к Утцу сварить кофе. Затем помогла ему дотащить чемодан до такси. После чего поднялась в квартиру, села у окна и долго слушала мерный шум дождя.
На границе Утца ждали таможенники.
Они его обыскали, вытряхнули всю мелочь из карманов – в умении издеваться им не было равных! – и конфисковали приготовленную Мартой корзиночку с едой. Не обнаружив в его багаже ничего, что могло быть классифицировано как произведение искусства, они забрали «Волшебную гору» Томаса Манна и парочку черепаховых гребней.
– В музей понесли, – пробормотал Утц, глядя вслед удаляющимся зеленым фуражкам.
Когда проехали Нюрнберг, тучи рассеялись и показалось солнце. Поскольку читать теперь ему было нечего, приходилось просто глядеть в окно на телеграфные провода, остроконечные цинковые крыши деревенских домов, фруктовые сады, коров на лугах, заросших лютиками, и на группки светловолосых детей, которые висли на шлагбаумах у переездов, размахивая ранцами. Он заметил, что сигнальные будки изрешечены пулями.
Его соседями по купе оказалась пара молодоженов. Молодая беременная женщина перелистывала альбом со свадебными фотографиями. На ней было серое платье, отделанное кружевами. Синеватые ноги небриты, крашеные волосы – темные у корней.
Молодой человек, как не без злорадства отметил Утц, поглядывал на нее с отвращением. Ему было явно не по себе в американской военной куртке, и всякий раз, когда жена к нему прикасалась, его буквально передергивало. Это был смуглый худощавый парень с черными курчавыми волосами и толстыми губами. Ногти – в никотиновых пятнах. Он был похож на араба. Или на цыгана. А может, на итальянца. Итальянец, решил Утц, услышав его акцент. Наверное, бедствовал, голодал, а у нее были деньги. Но, бог ты мой, какую цену он заплатил!
Женщина начала распаковывать корзинку с едой, и Утц поумерил свой критический пыл. Ему жутко хотелось есть. Не слишком ли он к ней строг? А вдруг она его угостит? Он заранее приготовил благодарную улыбку. Затем, словно пес, вытянувшийся перед хозяйским столом, наблюдал, как она заглатывает два крутых яйца, шницель, бутерброд с ветчиной, полцыпленка и несколько кружков колбасы, нашпигованной чесноком. Она запила все это пивом, почмокала губами и продолжила рассеянно отщипывать и запихивать в рот кусочки ржаного хлеба.
Ее муж практически не притронулся к еде.
Утц почувствовал, что не выдерживает напряжения. К черту гордость! Он попросит! Вымолит, если на то пошло! Он уже собрался сказать: «Пожалуйста!», и молодой человек, очевидно заметивший его порыв, оторвал цыплячью ножку и – еще бы чуть-чуть – переправил ее Утцу, но тут женщина с криком: «Нет! Нет! Нет!» вырвала ножку и взялась за апельсин.
Купе наполнил аромат апельсина. О! Чего бы он не отдал сейчас за апельсин! Даже за одну-единственную дольку апельсина! Апельсины, которые можно было достать в Праге (как правило, с черного хода в каком-нибудь посольстве), были обычно сморщенными и безвкусными. А этот так и истекал соком под пальцами чудовища.
Утц откинул голову и закрыл глаза. Ему вспомнился афоризм Августа: «Стремление к обладанию фарфором подобно страстному желанию отведать апельсин».
Женщина потребовала у мужа салфетку – вытереть пальцы. Затем почистила и проглотила второй апельсин, за которым последовали ломтик сыра, кусок чечевичного пирога, кусок орехового торта, пирожок со сливами. Затем обжора налила себе кофе из термоса. После чего сыто рыгнула. И сверх того она без конца докучала своему несчастному супругу, требуя постоянных подтверждений его любви. Он что-то шептал ей на ухо. Утц снова натянул обворожительную улыбку в отчаянной надежде на последний бутерброд с ветчиной. Но женщина, смерив его осоловелым взглядом, с трудом поднялась на ноги и – выкинула бутерброд в окно.
Когда эта маленькая драма подошла к концу, Утц пробормотал по-немецки, причем достаточно громко, чтобы его услышали:
– В Чехословакии так бы никогда не поступили.
Утром на платформе в Женеве его ждал сотрудник банка. Встречу организовал швейцарский посол в Праге, в те времена «лучший друг всех и каждого».
Утц последовал за нелепой тирольской шляпой в привокзальную уборную, где ему вручили пачку швейцарских франков и факсимиле акций в толстом конверте, упакованном в оберточную бумагу.
Нужно было убить два часа до поезда в Лион и Виши. Не придумав ничего лучшего, он сдал багаж в камеру хранения и отправился завтракать в кафе напротив вокзала. Кофе был слабый, круассаны черствые, а вишневый джем отдавал консервантами.
Он огляделся по сторонам. Почти все столики были заняты бизнесменами, уткнувшимися в финансовые разделы газет.
– Нет, – сказал себе Утц. – Мне это не нравится.
В отеле Виши все переставили и перекрасили, очевидно, пытаясь замазать тот позорный факт, что в здешних апартаментах заседал о правительство Лаваля. Номер Утца был обставлен мебелью в стиле Людовика XVI, выкрашенной в серый цвет. Ковер был синим, стены – светло-голубыми с белым бордюром: интерьер детской, начала новой жизни. На комоде стояли щербатый гипсовый бюст Марии-Антуанетты и современные эстампы, запечатлевшие других не блиставших умом дам XVIII столетия.
– Нет-нет! – расстроился Утц. – Это ужасно. Французам изменил вкус.
Не порадовал его и визит к доктору Форестье, человечку с пергаментной кожей, обрушившему на него целый поток снобистских колкостей. Не понравился и его кабинет в готическом доме, увитом павлониями. Не понравились гигантские здания с кремовой лепниной (в кондитерском стиле 1900-х годов), тянущиеся вдоль бульвара Соединенных Штатов, где совсем недавно помещалась штаб-квартира гестапо. Не понравились грязевые ванны, обтирания, массаж лица и душ Шарко. Не внушало оптимизма и то, что, судя по перекошенным лицам других страдальцев, толку от этих процедур не было никакого.
Не примиряла с действительностью и компания низкорослых старичков, «бывших полковников», испортивших желудки в Африке или Индокитае и теперь с бутылочками минеральной воды в руках мелкими осторожными шажками прогуливающихся по крытому променаду неподалеку от рю дю Парк. Не пришел он в восторг и от массажиста – «необычайно внимательного молодого человека» – с его геронтофильским энтузиазмом. Наверное, решил Утц, дело в том, что он еще недостаточно стар. Не пришлись ему по душе и работницы Grand Établissement Thermal [39]39
Здесь: Центр термальной терапии.
[Закрыть]– суровые женщины в белых халатах и перчатках, управлявшие всякими «лечебными аппаратами», «les inst ruments de torture» [40]40
Орудия пытки.
[Закрыть], которые наверняка оценил бы Кафка. Во время одной из процедур его привязали к седлу и аккуратно, но довольно сильно били по животу боксерскими перчатками.
Однажды он услышал английскую речь – оглянулся и тут же отвел глаза: инвалиды войны, кто без руки, кто без обеих ног, играли в покер, сидя в белых пластмассовых креслах с перфорированными сиденьями, похожими на дуршлаки. Как-то раз после ужина ему чуть не бегом пришлось спасаться от женщины в турмалиновом бархатном платье, по-немецки рассуждавшей об Ага-хане [41]41
Ага-хан – наследственный титул духовного лидера мусльман-исмаилитов. Ага-хан III жил в Европе, представлял Индию в Лиге Наций. Его старший сын женился на американской актрисе, а внук стал Ага-ханом IV и учредил программу по изучению исламской архитектуры в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте.
[Закрыть].
Он стал болезненно чуток к посторонним взглядам, особенно одиноких мужчин. Ему мерещилась слежка.
Кто, скажите на милость, вон тот юноша в мешковатом костюме? Он определенно видел его в Праге, в фойе гостиницы «Алькрон». Нет! Не видел. Молодой человек оказался обыкновенным коммивояжером – продавцом средств гигиены.
Утц прошелся по антикварным магазинам – ничего примечательного: парочка будд из геотита и аляповатые часы в имперском стиле. В одной из лавок продавщица попыталась всучить ему египетские амулеты и колоду карт таро. В магазинчике, торгующем кружевами, он присмотрел было передник для Марты.
«Но ведь я же не возвращаюсь, – вспомнил он, помрачнев. – А потом, его все равно украдут на таможне».
Он пошел на бега и заскучал. Еще бóльшая тоска охватила его на концерте, где исполняли сюиту из «Финляндии» [42]42
«Финляндия» – симфоническая поэма финского композитора Яна Сибелиуса.
[Закрыть]. И уж совсем невыносимо стало на представлении в «Гран Театр дю Казино», которое открывали «Les Plus Belles Girls de Paris» (все англичанки!) и продолжили «Les Hommes en Cryst al» [43]43
«Самые красивые девушки Парижа»; «Хрустальные мужчины».
[Закрыть]– группка педерастов, вымазанных серебряной краской.
В антракте он размышлял об абсурдности своего положения. Вот он, еще один никому не нужный беженец из Восточной Европы, угодивший в недружелюбный мир! И не просто беженец, а самый никчемный: иммигрант-эстет.
После антракта его настроение улучшилось.
На сцену вышла Люсьенн Буайе, «La Dame en Bleu» [44]44
«Дама в синем».
[Закрыть], маленькая кругленькая женщина под пятьдесят, но как бы без возраста, в платье из темно-синего атласа, с синей розой, пикантно подчеркивающей ее глубокое декольте. Стоя перед микрофоном, она начала исполнять песню за песней. Утц навел театральный бинокль на ее подрагивающую шею, и его зрачки расширились. Когда она спела «Parlez-moi d’amour» [45]45
«Говорите мне о любви».
[Закрыть], он вскочил на ноги и крикнул: «Браво! Браво! Бис!» – после чего она исполнила эту вещь еще четыре раза. А когда по окончании представления она покинула театр в сопровождении кавалера (гораздо моложе ее), Утц побрел домой, в свой «Павильон Севинье», по мощеным улочкам, скользким от палой листвы, побитой недавним градом, поблескивая лысиной в свете фонарей, слегка покачиваясь и мурлыча себе под нос припев: «Je vous aime… Je vous aime…» [46]46
«Я вас люблю… Я вас люблю…»
[Закрыть]
Утц верил – свою роль тут могли сыграть как русская художественная литература, так и история знакомства его родителей в Мариенбаде, – что курорт с минеральными водами – идеальное место для судьбоносной встречи. Двое одиноких людей – по причине ли пошатнувшегося здоровья или несчастья, – оказавшиеся на парковых дорожках посреди клумб, засаженных муниципальными ноготками, просто обречены на знакомство. В какой-то момент их взгляды обязательно встретятся. Брошенные друг к другу естественным притяжением полов, они присядут на одну и ту же скамейку и обменяются первыми незначащими фразами: «Вы часто бываете в Виши?» – «Нет. Я здесь впервые». – «Я тоже!» Волшебный вечер завершится в его или ее номере. Возможно, роман закончится печальным прощанием («Нет, дорогой, пожалуйста, не провожай меня!»), а может быть, перед лицом, казалось бы, неотвратимой разлуки они, отбросив сомнения, решат не расставаться уже никогда.
Утц приехал в Виши, ясно сознавая, что, если от него потребуется сделать этот решительный шаг, он не отступит.
Он надеялся… Нет, он был уверен, что отыщет в этой толпе одиночек нежную, не слишком юную, тонко чувствующую женщину, которая полюбит его. Не за внешность. На это, увы, рассчитывать не приходилось… Но ведь у него есть другие достоинства!
Бывало, что женщины останавливали на нем свой благосклонный взор. Порой казалось, что счастливый исход уже близок, но тут обязательно звучали роковые слова: «Видели бы вы его коллекцию!» – и ледяной сквозняк задувал огонь его страсти.
Быть любимым за богатство – что может быть ужаснее?!
Но где же эта неуловимая женщина, готовая упасть в его объятия? Именно «упасть», избавив его от необходимости гоняться за ней! Он устал охотиться за драгоценностями.
Может быть, вон та американка с платиновыми волосами (наверное, вдова или разведенная), очевидно приехавшая в Виши для косметических процедур? Умная, но не добрая. Слишком резкая – ему не понравилось, как она разговаривала с барменом.
А может, вот эта красотка с вкрадчивым голосом, золотистыми волосами и чувственным ртом? Парижанка, вне всякого сомнения. Он впервые увидел ее в утренней толпе у источника целестинцев. Она шла вдоль белой решетки, увитой плющом, одетая в белое полупрозрачное платье, в шляпке из жатого шифона. Довольно упитанная, как говорится, пышка. Наверное, скоро совсем растолстеет. Нет, она часами пропадала в телефонной будке и выходила оттуда с потерянным видом, бессмысленно хихикая.
А может быть, вон та аргентинка? «Grande mangueuse de viande» [47]47
Большая любительница мяса.
[Закрыть], как сказал официант. Оказавшись рядом с ней в казино, Утц так и застыл у ее игрального стола, загипнотизированный длинными рубиновыми ногтями, небрежными движениями, которыми она передвигала фишки по зеленому сукну, и веной на шее, вздувшейся под жемчужным ожерельем. Нет! К ней присоединился муж.
И вот однажды он увидел ее! Днем, в холле гостиницы: высокая, с бледными руками и темными волосами, уложенными в шлем на затылке. На ней были теннисные туфли. Застегивая чехол с теннисной ракеткой, она благодарила за урок чересчур оживленного тренера. Тоном, не оставлявшим никаких надежд.
Утц услышал – а может, ему просто показалось, – что она говорит по-французски с едва уловимым славянским акцентом. Она не была спортивной – в ней чувствовалась восточная томность. Может быть, турчанка, эдакая женщина-гитара, с нежными щеками, нервно подрагивающими губами и чуть раскосыми зелеными глазами. Ее нельзя было назвать красавицей по современным меркам… Тип гаремной женщины.
«Скорее всего, русская, – догадался Утц. – Даже наверняка. С примесью татарской крови».
Она была уже немолода и казалась очень печальной.
Утц потерял покой. Ожидая, когда она наконец снова появится в холле, он мысленно нарисовал себе ее невеселую эмигрантскую судьбу: квартира в Монако; потом – когда проданы последние фамильные драгоценности – меблирашка в Париже; отец крутил баранку такси, а после работы играл в шахматы. Чтобы получить возможность оплачивать медицинские счета, ей пришлось принести себя в жертву коммерсанту, поддерживающему ее на определенном финансовом уровне, но не считающему нужным отказываться от молоденькой любовницы. Сейчас он развлекается с любовницей на Ривьере, а бездетную жену услал лечиться в Виши.
Она спустилась вниз незадолго до ужина, по-прежнему одна, в белых открытых туфлях и сером платье в горошек. Увидев трусящую за ней собачонку (силихемтерьера), Утц вспомнил известный рассказ Чехова и еще сильнее уверился в неизбежности встречи.
Сохраняя дистанцию, он последовал за ней в парк на Алье и сел на скамью, мимо которой она почти наверняка должна была пройти. В этом уголке парка пахло лилиями и жасмином.
«Viens, Maxi! Viens! Viens!» [48]48
Здесь: Сюда, Макси!
[Закрыть]– услышал он ее голос. А когда она подошла к развилке, то выбрала именно ту тропку, что вела к нему.
– Bonsoir, Madame! [49]49
Добрый вечер, мадам!
[Закрыть]– осклабился Утц и хотел уже поздороваться с Макси.
Женщина вздрогнула и ускорила шаг.
Он остался сидеть, растерянно слушая, как похрустывает гравий под ее каблуками. В столовой, проходя мимо него, она отвернулась.
В следующий раз он увидел ее утром – на пассажирском сиденье серебристой спортивной машины. Она обнимала за шею мужчину, сидевшего за рулем.
Утц спросил портье, кто она. Оказалось, бельгийка.
Он решил сосредоточиться на еде.
В книжном магазинчике на улице Клемансо он в первый же день своего пребывания в Виши купил так называемый «гастрономический гид». Утц всегда заботился о своем желудке и испытывал непреодолимую нежность к поварам.
Сколько раз в войну, особенно когда бывало страшно, он представлял себе всякие лакомства. В тот день, когда его забрали на допрос в гестапо, вместо того чтобы сосредоточиться на абстрактных темах смерти и депортации, он вспоминал фантастическое блюдо из зеленой фасоли, заказанное им в ресторанчике у проселочной дороги в Провансе.
Позже, когда во время зимних перебоев с продовольствием ему приходилось неделями питаться капустой, капустой и снова капустой, он утешался мыслью, что как только это безумие кончится и границы снова откроются, он опять сможет ходить по французским ресторанчикам.
Он изучил «гид» с той скрупулезной тщательностью, которую обычно приберегал для фарфора: где заказать лучшие «quenelles aux écrevisses», «cervelas truffl é» или «poulet à la vessie». А также «bourriouls», «bougnettes», «fl augnardes», «fouasses» [50]50
Кели из раков; сардельки с трюфелями; пулярка, запеченная в свином мочевом пузыре; десертные блюда из теста.
[Закрыть](в этих названиях так и слышался газ!). Или редкое белое вино «Шато-Грийе», которое, как утверждалось, обладает ароматом виноградных цветов и миндаля, а характером напоминает капризную девушку.
Решив применить полученные знания на практике, он зарезервировал столик в ресторане на берегу Алье.
День выдался солнечным и достаточно теплым, чтобы можно было сидеть на террасе под полотняным навесом в зеленую и белую полоску, лениво хлопавшим от легкого ветерка. На столе перед каждым прибором стояло три винных бокала. Какое-то время он разглядывал отражения склонившихся над рекой тополей и ласточек, стремительно носившихся туда-сюда над водной гладью. На другом берегу расположились рыбаки с женами и детьми. Разложив на траве свои припасы, они тоже готовились перекусить.
Официанты суетились вокруг «короля гастрономии», прибывшего к ним с ежегодным визитом. Багровея щеками и неся перед собой необъятный живот, он вошел в ресторан сразу после Утца. Теперь, запихав за ворот салфетку, он настраивался на нелегкий труд по поглощению завтрака из восьми блюд. Метрдотель принес Утцу меню, и Утц приветствовал его благодарной улыбкой.
Пробежав глазами список фирменных блюд, он выбрал. Передумал. Выбрал. Опять передумал. В конце концов он остановился на супе из артишоков, форели «Мон Дор» и фаршированном поросенке по-лионски.
– Et comme vin, monsieur? [51]51
Какое вино, мсье?
[Закрыть]
– А вы бы что порекомендовали?
Официант, приняв Утца за профана, тыкнул в две самые дорогие бутылки в меню: «Монтраше» и «Кло-Маргио».
– А «Шато-Грийе» есть у вас?
– Нет, мсье.
– Ну что ж, – покладисто кивнул Утц. – Тогда последуем вашему совету.
Еда его разочаровала. Даже не качеством или видом… Но суп, вроде бы изысканный, оказался каким-то безвкусным, слой сыра грюйер, в котором запекали форель, – слишком толстым; да и поросенок был фарширован чем-то не вполне подходящим.
Он снова с завистью поглядел на рыбаков, обедавших на другом берегу: молодая мать кинулась к воде спасать своего малыша, подползшего слишком близко к краю… С какой радостью Утц сидел бы сейчас с ними – их домашние пироги уж точно не безвкусные! А может, дело в нем самом? Может быть, это он перестал чувствовать вкус пищи?
Счет был намного больше, чем он рассчитывал. Он покинул ресторан в скверном расположении духа. У него кружилась голова и болел живот.
Утц сделал печальный вывод: роскошь привлекательна исключительно на фоне бедности.
Днем небо заволокло тучами, и начался дождь. Лежа в номере, он раскрыл роман Андре Жида. Увы, его французского оказалось недостаточно – он потерял нить повествования.
Отложив книгу, Утц невидящим взором уставился в потолок.
Его не сломали ужасы войны и революции, почему же, недоумевал он, так называемый «свободный мир» кажется ему такой пугающей бездной? Почему, ложась в свою гостиничную кровать, он всякий раз испытывает жуткое ощущение, будто падает в лифте? В Праге он понятия не имел, что такое бессонница. Почему здесь он никак не может уснуть?
Он лежал и думал о своих сбережениях. В Чехословакии у него не было повода беспокоиться о деньгах – либо их не было вовсе, либо они существовали только теоретически. Теперь, разложив на покрывале свои сертификаты, он в два часа ночи суммировал цифры портфолио, выискивая ошибки и тщетно пытаясь понять, почему при растущем рынке его состояние в Швейцарии так катастрофически съежилось. Почему при том, что исходные вложения были весьма значительны, нынешние показатели настолько ничтожны? Его наверняка водят за нос. Пользуются тем, что он далеко. Но кто? И где подвох?
В том же книжном магазинчике он купил карманный атлас мира и, перелистывая страницы, старался представить теперь, в какой стране ему хотелось бы жить. Или, точнее, в какой стране он был бы наименее несчастен.
Швейцария? Италия? Франция? Три реальные возможности. Ни одна не привлекает. Германия? Ни за что! Разрыв окончателен. Англия? Нет. Он никогда не простит им бомбежку Дрездена. США? Исключено. Там чересчур шумно. Прага, при всех ее недостатках, – это город, где слышно, как падают снежинки. Австралия? Его никогда не вдохновляли колонии. Аргентина? Он уже слишком стар для танго.
Чем дольше он обдумывал возможные альтернативы, тем отчетливее вырисовывалось неизбежное решение. Не то чтобы он надеялся на счастливую жизнь в Чехословакии. Ясно, что его будут дергать, запугивать, унижать. Ему придется изворачиваться, подхалимничать, в общем, играть по их правилам. Серьезным тоном произносить их безграмотные формулы. Постоянно идти на компромиссы.
И тем не менее Прага – единственный город, соответствующий его меланхолическому темпераменту. К чему еще можно стремиться в наше время, если не к состоянию спокойной печали? И впервые, почти против воли, он почувствовал, что преклоняется перед своими чешскими соотечественниками – не за их «марксистский выбор»… сегодня любой дурак знает, что марксистская философия дышит на ладан! Его восхищал их отказ от резких движений.
Уставясь на идиотскую люстру, он добрался в своих размышлениях до самого тревожного пункта.
Он жутко соскучился по дому. И при этом совершенно не думал о коллекции. Он думал о Марте и только о Марте.
Его мучила совесть! Ведь фактически он бросил ее: родную бедняжку, которая в нем души не чаяла, жила только им и для него, скрывая свою страсть под маской сдержанности, долга и послушания.
Он и раньше подумывал о том, чтобы взять ее с собой на Запад, но она не говорила ни на одном языке, кроме чешского. Даже по-немецки и то знала всего несколько слов. Она бы чувствовала себя здесь – он не сразу подобрал подходящее клише – как рыба, выброшенная из воды.








