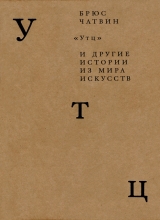
Текст книги "«Утц» и другие истории из мира искусств"
Автор книги: Брюс Чатвин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Он вспомнил, как, запыхавшись после подъема по их крутой лестнице, она с сумками входит в квартиру – и снежинки мигают на ее лисьей шапке. Ее способность торговаться была просто феноменальной. Она могла достать бог знает что, имея в кармане сумму, эквивалентную всего лишь доллару.
Ради него она готова была часами стоять в очередях.
Порой она набивала сумки грязной картошкой. Кто-кто, а она-то знала, что милиционер, если ему взбредет в голову проверить сумку, ни за что не захочет пачкать руки. А вернувшись домой и высыпав картошку в раковину, выуживала со дна фазана или зайца, привезенного на рынок из деревни.
Казалось, Марта была связана с деревней беспроволочным телеграфом или системой дымовых сигналов.
– Где ты раздобыла такие замечательные яйца? – бывало, спрашивал он, когда Марта подавала на стол золотистое суфле.
– У одной бабы купила, – отвечала она, явно не желая вдаваться в подробности.
Она инстинктивно понимала, почему он так заботится о мелочах: соус в соуснике, накрахмаленные манжеты рубашки, севрские кофейные чашки по воскресеньям – для кофе из жареного ячменя и цикория! – все это были маленькие акты неповиновения, демонстрация того, что он не сдался. Он видел, что это не простая забота, а любовь. Но не мог заставить себя ответить тем же – да она этого и не требовала.
Их самым счастливым временем был грибной сезон, начинавшийся обычно во второй половине августа, после первых серьезных ливней. Прихватив корзинку с едой, они садились на ранний поезд до Табора, там пересаживались на автобус до Ческе-Крижове, а затем, старательно обогнув большой дом, входили в лес. Он говорил, что грибы – единственное, ради чего стоит возвращаться в эти места.
Они с Мартой, как малые дети, забывшие за игрой о делениях на касты и классы, кричали друг дружке из-за деревьев: «Смотри-ка, что я нашел!.. Ух ты, вот это да!» Это мог быть подосиновик, «зонтик» или семейка желто-оранжевых лисичек.
Никто, кроме них и нескольких дровосеков, не знал о той поляне, где еще в бытность свою владельцем имения он смастерил из расщеп ленного молнией бука стол и скамеечку.
Они раскладывали свои находки на столе шляпками вверх, отбраковывая подгнившие и червивые, соскребая землю, но оставляя сосновую иголку или налипший листочек папоротника.
– Особо-то не усердствуйте, – наставляла она его. – От грязи они только вкуснее будут.
Потом она жарила их на спиртовке в масле, с изрядным количеством сметаны.
Однажды на обратном пути в Прагу они сделали остановку на таборской городской площади, где у местных грибников были свои прилавки под навесами из мешковины, защищавшие их сокровища от солнца.
Его встретил приветственный гул голосов. «Гляди-ка! Гляди-ка! Хозяин вернулся!» – крикнула крестьянка в белом платке, надвинутом на самый лоб так, что видны были только щеки и обветренный нос. Он наткнулся на знакомого старичка доктора, фанатика грибной охоты, горячо спорящего с профессиональным микологом о каких-то редких видах. И на их бывшую прачку Марианну Палах, сморщившуюся, как сухой стручок, и все-таки продолжавшую не только ходить по грибы, но и держать собственный прилавок.
Люди шутили, торговались, продавали и покупали. Самим своим видом доказывая, что вопреки всем изуверским идеологиям торговля была и остается одним из самых естественных и приятных занятий на свете и что запретить ее так же невозможно, как, допустим, отобрать у человека право влюбляться…
«Что я здесь делаю?» – очнулся от забытья Утц.
Он взглянул на часы. Так, ужин он пропустил. Он пошел в ванную повязать перед зеркалом галстук. Подровнял усы. (Между прочим, я до сих пор не уверен, были ли у него усы – не исключено, что я их все-таки выдумал.) Оглядел свой упрямый маленький рот и сказал: «Нет!»
Он не станет вливаться в этот бесконечный поток эмигрантов. Чтобы потом жаловаться на жизнь в снятых комнатах. Он понимал, что антикоммунистическая риторика такая же мертвая, как и ее коммунистический двойник. Он не бросит свою страну. Во всяком случае, не ради этих.
Он вернется. Несмотря на то что – у него не было на этот счет никаких иллюзий! – фарфор и снобизм неотделимы друг от друга: придворные дамы с их ледяными улыбками опять отправят Марту на кухню, где ей придется смиренно сидеть в стареньком наряде служанки и черных чулках с дырками на коленях.
Он спустился в ресторан. За соседним столиком две пары оживленно спорили о том, насколько хороши и хороши ли вообще «Аляска», «Плавучий остров» и «Омлет по-норвежски». Женщины говорили громкими скрипучими голосами. Мужчины были толстыми и в перстнях.
Казалось, что их меню состоит исключительно из сладкого: «Мон блан», профитроли, фруктовый салат, торт «Татен», малиновое мороженое со взбитыми сливками, шоколадный торт со взбитыми сливками…
– Какая гадость, – пробормотал Утц. – Нет. Ни за что здесь не останусь.
Он встал из-за стола, подошел к портье и сказал, что уезжает утренним поездом.
При пересечении границы с Чехословакией он невольно загрустил при виде колючей проволоки и вышек с часовыми и порадовался тому, что исчезли рекламные щиты.
Утц был одним из тех редких индивидуумов, которые вопреки реалиям холодной войны полагали, что железный занавес, в сущности, не толще папиросной бумаги. Благодаря своим зарубежным капиталам и силе внушения, действовавшей как на него самого, так и на пражских чиновников, он сумел усидеть на двух стульях: быть и в том и в другом лагере.
Каждый год он совершал традиционное паломничество в Виши. Его неприятие режима к концу апреля достигало своего апогея: некомпетентность – вот что выводило его из себя, некомпетентность – прямое следствие идиотской борьбы с идеей частной собственности! А кроме того, к апрелю его начинала мучить клаустрофобия – сказывались зимние месяцы в обществе прекрасной Марты. И, конечно, скука, от которой хотелось рвать и метать после стольких недель тет-а-тет с безжизненным фарфором.
Перед отъездом он говорил себе, что никогда-никогда больше не вернется – одновременно делая все необходимые приготовления для возвращения, – и отправлялся в Швейцарию в превосходном расположении духа.
Маршрут оставался неизменным: сначала Женева, где он встречался с банкирами и антикварами, затем – Виши и только Виши: попить минеральной воды, подышать свежим воздухом свободы, который, впрочем, очень скоро делался спертым, отведать дорогой и невкусной еды.
Затем он несся домой как ошпаренный. Однажды на субботу-воскресенье он съездил в Париж – что совершенно выбило его из колеи.
Эти поездки раздражали всех. Для Марты тридцать дней без него были сплошным мучением, временем траура. Для госчиновников, оформлявших его выездную визу в искренней уверенности, что такому неисправимому декаденту и впрямь место в Виши, Америке или еще каком-нибудь злачном месте в том же роде и всерьез гордившихся своей добротой (ведь они фактически позволяли ему уехать), его возвращение было поступком безумца.
Не менее озадачивающим казалось оно и для вереницы консулов французского и швейцарского посольств. Ведь они привыкли думать, что из таких стран, как Чехословакия, люди типа Утца просто обязаны перемещаться в западном направлении; само предпочтение дома эмиграции представлялось им чем-то вроде извращения, верхом неблагодарности. А может быть, тут замешались и низменные мотивы? Не шпион ли часом мсье Утц?
Нет. Он не был шпионом. Чехословакия, объяснил он мне во время нашей дневной прогулки, вполне сносное место для житья. Конечно, при условии, что у тебя остается возможность уехать. Ну а кроме того, признался он с виноватой улыбкой, его не отпускает Porzellankrankheit. Коллекция превратила его в пленника.
– И, несомненно, загубила мою жизнь! В порыве откровенности он сообщил мне о тайном запасе мейсенского фарфора в сейфе женевского «Юньон де банк сюис».
Всякий раз, когда его акции шли вверх и достигали определенной отметки, он покупал очередной предмет в коллекцию с тем расчетом, что, если по качеству (количество в данном случае было не так уж важно) женевская коллекция приблизится к его пражскому собранию, он, возможно, вновь вернется к своим «отъездным» планам.
Однажды, кажется в 1963 году, в Виши прибыл нью-йоркский продавец антиквариата д-р Мариус Франкфуртер – специально для того, чтобы предложить Утцу фарфоровую композицию, вообще-то не входящую в круг его непосредственных коллекционерских интересов. Композиция, известная под названием «Поедатель спагетти», была изготовлена не в Мейсене, а в Неаполе, на фабрике Каподимонте.
Все в том же небесно-голубом гостиничном номере д-р Франкфуртер освободил фарфор от многочисленных слоев оберточной бумаги и с благоговением священника, демонстрирующего гостию собранию молящихся, поставил его на комод. Утцу стоило немалых усилий отрешиться от вопиющего несоответствия перламутрового свечения глазури и бородавчатой кожи продавца. Впрочем, такова жизнь! Уродливое всегда тянется к прекрасному!
– Ну, – сказал д-р Франкфуртер.
– Ну… – поджал губы Утц.
Вещь была потрясающей. Разумеется, он не собирался этого говорить.
Пульчинелла – Чарли Чаплин итальянской комедии – откинувшись, сидел в чем-то вроде инвалидного кресла, облаченный в просторную льняную рубаху с зеленым кружевным воротничком. На голове у него была белая коническая шляпа, похожая на колпак танцующего дервиша. Неаполитанский юноша в алой шапочке и лиловых бриджах кормил его из ночного горшка.
Особенное впечатление произвели на Утца завитки спагетти: часть из них попадала в рот Пульчинеллы, а часть – в одну из его глубоких ноздрей.
Но цена! По-видимому, она приводила в священный ужас и самого д-ра Франкфуртера – во всяком случае, называя ее, он понизил голос до шепота.
– Ну, – сказал Утц, придя в себя от первоначального шока, – я ведь никогда не покупал итальянский фарфор. Откуда мне знать, что вещь подлинная?
– Подлинная? – задохнулся в благородном негодовании д-р Франк-фуртер.
Конечно, подлинная. Утц в этом не сомневался. Он просто тянул время.
Но доктор обиделся. И даже сделал вид, что готов снова упаковать вещь в оберточную бумагу. Но затем смягчился и забросал Утца именами аристократических итальянских родов, которым она в разное время принадлежала и которые значили для Утца не больше, чем названия железнодорожных станций от Вентимильи до Бари, пока в захлебывающемся перечне знаменитых владельцев он не добрался до самой королевы Марии Амалии.
– О, – сказал Утц, – неужели?
Насколько он знает – а д-р Франкфуртер знал! – до того, как стать неаполитанской королевой, эта некрасивая, изрытая оспой женщина была принцессой Саксонии и правнучкой Августа Сильного.
Именно она, дабы дать выход своей неукротимой германской энергии, основала в 1739 году в Неаполе фабрику по производству фарфора буквально в двух шагах от королевского дворца.
Утц принял решение: он купит «Поедателя спагетти» – хотя бы для того, чтобы вырвать его из потных рук д-ра Франкфуртера. Но без боя он не сдастся!
Доктор (в какой, собственно, области он был доктором, оставалось загадкой) повел дело так, словно само его предложение – знак особой приязни. Он показал Утцу каталог с фотографией «Поедателя спагетти», химический анализ глины и квитанцию с аукциона 1949 года. Что же касается цены, то, по его словам, это «prix d’ami» [52]52
Здесь: дружеский жест.
[Закрыть]. Он уже десять раз мог продать ее в Америке, причем вдвое дороже.
Тактикой Утца была критика неаполитанской фабрики как таковой. Вещь, твердил он, не в русле его интересов. Хотя он был бы не прочь иметь ее в коллекции «в целях сравнительного изучения».
День выдался облачный и ненастный. Утц взглянул в окно на деревья парка. Он рассчитывал сбить цену, по крайней мере, на треть. Д-р Франкфуртер уперся как осел.
Пять раз дилер удалялся по коридору с коробкой под мышкой. Пять раз Утц его возвращал. Однажды они добрались до фойе, и другим постояльцам пришлось оторопело наблюдать, как два уже немолодых господина взволнованно тараторят о чем-то по-немецки на повышенных тонах.
В конце концов они договорились – просто от изнеможения!
За этим последовало торопливое пакование чемоданов и отъезд на поезде в Женеву, где Утц пообещал снять оговоренную сумму наличными. В пути оба молчали. Д-р Франкфуртер весь сжался от страха, что Утц в последнюю минуту передумает и все-таки увильнет от сделки. Утц горевал, что слишком рано сдался.
На ступенях «Юньон де банк сюис» они холодно пожали друг другу руки.
– Что ж, до встречи в будущем году, – сказал д-р Франкфуртер.
– До встречи, – кивнул Утц и повернулся спиной к подъехавшему такси.
Он возвратился в банк. Ему не терпелось осмотреть покупку в одиночестве.
Он вошел в знакомый подземный коридор с нескончаемыми рядами депозитных сейфов из нержавеющей стали, сходящихся вдали в точку, словно железнодорожные рельсы. Кто знает, что в них хранится? На музей хватит, хмыкнул он, уйма дорогостоящей ерунды. На равных промежутках вдоль стен стояли столы, освещенные лампами на металлических кронштейнах, чтобы клиенты могли повосхищаться своими сокровищами. Женщина в рыжем парике вертела в руках изумрудный браслет. За другим столом ливанский продавец уверял нервного молодого человека в очках, что сильно окислившееся бронзовое животное – подлинник. Молодой человек этому не верил.
Утц услышал, как он произнес: «Archifaux!» [53]53
Здесь: подделка.
[Закрыть], и похолодел.
А вдруг д-р Франкфуртер всучил ему подделку. Утц сорвал оберточную бумагу. Осмотрел фигурки под лупой. И облегченно вздохнул: – Исключено. Это подлинник.
Спагетти были настоящим чудом. Так же как и нос Пульчинеллы. Эмаль по своей тонкости и цветовой проработке превосходила мейсенскую. Он правильно поступил! Для такой вещи это совсем не дорого. Можно сказать, дешево! А кроме того, он влюбился в нее! И когда пришло время запереть ее в стальном саркофаге, Утц заколебался.
– Нет, – решил он, – я не оставлю ее здесь.
И вот в то время, когда другие тайно вывозили из Чехословакии – в дипломатическом багаже или в чемодане друга-иностранца – любую попавшую к ним ценную вещь (табакерку, украшение какого-нибудь предка, вермейский десертный сервиз – вилку за вилкой), Утц лег на противоположный курс.
– Я провез ее контрабандой, – шепнул он, стоя посреди комнаты, примерно на равном расстоянии от рыси и индюка. Я поднялся, больно стукнувшись голенью о стол работы Миса ван дер Роэ. «Поедатель спагетти» помещался на центральной полке, справа от мадам де Помпадур.
– Марта! – позвал Утц.
Домработница внесла блюдо с очередной порцией тарталеток, но, увидев наше местоположение, тут же ретировалась обратно на кухню и, схватив две алюминиевые кастрюли, начала бить в них, как в цимбалы.
– Теперь нас не услышат, – шепнул мне на ухо Утц, привстав на цыпочки.
– Вас подслушивают?
– Постоянно, – хохотнул он. – Один микрофон вот в этой стене. Другой – в той. Третий – в потолке, и не знаю, где еще. Они слушают каждое слово. Буквально все. Но этого всего слишком много! Поэтому они не слышат ничего.
Грохот кастрюль напоминал лающее тарахтение пневматической дрели. Вскоре к нему присоединился стук палки или швабры нам в пол. Очевидно, стучала соседка снизу, разъяренная сопрано.
– Иногда, – сообщил Утц, – они вызывают меня к себе и спрашивают: «Чем вы там занимаетесь? Бьете фарфор?» – «Нет, – отвечаю я, – это Марта готовит ужин». Один из них, не могу этого не признать, человек с юмором. Мы подружились.
– Подружились?
– Заочно… По телефону. Учимся любить друг друга. Это правильно, как вам кажется?
– Вам виднее.
– Да, мне виднее.
– Хорошо.
– Хорошо, – повторил он. – Теперь мне бы хотелось задать вам несколько вопросов.
Бум!.. Бум!.. Бум!.. Бум!.. Бум!.. Бум!..
– Сколько, по-вашему, мог бы сегодня стоить кендлеровский Арлекин на аукционе в Лондоне?
– Понятия не имею.
– Как это? – нахмурился он. – Вы так прекрасно разбираетесь в фарфоре и не знаете цен?
– Я могу попробовать предположить… – Давайте, – хмыкнул он, – попробуйте.
– Десять тысяч фунтов.
– Десять тысяч? Сколько это в долларах?
– Почти тридцать тысяч.
– Вы правы, сэр! – Утц прикрыл глаза. – На последнем аукционе он ушел за двадцать семь тысяч долларов. Это было в Америке, в галерее Парк-Бернет. Причем у него была отколота рука.
Бух!.. Бух!.. Бух!.. Бух!.. Бух!..
– А сколько стоят вазы императора Августа?
Я уже не помню, какую именно цену назвал. Во всяком случае, по моим представлениям, достаточно высокую, чтобы доставить ему удовольствие. Но он досадливо поджал нижнюю губу и потребовал: «Больше! Больше!»
Одну вазу и то оценили дороже на парижском аукционе в отеле «Друо», а у него полный комплект, причем в идеальном состоянии: ни единой трещины.
Мало-помалу я вошел во вкус этой «угадайки» и постепенно на учил ся называть те цифры, которые ему хотелось услышать. Делая необходимые поправки, я оценил выпь, носорога, брюлевскую супницу, Фрёлиха и Шмайдля, Помпадур и даже «Поедателя спагетти».
Мы провели таким образом около часа. Утц указывал на какую-нибудь вещь на полках. Марта била в кастрюли. Я, сложив ладони ковшиком вокруг его уха и пачкая пальцы его брильянтином, называл все более и более фантастические суммы. Иногда он взвизгивал от удовольствия. Наконец он сказал: «Итак, сколько, по-вашему, стоит вся коллекция?» – Миллионы.
– Ха! Вы правы, – согласился Утц. – Я фарфоровый миллионер.
Грохот кастрюль умолк, уступив место звуку шипящего масла.
– Поужинаете со мной? – предложил Утц.
– Спасибо, – не стал отказываться я. – Можно воспользоваться вашей ванной?
Утц сделал вид, что не расслышал.
– Можно воспользоваться вашей ванной? – повторил я.
Он вздрогнул. Его лицо исказил нервный тик. Он принялся крутить запонку, бросая панические взгляды в сторону кухни, – и наконец взял себя в руки.
– Ja! Ja! Разумеется, – пробормотал он и мимо двуспальной кровати провел меня в безукоризненно чистую ванную комнату, выложенную в шахматном порядке зеленой и фиолетовой плиткой в стиле модерн. Сама ванна была старой, с облупившейся эмалью.
Я закрыл за собой дверь и увидел невероятный наряд.
Это был халат. Но не обычный – из махры или верблюжьего волоса, а совершенно поразительное одеяние из стеганого искусственного шелка персикового цвета, с аппликацией из роз на плечах и воротником, украшенным розовыми страусиными перьями.
Этот неожиданный наряд поверг меня в смятение – воображение рисовало картины, к которым я, честно говоря, не был готов.
Я потянул за цепочку слива. Сквозь рокот и всхлипы бегущей воды я услышал, как Утц с Мартой о чем-то спорят по-чешски. Ему явно хотелось, чтобы я поскорее вернулся в гостиную, но я не спешил.
Я остановился полюбоваться гравюрой XIX века, запечатлевшей фейерверк в Цвингере. Потом поразглядывал фотографию героя-родителя и его великолепную награду на черной бархатной подушечке. На венецианском черном туалетном столике лежали сочинение Шницлера и роман Стефана Цвейга. На трюмо стояла большая коробка с тальком или пудрой для лица. Я заметил еще три неожиданные вещи: четки, распятие и наплечник пражского Младенца Иисуса. Кружевной абажур с кистями был слегка прожжен лампочкой. Розовые занавески с оборками и розовое атласное покрывало, явно знавшие лучшие дни, создавали атмосферу немного старомодного аляповатого женского будуара.
В свете этого открытия я взглянул на Утца по-новому. У него был лысый череп, но, кто знает, может быть, в тумбочке спрятан парик?
Не глядя мне в глаза, он поставил на проигрыватель пластинку с фортепианной сонатой саксонского придворного композитора Яна Дисмаса Зеленки.
Вошла служанка и, не скрывая раздражения, грохнула на стол два прибора, злобно звякнув вилками и ножами о стеклянную столешницу. Вышла и снова вернулась, держа в руках большое мейсенское блюдо со свиными отбивными, кислой капустой и клецками в мясном соусе.
Утц ел с угрюмой сосредоточенностью. Время от времени он запихивал в рот кусочки хлеба, отхлебывал вина и молчал, бросая на меня недовольные взгляды. Похоже, он уже жалел, что пригласил в дом этого любопытного иностранца, нарушившего его душевный покой. Да и вообще, кто знает, чем все это кончится…
Всякий раз, когда служанка заглядывала в комнату, он досадливо кривился. Но после нескольких рюмок расслабился и повеселел.
Отрезав и поддев на вилку кусочек мяса, он помахал им в воздухе и сказал:
– Когда я вижу свинину, я невольно вспоминаю, что «pork» и «por-celain» [54]54
Свинина; фарфор ( англ.).
[Закрыть]– однокоренные слова.
– То есть как? – удивился я. – Вы серьезно?
– Абсолютно. А разве вы этого не знали?
– Нет.
– Тогда я объясню.
Он снял с полки и протянул мне маленькую белую раковину каури – обычный экземпляр Cypraea moneta. Не нахожу ли я, что своей формой она напоминает поросенка?
– Пожалуй.
– Прекрасно, – сказал он. – Значит, в этом мы c вами сходимся. – Каури cлужили валютой в Африке и Азии, где их обменивали на слоновую кость, золото, рабов и прочие рыночные товары. Марко Поло называл их «porcelain shells» [55]55
Фарфоровые ракушки ( англ.).
[Закрыть], а «porcella» по-итальянски значит «поросенок».
Утц уютно икнул – очевидно, давала о себе знать кислая капуста.
– Простите, – извинился он.
– Ничего страшного.
Затем жестом фокусника он словно из воздуха извлек бутылочку из полупрозрачного белого фарфора эпохи Кубла-хана. Он приобрел ее в Париже еще до войны. Не кажется ли мне, что ее поверхность похожа на каури?
– Кажется. – Спасибо.
Затем он показал мне фотографию практически идентичной бутылки из сокровищницы собора Св. Марка – по легенде она прибыла в Венецию в багаже самого Марко Поло.
– Теперь вы улавливаете связь между «pork» и «porcelain»?
– Думаю, что да, – сказал я.
Считалось, что китайский фарфор такой же волшебный, как рог единорога или алхимическое золото, которое, как многие надеялись, способно подарить вечную молодость. Полагали, что фарфоровая чашка треснет или изменит цвет, если в нее нальют яд.
Марта убрала со стола и подала кофе, а к нему карлсбадские сливы. Утц снова икнул и принялся забрасывать меня вопросами.
Был ли я в Китае? Читал ли я письма отца Маттео Ричи или описание фарфорового производства, выполненное отцом д’Антреколем? Насколько глубоки мои познания в китайском фарфоре эпохи Сун? Мин? Цин?
Китайские императоры, сообщил он, уже четвертый век потрясают воображение европейцев своей мудростью, долгожительством и судейской праведностью. Многие верили, что законы, которыми они руководствуются, имеют небесное происхождение. Известно, что они пили из фарфора. Строили пагоды из фарфора. Гладкая блестящая поверхность фарфора идеально соответствовала их гладкой неморщинистой коже. Фарфор был их материалом, подобно тому как золото было материалом «короля-солнца».
– Кстати, – ухмыльнулся Утц, – наши советские друзья до сих пор не жалеют денег на золото.
– То есть вы хотите сказать, – перебил я его, – что фарфоромания вашего Августа – следствие его знакомства с легендами о Желтом Императоре?
– Что значит «хочу сказать»? Именно это я и говорю. Между прочим, фарфором увлекались не только короли, но и философы! Например, Лейбниц!
Лейбниц, полагавший, что этот мир лучший из всех возможных миров, считал фарфор лучшим из его материалов.
Выросшая в дверях домработница вперила в своего хозяина тяжелый, требовательный взгляд, явно давая понять, что пора закругляться.
Но Утц не обратил на нее никакого внимания.
– А теперь посмотрите-ка на этих господ!
Господа представляли собой пару одинаковых статуэток Августа Сильного в венке римского императора. Эдакие Тра-ля-ля и Труля-ля в окружении дрезденских дам. Хотя они были вылеплены без особого тщания, в них чувствовалась витальная энергия африканского фетиша.
Одна фигурка была сделана из красной бëтгеровской глины, так называемого яшмового фарфора. Другая – из белой.
– Скажите, – спросил меня Утц, – вы что-нибудь знаете о Бëтгере?
– Немного, – признался я. – Только то, что он начинал как алхимик, а затем изобрел фарфор.
– Считается, что изобрел. Но не совсем так.
Я вытащил блокнот. Утц прочел мне короткую лекцию о Бëтгере.
Иоганн Бëтгер родился в 1682 году в Шляйце, в Тюрингии. Его отец был чиновником при Монетном дворе. Детство Бëтгера прошло в мастерской деда, золотых дел мастера. Затем его отдали в обучение к фармацевту по имени Цорн.
Он начинает изучать труды по алхимии: блаженный Раймонд Лалл, Базилиус Валентин, Парацельс и «Aphorismi Chemici» ван Хельмонта. В этих сочинениях все алхимические вещества имеют собственные имена: Рубиновый Лев, Черный Ворон, Зеленый Дракон, Белая Лилия.
Он приходит к убеждению, что золото и серебро рождаются во внутренностях земли из красного и белого мышьяка. Однажды ночью товарищи-подмастерья находят его в лаборатории Цорна, едва живого от сильного отравления парами мышьяка.
Одним из клиентов Цорна был некто Ласкарис, греческий монах нищенствующего ордена, по слухам обладавший Красным Раствором, или Рубиновым Львом, капли которого достаточно, чтобы превратить свинец в золото.
Монах влюбился в юношу.
Бëтгер получает в свое распоряжение фиал с Раствором и проводит первую «успешную» трансмутацию в доме друга-студента. Второй «успешный» эксперимент проходит в присутствии Цорна и других скептически настроенных свидетелей.
Берлинские дамы в восторге от молодого алхимика. Его слава растет и достигает ушей самого короля Фридриха Вильгельма, Великого Любовника, получившего образец золота от фрау Цорн. Король приказывает немедленно арестовать Бëтгера.
Бëтгер бежит в Виттенберг, находившийся в ту пору под юрисдикцией Августа Сильного.
В ноябре 1701 года короли Пруссии и Саксонии устраивают демонстративные военные маневры в непосредственной близости от границы. Кому из суверенов достанется изготовитель золота? В конце концов Бëтгера, как какого-нибудь пустившегося в бега физика-ядерщика, под конвоем привозят в Дрезден.
В Юнгфернбастай, одной из тюрем, где ему предстоит провести последующие тринадцать лет, он ест с серебряных тарелок, держит ручную обезьянку и в секретной лаборатории ищет «arcanum universale», или философский камень.
К 1706 году саксонская казна пуста – не в последнюю очередь из-за Шведской войны и бесконечных королевских трат на китайский фарфор. Разгневанный бесплодностью бëтгеровских экспериментов, Август грозится отправить его в другую лабораторию: камеру пыток.
Бëтгер знакомится с графом фон Чирнхаусом, выдающимся химиком, другом Лейбница. Этот человек близок к созданию «настоящего» фарфора. Ему остается только изобрести печь для обжига, обладающую достаточной жаропрочностью для работы с глазурью. Оценив талант Бëтгера, Чирнхаус предлагает ему стать его помощником. Алхимик ради спасения своей жизни соглашается.
На двери мастерской Бëтгер вешает записку следующего содержания: «По произволению Творца Вселенной создатель золота обращен в простого горшечника».
В 1708 году он отправляет Августу первые образцы красного фарфора, а затем и белого.
В 1710 году в Мейсене создается саксонская мануфактура и начинается промышленное производство фарфора. Алхимический термин «аrcanum» становится официальным названием химического состава глины. Формула объявляется государственной тайной. Практически сразу один из ассистентов Бëтгера выдает ее венским конкурентам.
В 1719 году Бëтгер умирает от тоски, разочарования, пьянства и химического отравления.
В период инфляции 1923 года дрезденские банки выпускают временные дензнаки в красном и белом бëтгеровском фарфоре.
Несколько таких «смешных денежек» Утц сохранил. Он высыпал их мне на ладонь, как шоколадки.
– Забавно, – сказал я.
– Самое забавное впереди.
Большинство исследователей, продолжил он, считают открытия Бëтгера в области фарфора неким побочным продуктом его занятий алхимией, подобно ртутному лекарству Парацельса от сифилиса.
Он с этим не согласен. Не следует переносить на прошлые века наш параноидальный меркантилизм. Алхимия никогда – разве что среди ее самых вульгарных практиков – не была техникой умножения богатства ad infi nitum [56]56
До бесконечности ( лат.).
[Закрыть]. Она была мистическим деланием. Попытки открыть секрет производства золота и производства фарфора – две стороны одного и того же процесса: поиска вещества, дарящего бессмертие.
Что касается его самого, то он занялся алхимией по совету Зигмунда Крауса. Во-первых, чтобы было куда приложить свои энциклопедические знания, а во-вторых, чтобы придать фарфоромании метафизическое измерение и таким образом застраховать коллекцию, переведя ее на духовный уровень на случай, если бы коммунистам вздумалось ее отобрать.
Утц читал Юнга, Гëте, Микаэля Майера, путаные заметки доктора Ди и «Герметическую мифологию» Пернети. Он знал все, что следовало знать об «основательнице алхимии» Марии Еврейке, химике III века, которая, как считается, изобрела реторту.
Китайские алхимики, продолжил Утц, учили, что золото – «тело богов». Христиане, с их тягой к упрощению, приравняли его к телу Христову: совершенному неокисляющемуся веществу, эликсиру, способному вырвать нас из пасти Смерти. Но было ли то золото золотом в современном значении этого слова? Не являлось ли оно «aurum potabile», то есть подобием живой воды?
Считалось, что драгоценные камни и металлы, добавил Утц, вызревают в лоне земли. Подобно тому как полупрозрачный эмбрион вырастает в существо из крови и плоти, кристаллы, набирая цвет, обращаются в рубины, серебро – в золото. Алхимики верили, что могут ускорить этот процесс с помощью двух тинктур: Белого Камня, посредством которого основные металлы превращаются в серебро, и Красного Камня, последнего достижения алхимии, – самого золота.
Понятно?
– Надеюсь, что да, – вымученно улыбнулся я.
Он сменил тему.
Что мне известно о гомункулусе Парацельса? Ничего? Дело в том, что Парацельс, по крайней мере по его собственным словам, создал гомункулуса путем ферментации крови, спермы и мочи.
– Что-то вроде младенца в пробирке?
– Скорее что-то вроде голема.
– Я подозревал, что мы еще вернемся к големам.
– Правильно подозревали, – кивнул Утц.
А теперь он хотел бы, чтобы я высказал свое мнение по поводу истории с Навуходоносором и тремя отроками: Седрахом, Мисахом и Аведнаго, которых запихнули в раскаленную печь для обжига, нагретую до температуры, в семь раз превышавшей обычную.
– Вы представляете себе, что это такое? – Утц помахал руками в воздухе. – В семь раз!
– Вы хотите сказать, что Седрах, Мисах и Авденаго [57]57
Иудейские юноши в вавилонском пленении, друзья пророка Даниила, которые были брошены царем Навуходоносором в печь за отказ поклониться идолу, но были сохранены архангелом Михаилом и вышли из огня невредимыми.
[Закрыть]были глиняными фигурами?
– Они могли ими быть, – отозвался он. – Во всяком случае, они уцелели в пламени.
– Ясно. Значит, вы всерьез думаете, что фарфоровые вещи живые?
– И да и нет, – хмыкнул он. – Фарфор умирает в огне и возрождается вновь. Вы должны понимать, что печь – это ад. Температура обжига фарфора – 1450 градусов по Цельсию.
– Угу, – сказал я.








