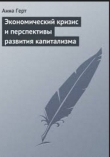Текст книги "Статьи в журнале "Русская Жизнь"(v.1.1)"
Автор книги: Борис Кагарлицкий
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
Приказчики господствующих классов называют строителя этой партии "аморалистом". В глазах сознательных рабочих это обвинение носит почетный характер. Оно означает: Ленин отказывался признавать нормы морали, установленные рабовладельцами для рабов, и никогда не соблюдаемые самими рабовладельцами; он призывал пролетариат распространить классовую борьбу также и на область морали. Кто склоняется перед правилами, установленными врагом, тот никогда не победит врага!
"Аморализм" Ленина, т.-е. отвержение им над-классовой морали, не помешал ему всю жизнь сохранять верность одному и тому же идеалу; отдавать всю свою личность делу угнетенных; проявлять высшую добросовестность в сфере идей и высшую неустрашимость в сфере действия; относиться без тени превосходства к "простому" рабочему, к беззащитной женщине, к ребенку. Не похоже ли, что "аморализм" есть в данном случае только синоним для более высокой человеческой морали?
Поучительный эпизод
Здесь уместно рассказать эпизод, который, несмотря на свой скромный масштаб, недурно иллюстрирует различие между их и нашей моралью. В 1935 г., в письмах к своим бельгийским друзьям, я развивал ту мысль, что попытка молодой революционной партии строить «собственные» профсоюзы равносильна самоубийству. Надо находить рабочих там, где они есть. Но ведь это значит делать взносы на содержание оппортунистического аппарата? Конечно, отвечал я, за право вести подкоп против реформистов приходится временно платить им дань. Но ведь реформисты не позволят вести подкоп? Конечно, отвечал я, ведение подкопа требует мер конспирации. Реформисты – политическая полиция буржуазии внутри рабочего класса. Надо уметь действовать без их разрешения и против их запрещения… При случайном обыске у т. Д., в связи, если не ошибаюсь, с делом о поставке оружия для испанских рабочих, бельгийская полиция захватила мое письмо. Через несколько дней оно оказалось опубликовано. Печать Вандервельде, Де-Манна и Спаака не пощадила, конечно, молний против моего «маккиавелизма» и «иезуитизма». Кто же эти обличители? Многолетний председатель Второго Интернационала, Вандервельде, давно стал доверенным лицом бельгийского капитала. Де-Манн, который в ряде тяжеловесных томов облагораживал социализм идеалистической моралью и подбирался к религии, воспользовался первым подходящим случаем, чтоб обмануть рабочих и стать заурядным министром буржуазии. Еще красочнее обстояло дело со Спааком. Полтора года перед тем этот господин состоял в левой социалистической оппозиции и приезжал ко мне во Францию советоваться о методах борьбы против бюрократии Вандервельде. Я излагал ему те же мысли, которые составили впоследствии содержание моего письма. Но уже через год после визита, Спаак отказался от терниев для роз. Предав своих друзей по оппозиции, он стал одним из наиболее циничных министров бельгийского капитала. В профессиональных союзах и в своей партии эти господа душат каждый голос критики, систематически развращают и подкупают более выдающихся рабочих и столь же систематически исключают непокорных. Они отличаются от ГПУ только тем, что не прибегают пока к пролитию крови: в качестве добрых патриотов, они приберегают рабочую кровь для ближайшей империалистической войны. Ясно: нужно было быть исчадием ада, нравственным уродом, «кафром», большевиком, чтоб подать революционным рабочим совет соблюдать правила конспирации в борьбе против этих господ!
С точки зрения законов Бельгии, письмо мое не заключало, разумеется, ничего криминального. Обязанностью "демократической" полиции было вернуть письмо адресату с извинением. Обязанностью социалистической партии было протестовать против обыска, продиктованного заботой об интересах генерала Франко. Но господа социалисты отнюдь не постеснялись воспользоваться нескромной услугой полиции: без этого они не имели бы счастливого повода обнаружить лишний раз преимущества своей морали над аморализмом большевиков.
Все символично в этом эпизоде. Бельгийские социал-демократы опрокинули на меня ушаты своего негодования как раз в то время, когда их норвежские единомышленники держали меня и жену под замком, чтоб помешать нам защищаться против обвинений ГПУ. Норвежское правительство отлично знало, что московские обвинения подложны: об этом открыто писал в первые дни социал-демократический официоз. Но Москва ударила норвежских пароходовладельцев и рыботорговцев по карману, – и господа социал-демократы немедленно опустились на четвереньки. Вождь партии, Мартин Транмель, не только авторитет в сфере морали, но прямо праведник: не пьет, не курит, не вкушает мясного и купается зимой в ледяной проруби. Это не помешало ему, после того, как он арестовал нас по приказу ГПУ, специально пригласить для клеветы против меня норвежского агента ГПУ, Якова Фриза, буржуа без чести и совести. Но довольно…
Мораль этих господ состоит из условных правил и оборотов речи, которые должны прикрывать их интересы, аппетиты и страхи. В большинстве своем они готовы на всякую низость – отказ от убеждений, измену, предательство – во имя честолюбия или корысти. В священной сфере личных интересов цель оправдывает для них все средства. Но именно поэтому им необходим особый кодекс морали, прочной, и в то же время эластичной, как хорошие подтяжки. Они ненавидят всякого, кто разоблачает их профессиональные секреты перед массами. В "мирное" время их ненависть выражается в клевете, базарной или "философской". Во время острых социальных конфликтов, как в Испании, эти моралисты, рука об руку с ГПУ, истребляют революционеров. А чтоб оправдать себя, они повторяют: "троцкизм и сталинизм – одно и то же".
Диалектическая взаимозависимость цели и средства
Средство может быть оправдано только целью. Но ведь и цель, в свою очередь, должна быть оправдана. С точки зрения марксизма, который выражает исторические интересы пролетариата, цель оправдана, если она ведет к повышению власти человека над природой и к уничтожению власти человека над человеком.
Значит, для достижения этой цели все позволено? саркастически спросит филистер, обнаружив, что он ничего не понял. Позволено все то, ответим мы, что действительно ведет к освобождению человечества. Так как достигнуть этой цели можно только революционным путем, то освободительная мораль пролетариата имеет, по необходимости, революционный характер. Она непримиримо противостоит не только догмам религии, но и всякого рода идеалистическим фетишам, этим философским жандармам господствующего класса. Она выводит правила поведения из законов развития общества, следовательно, прежде всего, из классовой борьбы, этого закона всех законов.
Значит, все же, в классовой борьбе с капиталистами дозволены все средства: ложь, подлог, предательство, убийство и прочее? – продолжает настаивать моралист. Допустимы и обязательны те и только те средства, отвечаем мы, которые сплачивают революционный пролетариат, наполняют его душу непримиримой враждой к угнетению, научают его презирать официальную мораль и ее демократических подголосков, пропитывают его сознанием собственной исторической миссии, повышают его мужество и самоотверженность в борьбе. Именно из этого вытекает, что не все средства позволены. Когда мы говорим, что цель оправдывает средства, то отсюда вытекает для нас и тот вывод, что великая революционная цель отвергает, в качестве средств, все те низменные приемы и методы, которые противопоставляют одну часть рабочего класса другим его частям; или пытаются осчастливить массу, без ее участия; или понижают доверие массы к себе самой и к своей организации, подменяя его преклонением перед "вождями". Прежде всего и непримиримее всего революционная мораль отвергает сервилизм по отношению к буржуазии и высокомерие по отношению к трудящимся, т.-е. те качества, которые насквозь пропитывают мелко-буржуазных педантов и моралистов.
Эти критерии не дают, разумеется, готового ответа на вопрос, что позволено и что недопустимо в каждом отдельном случае. Таких автоматических ответов и не может быть. Вопросы революционной морали сливаются с вопросами революционной стратегии и тактики. Правильный ответ на эти вопросы дает живой опыт движения в свете теории.
Диалектический материализм не знает дуализма средства и цели. Цель естественно вытекает из самого исторического движения. Средства органически подчинены цели. Ближайшая цель становится средством для более отдаленной цели. В своей драме, "Франц фон Сикинген", Фердинанд Лассаль влагает следующие слова в уста одного из героев:
"Укажи не только цель, укажи и путь.
Ибо так нерасторжимо врастают друг в друга путь и цель,
Что одно всегда меняется вместе с другим,
И путь иной порождает иную цель".
Стихи Лассаля весьма несовершенны. Еще хуже то, что в практической политике Лассаль сам отклонялся от выраженного им правила: достаточно напомнить, что он докатился до тайных сделок с Бисмарком! Но диалектическая взаимозависимость между средством и целью выражена в приведенных четырех строках вполне правильно. Надо сеять пшеничное зерно, чтоб получить пшеничный колос.
Допустим или недопустим, например, индивидуальный террор с "чисто моральной" точки зрения? В этой абстрактной форме вопрос совершенно не существует для нас. Консервативные швейцарские буржуа и сейчас воздают официальную хвалу террористу Вильгельму Теллю. Наши симпатии полностью на стороне ирландских, русских, польских или индусских террористов в их борьбе против национального и политического гнета. Убитый Киров, грубый сатрап, не вызывает никакого сочувствия. Наше отношение к убийце остается нейтральным только потому, что мы не знаем руководивших им мотивов. Еслиб стало известно, что Николаев выступил сознательным мстителем за попираемые Кировым права рабочих, наши симпатии были бы целиком на стороне убийцы. Однако, решающее значение имеет для нас не вопрос о субъективных мотивах, а вопрос об объективной целесообразности. Способно ли данное средство действительно вести к цели? В отношении индивидуального террора теория и опыт свидетельствуют, что нет. Террористу мы говорим: заменить массы нельзя; только в массовом движении ты мог бы найти целесообразное применение своему героизму. Однако, в условиях гражданской войны убийства отдельных насильников перестают быть актами индивидуального терроризма. Если бы, скажем, революционер взорвал на воздух генерала Франко и его штаб, вряд ли это вызвало бы нравственное возмущение даже у демократических евнухов. В условиях гражданской войны подобный акт был бы и политически вполне целесообразен! Так, даже в самом остром вопросе – убийство человека человеком, – моральные абсолюты оказываются совершенно непригодны. Моральная оценка, вместе с политической, вытекает из внутренних потребностей борьбы.
Освобождение рабочих может быть только делом самих рабочих. Нет, поэтому, большего преступления, как обманывать массы, выдавать поражения за победы, друзей за врагов, подкупать вождей, фабриковать легенды, ставить фальшивые процессы, – словом, делать то, что делают сталинцы. Эти средства могут служить только одной цели: продлить господство клики, уже осужденной историей. Но они не могут служить освобождению масс. Вот почему Четвертый Интернационал ведет против сталинизма борьбу не на жизнь, а на смерть.
Массы, разумеется, вовсе не безгрешны. Идеализация масс нам чужда. Мы видели их в разных условиях, на разных этапах, причем в величайших политических потрясениях. Мы наблюдали их сильные и слабые стороны. Сильные стороны: решимость, самоотверженность, героизм находили всегда наиболее яркое выражение во время подъема революции. В этот период большевики стояли во главе масс. Затем надвинулась другая историческая глава, когда вскрылись слабые стороны угнетенных: неоднородность, недостаток культуры, узость кругозора. Массы устали от напряжения, разочаровались, потеряли веру в себя и – очистили место новой аристократии. В этот период большевики ("троцкисты") оказались изолированы от масс. Мы практически проделали два таких больших исторических цикла: 1897-1905, годы прибоя; 1907-1913, годы отлива; 1917-1923 г.г., период небывалого в истории подъема; наконец, новый период реакции, который не закончился еще и сегодня. На этих больших событиях "троцкисты" учились ритму истории, т.-е. диалектике борьбы классов. Они учились и, кажется, до некоторой степени научились подчинять этому объективному ритму свои субъективные планы и программы. Они научились не приходить в отчаяние от того, что законы истории не зависят от наших индивидуальных вкусов или не подчиняются нашим моральным критериям. Они научились свои индивидуальные вкусы подчинять законам истории. Они научились не страшиться самых могущественных врагов, если их могущество находится в противоречии с потребностями исторического развития. Они умеют плыть против течения в глубокой уверенности, что новый исторический поток могущественной силы вынесет их на тот берег. Не все доплывут, многие утонут. Но участвовать в этом движении с открытыми глазами и с напряженной волей – только это и может дать высшее моральное удовлетворение мыслящему существу!
Л. Троцкий
Койоакан, 16 февраля 1938 г. *
P.S. Я писал эти страницы в те дни, когда мой сын, неведомо для меня, боролся со смертью. Я посвящаю его памяти эту небольшую работу, которая, я надеюсь, встретила бы его одобрение: Лев Седов был подлинным революционером и презирал фарисеев.
Л.Т.
* Статья была вчерне закончена 16 февраля. При окончательной обработке автор включил в текст несколько более свежих примеров.
Cчет на миллионы
Хороший фашизм и фашизм плохой

Британские колонисты в Египте. 1869
Английский социолог Стюарт Холл назвал это «дискурсивной борьбой». Идеям, концепциям, анализу противопоставляются не другие идеи, критика, аргументы, а образы, эмоции и ассоциации. Не только идеи, но даже и термины могут быть эмоционально дискредитированы и изъяты из употребления, превратившись в некий негативный знак, запретный звук.
На протяжении последнего десятилетия ХХ века именно такая «дискурсивная борьба» вывела из употребления в «серьезном обществе» социалистические идеи любого рода. Достаточно было произнести слово «национализация», «классовые интересы» или даже просто упомянуть о «социальной справедливости», как в ответ звучало слово «ГУЛАГ» и обвинение в тоталитаризме.
Любопытно, что параллельно таким же точно образом (только в обратном порядке) происходила реабилитация «национального дискурса». Разумеется, часть либеральной интеллигенции и сегодня готова объявить фашистом всякого, кто упомянет существование этнических различий или, не дай Бог, нации. Но этот тип ответа, в свою очередь, свидетельствует о маргинальной позиции говорящего в рамках нового «мейнстрима». А господствующая тенденция имеет направление противоположное. Даже в Германии, где после 1945 года любые разговоры про «национальные корни» и «исторические традиции немцев» вызывали у благопристойной публики вполне понятный дискомфорт, ситуация меняется. Нацизм сам по себе, национальная традиция – сама по себе. «Работа над дискурсом» позволила понемногу, осторожно и сравнительно безболезненно расцепить эти понятия. И в начале нынешнего века даже социал-демократы в Германии заговорили так, как говорили за сто лет до этого правые консерваторы. С другой стороны, это логично. Если любые идеи, связанные с социальными преобразованиями, защита интересов труда и обсуждение нового, коллективистского способа организации жизни равнозначны тоталитаризму, то на что опираться в поисках хоть какой-то общности? Только на голос крови, национальную традицию и общие культурные корни.
История ХХ века и в самом деле предоставила немалое количество примеров того, как попытки социального преобразования заканчивались кровопролитием и репрессиями. Правда, были и куда менее драматичные примеры реформ и революций, о которых предпочитают не упоминать, благо они были не столь радикальными, как события в России в 1917-м или в Китае в 1949 году. Действительная практика тоталитаризма, сопровождавшаяся миллионами жертв, породила задним числом целую литературную традицию антитоталитарных разоблачений, авторы которых, опираясь на эти чудовищные факты, дополняли их массой домыслов и прямой лжи. Чем ужаснее были подлинные истории, тем легче было врать и дополнять их новыми страшными рассказами. Так несколько миллионов жертв ГУЛАГА превратились в немыслимые десятки миллионов, история репрессий обросла фантастическими подробностями. Ложь оказалась поставлена на поток новой пропагандой, успешно заимствовавшей приемы тоталитарной идеологической машины. Парадоксальным, но закономерным побочным эффектом этой лжи оказались всё более массовые выступления в защиту Сталина, его режима и его времени. Ведь чем больше очевидной лжи нам рассказывают про генералиссимуса, тем больше соблазн предположить, что репрессий и вовсе не было, а ГУЛАГ представлял собой сеть лечебно-оздоровительных учреждений. Да, подобное заявление будет наглой и отвратительной ложью, но поскольку другая сторона лжет не менее нагло и не менее отвратительно, то не всё ли равно, кому верить? Из двух видов вранья человек выбирает более для себя удобное.
Так что, если вы видите сегодня молодых людей с портретами Сталина на майках, винить в этом надо не стариков, защищающих ценности своей молодости, а либеральных пропагандистов и агитаторов, превративших историю ГУЛАГа в пошлый «ужастик».
С другой стороны, на фоне систематического обсуждения «ужасов коммунизма» (как реальных, так и вымышленных) любая репрессивная практика капитализма выглядела умеренной и даже необходимой (должен же «свободный мир» защищать себя!). Косвенным результатом стало снисходительное отношение к фашизму. А итальянский фашизм – обошедшийся без концлагерей и газовых камер – выглядел уж вовсе милым и домашним, в противовес германскому нацизму. Различие терминов использовалось для обоснования идеологической реабилитации. «Хороший» фашизм в стиле милейшего Бенито Муссолини – против «плохого» нацизма Адольфа Гитлера. В России, если что, заимствовать будут фашистские, а не нацистские традиции. Очень обнадеживает, не правда ли?
Но это всё же крайности, отвергаемые массовым сознанием, официальными пропагандистскими аппаратами и интеллектуалами, состоящими на службе у статусных политиков. Злодеяний фашизма массовая идеология не отрицает, и даже готова смириться с тем, что число жертв у правого тоталитаризма было большим, чем у левого. Принципиально при этом, однако, что тоталитаризм в любом его виде сразу же выводится за пределы «нормы», каковой объявлен либеральный капитализм. Если советская пропаганда (кстати, как и левые социал-демократы) подчеркивала связь между фашизмом и капитализмом, то теория тоталитаризма эту связь принципиально отрицает.
Тезис, как минимум, спорный. Либеральные социологи постоянно подчеркивают системную, социально-экономическую логику в тоталитаризме «левом», но почему-то столь же настойчиво и последовательно отрицают эту логику в случае тоталитаризма «правого». Мол, при отсутствии частной собственности ГУЛАГ получается обязательно, а в условиях буржуазного экономического порядка Бухенвальд и Освенцим получились совершенно случайно, как исключение. Хотя можно отметить и другую сторону медали – экономическая рациональность немецких концлагерей (в отличие от многократно описанного иррационализма и абсурда лагерей советских) была как раз закономерным результатом рыночной экономики, частного предпринимательства и протестантской этики.
И всё же давайте поверим на слово сторонникам «теории тоталитаризма» и представим себе, что нацизм с его террором не имеет к капитализму и капиталу никакого отношения, а прибыли, которые получали сотрудничавшие с нацистами германские корпорации, никак не были связаны с репрессивным характером политического режима. Предположим, что либеральный капитализм и свободный рынок к этой практике никакого отношения не имеет, даже самого косвенного. Но так ли уж гуманен либеральный порядок сам по себе?
Увы, исторический итог буржуазной модернизации свидетельствует о чем угодно, только не о гуманности. Опять же оставим в стороне террористические эксцессы буржуазных революций, нам в очередной раз напомнят, что они не имеют никакого отношения к гуманной хозяйственной практике. Постараемся забыть про генерала Пиночета, внедрявшего рыночную свободу с помощью террора, про аргентинских и уругвайских генералов, последовавших его примеру и про крошечный Сальвадор, где миллион человек стали жертвами правого террора – во имя борьбы с коммунизмом. Демонстративно забудем и про индонезийского диктатора Сухарто, который сумел истребить около миллиона сограждан всего за несколько недель – тоже во имя торжества свободной экономики, которая, кстати, очень даже неплохо в итоге получилась. Индонезию к концу правления Сухарто причислили к списку азиатских индустриальных «тигров».
Всё это «эксцессы» политики, которые лежат на совести конкретных государственных деятелей, тогда как защищаемый ими экономический порядок не имел никакой связи с подобными злодеяниями. Что ж, попробуем поверить и в это. Остановимся только на тех случаях массовых смертей, которые никак нельзя объяснить политикой. История капитала полна примерами массового террора, имевшего чисто экономические причины и корни. Пресловутое огораживание в Англии XVI века (повторившееся в Шотландии 200 лет спустя), сопровождалось гибелью от голода тысяч людей и по внешним признакам выглядит не многим лучше советской коллективизации. «Освобождение» работника от земли и превращение людей в индустриальных пролетариев было отнюдь не добровольным, а потому нуждалось в жестком полицейском контроле над «праздношатающимся» населением, которое необходимо было загнать на работу – на мануфактуры, корабельные верфи, металлургические предприятия и в шахты. Потребность в дешевом труде на другой стороне Атлантики создала спрос (чисто рыночный, разумеется) на чернокожих рабов. Работорговля стала одним из важнейших источников накопления капитала для буржуазии Новой Англии, судовладельцев британских портовых городов, голландского купечества. Ясное дело, белые люди никого сами в рабство не обращали. Они лишь покупали чернокожих рабов, которых им продавали арабы и местные чернокожие – наиболее европеизированные, продвинутые и ориентированные на ценности западной цивилизации. Именно эти прибрежные племена, принявшие христианство и подражавшие образу жизни белых людей, нашли свое место в новом трансатлантическом разделении труда, охотясь на живущих в глубине континента язычников. Спустя два столетия этот конфликт бумерангом вернулся к их потомкам, когда после ухода колонизаторов племена из глубинки двинулись на прибрежные города Анголы и Мозамбика, мечтая расквитаться за прошлое. А взявшие власть европеизированные мулаты, воспитанные в духе ценностей западного просвещения, и их гуманные парижские учителя никак не могли понять, почему вместо строительства новой свободной нации получается межплеменная резня. В свою очередь европейский обыватель, забывая о политкорректности за кружкой пива, бормотал, что «у этих черных» иначе и быть не может, они всегда ели друг друга.
Итогом работорговли были не только миллионы людей, перевезенных через Атлантику для работы в плантационном ГУЛАГе, но и по меньшей мере миллион чернокожих рабов, которых «не довезли» только в течение XVIII века. Поставки рабов планировались и обсуждались деловой прессой наряду с закупками хлопка и курсом акций, а некоторое количество смертей при транспортировке каждой партии живого товара было заложено в смету изначально. Демографические и генетические последствия такой экономической деятельности не до конца исследованы по сей день – ведь забирали молодых и самых здоровых.
Гуманный XVIII век, триумф эпохи европейского Просвещения, завершился утверждением британского господства в Индии. Точнее, на первых порах – в Бенгалии. Надо сказать, что новый политический и экономический режим отнюдь не был плодом исключительных усилий белых джентльменов в треугольных шляпах. Деятельность сэра Роберта Клайва, вошедшего в историю «завоевателем Индии», щедро финансировалась бенгальскими банкирами и купцами, видевшими прямую выгоду в установлении нового порядка. Англичане обещали им неприкосновенность частной собственности и надежный доступ к рынкам за океаном. И то и другое они получили. А вслед за экономической реформой, проведенной местными и заморскими сторонниками свободного рынка в полном соответствии с господствовавшими тогда (и теперь) идеями, в стране воцарился голод. Прекращение государственного вмешательства в экономику завершилось голодомором куда более масштабным, чем на Украине в XX веке. Когда в Бенгалию прибыл новый генерал-губернатор Уоррен Гастингс, он обнаружил страну, усыпанную человеческими скелетами. Происходило это на фоне небывалого экономического процветания.
Гастингс оценил последствия голода в Бенгалии в два миллиона жизней. Возможно, он несколько преувеличил, тем более что своевременно жертв не считали, порой даже не хоронили. Некоторые меры по «регулированию рынка», принятые новым руководителем провинции, отчасти улучшили ситуацию, хотя были они весьма умеренными и проводились так, чтобы не затронуть доходов компании и ее туземных партнеров.
Поучительно, что даже националистическая традиция в индийской историографии сегодня не пытается обвинить англичан в сознательном стремлении выморить бенгальский народ голодом – в отличие от украинского национального дискурса, представляющего Голодомор в виде политики геноцида, учиненного русскими и евреями по отношению к жителям Малороссии. Напротив, индийские историки приводят множество документов, свидетельствующих о том, что «национальный вопрос» мало волновал творцов новой колониальной политики, среди которых индийцев (как индуистского, так и мусульманского вероисповедания) было ничуть не меньше, чем белых протестантов – шотландцев и англичан.
Дальнейшая история колониализма сопровождалась новыми волнами массовых репрессий, связанных то с расчисткой земель под более рентабельные экспортные культуры, то с подавлением восстаний, вызванных отнюдь не политическими, а по большей части социально-экономическими причинами. Население колониальных стран на первых порах было совершенно чуждо национальному самосознанию, да и религиозные вопросы стояли не слишком остро (Восток привык жить в условиях религиозного плюрализма, в языческой Африке постепенно распространялось христианство). Сопротивление вызывали экономические новшества, которые оборачивались разрушением традиционного образа жизни, обнищанием и обезземеливанием.
Бельгийский террор в Конго стал скандальной сенсацией на рубеже XIX и XX веков. Немецкий террор в Намибии был тщательно документирован англичанами и бурами после захвата колонии во время Первой мировой войны. Буры, совсем недавно «расчистившие» пространство под собственные фермы, теперь с особой дотошностью записывали со слов пострадавших аналогичные преступления немцев.
Всё это, конечно, «дела давно минувших дней». Но если кто-то думает, будто подобная практика безвозвратно ушла в прошлое, пусть ознакомится с отчетами о работе современных транснациональных корпораций. «Расчистка» территории для экономически более выгодных видов деятельности является и сегодня обычной практикой в Африке и некоторых частях Азии. Самым последним примером стали усилия, предпринятые всё в той же Западной Бенгалии местным коммунистическим правительством, выполняющим указания американских компаний, пришедших сюда создавать свободную экономическую зону. Свободную от лишних и ненужных людей.
Подспудным оправданием подобной практики является скрытый расизм, невысказанный, но постоянно думаемый аргумент – всё это происходит не с белыми людьми и не в Европе. Как в донесении всё того же сэра Роберта Клайва после блистательной победы при Плесси: «С нашей стороны погибло всего 18 человек, да и те почти все цветные».
Фашизм вызвал ужас и шок прежде всего тем, что практику, характерную и «нормальную» для колониального мира «периферии», перенес в Европу. Сегодня в Европе подобное опять считается невозможным. По крайней мере – пока…
Принципиальным отличием капиталистического «рыночного» террора от террора «тоталитарного» является то, что последний осуществляется правительством, берущим на себя политическую и моральную ответственность. Напротив, террор рыночный осуществляется стихийно и на политическом уровне за него никто не отвечает. Вернее, ответственность распределяется между множеством конкретных злодеев, каждый из которых отвечает только за свою часть «работы». С другой стороны, как заметил один из героев книги Сьюзан Джордж «Доклад Лугано», рыночный террор эффективнее. Надзирателей концлагеря можно подкупить или разжалобить. Бюрократия бывает косной и медлительной. Только рынок решает проблему уничтожения людей со свойственной ему бескомпромиссной и неумолимой эффективностью. Подчиняясь логике стихийного процесса.
И в конечном счете, никто ни за что не отвечает. Заказчики террора, получатели прибылей, наследники капитала, созданного рабским трудом, остаются респектабельными гражданами, чья репутация выше всяких подозрений.
Миллионы жертв экономической эффективности остаются непризнанными, о них не вспоминают и за совершенные преступления никто не собирается приносить покаяние. А потому экономический холокост может повторяться снова и снова.
© 2007-2009 «Русская жизнь»