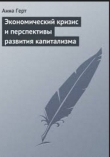Текст книги "Статьи в журнале "Русская Жизнь"(v.1.1)"
Автор книги: Борис Кагарлицкий
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Политическая расстановка фигур
«Троцкизм – это революционная романтика, сталинизм – реальная политика». От этого пошлого противопоставления, которым средний филистер вчера еще оправдывал свою дружбу с термидором против революции, сегодня не осталось и следа. Троцкизм и сталинизм вообще больше не противопоставляются, а отождествляются. Отождествляются по форме, но не по существу. Отступив на меридиан «категорического императива», демократы продолжают, фактически защищать ГПУ, только более замаскированно и вероломно. Кто клевещет на жертву, тот помогает палачу. В этом случае, как и в других, мораль служит политике.
Демократический филистер и сталинский бюрократ являются, если не близнецами, то братьями по духу. Политически они во всяком случае принадлежат к одному лагерю. На сотрудничестве сталинцев, социал– демократов и либералов основана нынешняя правительственная система Франции и – с присоединением анархистов – республиканской Испании. Если британская Независимая рабочая партия выглядит столь помятой, то это потому, что она за ряд лет не выходила из объятий Коминтерна. Французская социалистическая партия исключила троцкистов из своих рядов как раз в тот момент, когда готовилась к слиянию со сталинцами. Если слияние не осуществилось, то не из-за принципиальных расхождений, – что осталось от них? – а лишь вследствие страха социал-демократических карьеристов за свои посты. Вернувшись из Испании, Норман Томас объявил, что троцкисты "объективно" помогают Франко и этой субъективной нелепостью оказал "объективную" услугу палачам ГПУ. Этот праведник исключил американских "троцкистов" из своей партии, как раз в тот период, когда ГПУ расстреливало их единомышленников в СССР и в Испании. Во многих демократичных странах сталинцы, несмотря на свой "аморализм", не без успеха, проникают в государственный аппарат. В профессиональных союзах они отлично уживаются с бюрократами всех других цветов. Правда, сталинцы слишком легко относятся к уголовному уложению и этим отпугивают своих "демократических" друзей в мирное время; зато в исключительных обстоятельствах, как указывает пример Испании, они тем увереннее становятся вождями мелкой буржуазии против пролетариата.
Второй и Амстердамский Интернационалы не брали на себя, конечно, ответственности за подлоги: эту работу они предоставляли Коминтерну. Сами они молчали. В частном порядке, они объясняли, что, с точки зрения морали, они против Сталина, но с точки зрения политики – за него. Только когда Народный фронт во Франции дал непоправимые трещины и заставил социалистов подумать о завтрашнем дне, Леон Блюм нашел на дне своей чернильницы необходимые формы нравственного негодования.
Если Отто Бауэр мягко осуждает юстицию Вышинского, то лишь для того, чтоб с тем большим "беспристрастием" поддержать политику Сталина. Судьба социализма, по недавнему утверждению Бауэра, связана с судьбой Советского Союза. "А судьба Советского Союза – продолжает он – есть судьба сталинизма, пока (!) внутреннее развитие самого Советского Союза не преодолеет сталинской фазы развития". В этой великолепной фразе весь Бауэр, весь австромарксизм, вся ложь и гниль социал-демократии! "Пока" сталинская бюрократия достаточно сильна, чтоб истреблять прогрессивных представителей "внутреннего развития", до тех пор Бауэр остается со Сталиным. Когда же революционные силы, вопреки Бауэру, опрокинут Сталина, тогда Бауэр великодушно признает "внутреннее развитие", – с запозданием лет на десять, не больше.
Вслед за старыми Интернационалами тянется и Лондонское бюро центристов, которое счастливо сочетает в себе черты детского сада, школы для отсталых подростков и инвалидного дома. Секретарь Бюро, Феннер Броквей, начал с заявления, что расследование московских процессов может "повредить СССР" и, взамен этого, предложил расследовать… политическую деятельность Троцкого, через "беспристрастную" комиссию из пяти непримиримых противников Троцкого. Брандлер и Лонстон публично солидаризовались с Ягодой: они отступили только перед Ежовым; Яков Вальхер, под заведомо ложным предлогом, отказался дать комиссии Д. Дюи свидетельское показание, неблагоприятное для Сталина. Гнилая мораль этих людей есть только продукт их гнилой политики.
Но самую плачевную роль играют, пожалуй, анархисты. Если сталинизм и троцкизм – одно и то же? как твердят они в каждой строке, почему же испанские анархисты помогают сталинцам расправляться с троцкистами, а, заодно, и с революционными анархистами? Более откровенные теоретики безвластия отвечают: это плата за оружие. Другими словами: цель оправдывает средства. Но какова их цель: анархизм? социализм? Нет, спасение той самой буржуазной демократии, которая подготовила успехи фашизма. Низменной цели соответствуют низменные средства.
Такова действительная расстановка фигур на мировой политической доске!
Сталинизм – продукт старого общества
Россия совершила самый грандиозный в истории скачок вперед, в котором нашли себе выражение наиболее прогрессивные силы страны. Во время нынешней реакции, размах которой пропорционален размаху революции, отсталость берет свой реванш. Сталинизм стал воплощением этой реакции. Варварство старой русской истории на новых социальных основах кажется еще отвратительнее, ибо вынуждено прикрываться невиданным в истории лицемерием.
Либералы и социал-демократы Запада, которых Октябрьская революция заставила усомниться в своих обветшалых идеях, почувствовали ныне новый прилив бодрости. Нравственная гангрена советской бюрократии кажется им реабилитацией либерализма. На свет извлекаются затасканные прописи: "всякая диктатура заключает в себе залог собственного разложения"; "только демократия обеспечивает развитие личности" и пр. Противопоставление демократии и диктатуры, заключающее в себе, в данном случае, осуждение социализма во имя буржуазного режима, поражает, с теоретической точки зрения, своей неграмотностью и недобросовестностью. Мерзость сталинизма, как историческая реальность, противопоставляется демократии, как над-исторической абстракции. Но демократия тоже имела свою историю, в которой не было недостатка и мерзости. Для характеристики советской бюрократии мы заимствуем имена "термидора" и "бонапартизма" из истории буржуазной демократии, ибо – да будет известно запоздалым либеральным доктринерам, – демократия появилась на свет вовсе не демократическим путем. Только пошляки могут удовлетворяться рассуждениями на тему о том что бонапартизм явился "законным детищем" якобинизма, исторической карой за нарушение демократии и пр. Без якобинской расправы над феодализмом немыслима была бы даже и буржуазная демократия. Противопоставление конкретных исторических этапов: якобинизма, термидора, бонапартизма, идеализованной абстракции "демократии", столь же порочно, как противопоставление родовых мук живому младенцу.
Сталинизм, в свою очередь, есть не абстракция "диктатуры", а грандиозная бюрократическая реакция против пролетарской диктатуры в отсталой и изолированной стране. Октябрьская революция низвергла привилегии, объявила войну социальному неравенству, заменила бюрократию самоуправлением трудящихся, ниспровергла тайную дипломатию, стремилась придать характер полной прозрачности всем общественным отношениям. Сталинизм восстановил наиболее оскорбительные формы привилегий, придал неравенству вызывающий характер, задушил массовую самодеятельность полицейским абсолютизмом, превратил управление в монополию кремлевской олигархии и возродил фетишизм власти в таких формах, о каких не смела мечтать абсолютная монархия.
Социальная реакция всех видов вынуждена маскировать свои действительные цели. Чем резче переход от революции к реакции, чем больше реакция зависит от традиций революции, т.-е. чем больше она боится масс, тем больше она вынуждена прибегать к лжи и подлогу в борьбе против представителей революции. Сталинские подлоги являются не плодом большевистского "аморализма"; нет, как все важные события истории, они являются продуктом конкретной социальной борьбы, притом самой вероломной и жестокой из всех: борьбы новой аристократии против масс, поднявших ее к власти.
Нужна поистине предельная интеллектуальная и моральная тупость, чтоб отождествлять реакционно-полицейскую мораль сталинизма с революционной моралью большевиков. Партия Ленина не существует уже давно: она разбилась о внутренние трудности и о мировой империализм. На смену ей пришла сталинская бюрократия, как передаточный механизм империализма. Бюрократия заменила на мировой арене классовую борьбу классовым сотрудничеством, интернационализм – социал-патриотизмом. Чтоб приспособить правящую партию для задач реакции, бюрократия "обновила" ее состав путем истребления революционеров и рекрутирования карьеристов.
Всякая реакция возрождает, питает, усиливает те элементы исторического прошлого, которым революция нанесла удар, но с которыми она не сумела справиться. Методы сталинизма доводят до конца, до высшего напряжения и, вместе, до абсурда все те приемы лжи, жестокости и подлости, которые составляют механику управления во всяком классовом обществе, включая и демократию. Сталинизм – сгусток всех уродств исторического государства, его зловещая карикатура и отвратительная гримаса. Когда представители старого общества нравоучительно противопоставляют гангрене сталинизма стерилизованную демократическую абстракцию, мы с полным правом можем рекомендовать им, как и всему старому обществу, полюбоваться собой в кривом зеркале советского Термидора. Правда, ГПУ далеко превосходит все другие режимы обнаженностью преступлений. Но это вытекает из грандиозной амплитуды событий, потрясших Россию, в условиях мировой империалистической деморализации.
Мораль и революция
Среди либералов и радикалов есть немало людей, которые усвоили себе приемы материалистического истолкования событий и считают себя марксистами. Это не мешает им, однако, оставаться буржуазными журналистами, профессорами или политиками. Большевик немыслим, разумеется, без материалистического метода, в том числе и в области морали. Но этот метод служит ему не просто для истолкования событий, а для создания революционной партии пролетариата. Выполнять эту задачу нельзя без полной независимости от буржуазии и ее морали. Между тем буржуазное общественное мнение фактически полностью господствует ныне над официальным рабочим движением, от Вильяма Грина в Соединенных Штатах, через Леона Блюма и Мориса Тореза во Франции, до Гарсиа Оливера в Испании. В этом факте находит свое наиболее глубокое выражение реакционный характер нынешнего периода.
Революционный марксист не может даже приступить к своей исторической миссии, не порвав морально с общественным мнением буржуазии и ее агентуры в пролетариате. Для этого требуется нравственное мужество другого калибра, чем для того, чтобы разевать на собраниях рот и кричать: "Долой Гитлера!", "Долой Франко!". Именно этот решительный, до конца продуманный, непреклонный разрыв большевиков с консервативной моралью не только крупной, но и мелкой буржуазии смертельно пугает демократических фразеров, салонных пророков и кулуарных героев. Отсюда их жалобы на "аморализм" большевиков.
Факт отождествления ими буржуазной морали с моралью "вообще" лучше всего, пожалуй, проверить на самом левом фланге мелкой буржуазии, именно на центристских партиях, так называемого Лондонского Бюро. Так как эта организация "признает" программу пролетарской революции, то наши разногласия с ней кажутся, на поверхностный взгляд, второстепенными. На самом деле их "признание" не имеет никакой цены, ибо ни к чему не обязывает. Они "признают" пролетарскую революцию, как кантианцы признают категорический императив, т.-е. как священный, но в повседневной жизни неприменимый принцип. В сфере практической политики они объединяются с худшими врагами революции (реформистами и сталинцами) для борьбы против нас. Все их мышление пропитано двойственностью и фальшью. Если центристы, по общему правилу, не поднимаются до внушительных преступлений, то только потому, что они всегда остаются на задворках политики: это, так сказать, карманные воришки истории. Именно поэтому они считают себя призванными возродить рабочее движение новой моралью.
На самом левом фланге этой "левой" братии стоит маленькая и политически совершенно ничтожная группка немецких эмигрантов, издающая газету "Neuer Weg" ("Новый путь"). Нагнемся пониже и послушаем этих "революционных" обличителей большевистского аморализма. В тоне двусмысленной полупохвалы "Нейер Вег" пишет, что большевики выгодно отличаются от других партий отсутствием лицемерия: они открыто провозглашают то, что другие молча применяют на деле, именно, принцип: "цель освящает средства". Но, по убеждению "Нейер Вег", такого рода "буржуазное" правило несовместимо "со здоровым социалистическим движением". "Ложь и худшее не являются дозволенными средствами борьбы, как считал еще Ленин". Слово: "еще" означает, очевидно, что Ленин только потому не успел отречься от своих заблуждений, что не дожил до открытия "нового пути".
В формуле "ложь и худшее" второй член означает, очевидно: насилия, убийства и пр., ибо, при равных условиях, насилие хуже лжи, а убийство – самая крайняя форма насилия. Мы приходим, таким образом, к выводу, что ложь, насилие, убийство несовместимо со "здоровым социалистическим движением". Как быть, однако, с революцией? Гражданская война есть самый жестокий из всех видов войны. Она немыслима не только без насилия над третьими лицами, но, при современной технике, без убийства стариков, старух и детей. Нужно ли напомнить об Испании? Единственный ответ, который могут дать "друзья" республиканской Испании, будет гласить: гражданская война лучше, чем фашистское рабство. Но этот совершенно правильный ответ означает лишь, что цель (демократия или социализм) оправдывает, при известных условиях, такие средства, как насилие и убийство. О лжи нечего уж и говорить! Без нее война немыслима, как машина без смазки. Даже для того, чтоб предохранять заседание Кортесов (1 февраля 1938 г.) от фашистских бомб, правительство Барселоны несколько раз намеренно обманывало журналистов и собственное население. Могло ли оно действовать иначе? Кто принимает цель: победу над Франко, должен принять средство: гражданскую войну, с ее свитой ужасов и преступлений.
Но все же ложь и насилия "сами по себе" достойны осуждения? Конечно, как и классовое общество, которое их порождает. Общество без социальных противоречий будет, разумеется, обществом без лжи и насилий. Однако, проложить к нему мост нельзя иначе, как революционными, т.-е. насильственными средствами. Сама революция есть продукт классового общества и несет на себе, по необходимости, его черты. С точки зрения "вечных истин" революция, разумеется, "анти– моральна". Но это значит лишь, что идеалистическая мораль контр– революционна, т.-е. состоит на службе у эксплоататоров. "Но ведь гражданская война, – скажет, может быть, застигнутый врасплох философ, – это, так сказать, печальное исключение. Зато в мирное время здоровое социалистическое движение должно обходиться без насилия и лжи". Такой ответ представляет, однако, не что иное, как жалкую уловку. Между "мирной" классовой борьбой и революцией нет непроходимой черты. Каждая стачка заключает в себе в неразвернутом виде все элементы гражданской войны. Каждая сторона стремится внушить противнику преувеличенное представление о своей решимости к борьбе и о своих материальных ресурсах. Через свою печать, агентов и шпионов капиталисты стремятся запугать и деморализовать стачечников. Со своей стороны, рабочие пикеты, где не помогает убеждение, вынуждены прибегать к силе. Таким образом, "ложь и худшее" являются неотъемлемой частью классовой борьбы у же в самой элементарной ее форме. Остается прибавить, что самые понятия правды и лжи родились из социальных противоречий.
Революция и институт заложников
Сталин арестовывает и расстреливает детей своих противников после того, как эти противники уже сами расстреляны по ложным обвинениям. При помощи института семейных заложников Сталин заставляет возвращаться из-заграницы тех советских дипломатов, которые позволили себе выразить сомнение в безупречности Ягоды или Ежова. Моралисты из «Нейер Вег» считают нужным и своевременным напомнить по этому поводу о том, что Троцкий в 1919 г. «тоже» ввел закон о заложниках. Но здесь необходима дословная цитата: «Задержание невиновных родственников Сталиным – отвратительное варварство. Но оно остается варварством и тогда, когда оно продиктовано Троцким (1919 г.)». Вот идеалистическая мораль во всей ее красе! Ее критерии также лживы, как и нормы буржуазной демократии: в обоих случаях предполагается равенство там, где его, на самом деле, нет и в помине.
Не будем настаивать здесь на том, что декрет 1919 г. вряд ли хоть раз привел к расстрелу родственников тех командиров, измена которых не только причиняла неисчислимые человеческие потери, но и грозила прямой гибелью революции. Дело в конце концов не в этом. Еслиб революция проявляла меньше излишнего великодушия с самого начала, сотни тысяч жизней были бы сохранены. Так или иначе, за декрет 1919 г. я несу полностью ответственность. Он был необходимой мерой в борьбе против угнетателей. Только в этом историческом содержании борьбы – оправдание декрета, как и всей вообще гражданской войны, которую ведь тоже можно не без основания назвать "отвратительным варварством".
Предоставим какому-нибудь Эмилю Людвигу и ему подобным писать портрет Авраама Линкольна и розовыми крылышками за плечами. Значение Линкольна в том, что для достижения великой исторической цели, поставленной развитием молодого народа, он не останавливался перед самыми суровыми средствами, раз они оказывались необходимы. Вопрос даже не в том, какой из воюющих лагерей причинил или понес самое большее число жертв. У истории разные мерила для жестокостей северян и жестокостей южан в гражданской войне. Рабовладелец, который при помощи хитрости и насилия заковывает раба в цепи, и раб, который при помощи хитрости или насилия разбивает цепи – пусть презренные евнухи не говорят нам, что они равны перед судом морали!
После того, как Парижская Коммуна была утоплена в крови, и реакционная сволочь всего мира волочила ее знамя в грязи поношений и клевет, нашлось немало демократических филистеров, которые, приспособляясь к реакции, клеймили коммунаров за расстрел 64 заложников, во главе с парижским архиепископом. Маркс ни на минуту не задумался взять кровавый акт Коммуны под свою защиту. В циркуляре Генерального Совета Первого Интернационала, в строках, под которыми слышится подлинное клокотание лавы, Маркс напоминает сперва о применении буржуазией института заложников в борьбе против колониальных народов и собственного народа и, ссылаясь затем на систематические расстрелы пленных коммунаров остервенелыми реакционерами, продолжает: "Коммуне не оставалось ничего другого для защиты жизни этих пленников, как прибегнуть к прусскому обычаю захвата заложников. Жизнь заложников была снова и снова загублена продолжающимися расстрелами пленников версальцами. Как можно было еще дальше щадить их после кровавой бойни, которой преторианцы Мак-Магона ознаменовали свое вступление в Париж? Неужели же и последний противовес против беспощадной дикости буржуазных правительств – захват заложников – должен был стать простой насмешкой?". Так писал Маркс о расстреле заложников, хотя за спиной его в Генеральном Совете сидело немало Феннер Броквеев, Норман Томасов и других Отто Бауэров. Но так свежо еще было возмущение мирового пролетариата зверством версальцев, что реакционные путаники предпочитали молчать, в ожидании более для них благоприятных времен, которые, увы, не замедлили наступить. Лишь после окончательного торжества реакции мелкобуржуазные моралисты, совместно с чиновниками трэд-юнионов и анархистскими фразерами, погубили Первый Интернационал.
Когда Октябрьская революция обороняла себя против объединенных сил империализма на фронте в 8.000 километров, рабочие всего мира с таким страстным сочувствием следили за ходом борьбы, что пред их форумом было слишком рисковано обличать "отвратительное варварство" института заложников. Понадобилось полное перерождение советского государства и торжество реакции в ряде стран, прежде чем моралисты вылезли из своих щелей… на помощь Сталину. Ибо если репрессии, ограждающие привилегии новой аристократии, имеют ту же нравственную ценность, что и революционные меры освободительной борьбы, тогда Сталин оправдан целиком, если… если не осуждена целиком пролетарская революция.
Ища примеров безнравственности в событиях русской гражданской войны, господа моралисты оказываются, в то же время, вынуждены закрывать глаза на тот факт, что испанская революция тоже возродила институт заложников, по крайней мере, в тот период, когда она была подлинной революцией масс. Если обличители не посмели обрушиться на испанских рабочих за их "отвратительное варварство", то только потому, что почва Пиренейского полуострова еще слишком горяча для них. Гораздо удобнее вернуться к 1919 г. Это уже история: старики успели забыть, а молодые еще не научились. По той же причине фарисеи разной масти с таким упорством возвращаются к Кронштадту и к Махно: здесь полная свобода для нравственных испарений!
«Мораль кафров»
Нельзя не согласиться с моралистами, что история выбирает жестокие пути. Но какой отсюда вывод для практической деятельности? Лев Толстой рекомендовал опроститься и усовершенствоваться. Махатма Ганди советует пить козье молоко. Увы, «революционные» моралисты из «Нейер Вег» не так уже далеко ушли от этих рецептов. «Мы должны освободиться – проповедуют они – от той морали кафров, для которой неправильно лишь то, что делает враг». Прекрасный совет! «Мы должны освободиться…». Толстой рекомендовал заодно освободиться и от грехов плоти. Однако, статистика не подтверждает успеха его проповеди. Наши центристские гомункулусы успели подняться до сверх-классовой морали в классовом обществе. Но уже почти 2000 лет, как сказано: «любите врагов ваших», «подставляйте вторую щеку»… Однако, даже святой римский отец не «освободился» до сих пор от ненависти к врагам. Поистине силен дьявол, враг рода человеческого!
Применять разные критерии к действиям эксплоататоров и эксплоатируемых значит, по мнению бедных гомункулусов, стоять на уровне "морали кафров". Прежде всего вряд ли приличен под пером "социалистов" столь презрительный отзыв о кафрах. так ли уж плоха их мораль? Вот что говорит на этот счет британская энциклопедия:
"В своих социальных и политических отношениях они обнаруживают большой такт и ум; они замечательно храбры, воинственны и гостеприимны, и были честны и правдивы, пока, в результате контакта с белыми, не стали подозрительны, мстительны и склонны к воровству, усвоив, сверх того, большинство европейских пороков". Нельзя не придти к выводу, что в порче кафров приняли участие белые миссионеры, проповедники вечной морали.
Если рассказать труженику-кафру, как рабочие, восставшие в любой части нашей планеты, застигли своих угнетателей врасплох, он будет радоваться. Наоборот, он будет огорчен, когда узнает, что угнетателям удалось обмануть угнетенных. Не развращенный до мозга костей миссионерами кафр никогда не согласится применять одни и те же абстрактные нормы морали к угнетателям и угнетенным. Зато он вполне усвоит себе, если разъяснить ему, что назначение таких абстрактных норм в том и состоит, чтоб мешать угнетенным восстать против угнетателей.
Какое поучительное совпадение: чтоб оклеветать большевиков миссионерам из "Нейер Вег" пришлось заодно оклеветать и кафров; причем в обоих случаях клевета идет по линиям официальной буржуазной лжи: против революционеров и против цветных рас. Нет, мы предпочитаем кафров всем миссионерам, как духовным, так и светским!
Не надо, однако, ни в каком случае переоценивать сознательность моралистов из "Нового пути" и из других тупиков. Намерения этих людей не так уж плохи. Но вопреки своим намерениям, они служат рычагами в механике реакции. В такой период, как нынешний, когда мелкобуржуазные партии цепляются за либеральную буржуазию или за ее тень (политика "Народных фронтов"), парализуют пролетариат и прокладывают путь фашизму (Испания, Франция…), большевики, т.-е. революционные марксисты, становятся особенно одиозными фигурами в глазах буржуазного общественного мнения. Основное политическое давление наших дней идет справа налево. В последнем счете совокупная тяжесть реакции давит на плечи маленького революционного меньшинства. Это меньшинство называется Четвертым Интернационалом. Voila` l'ennemi! Вот враг!
Сталинизм занимает в механике реакции многие руководящие позиции. Помощью его в борьбе с пролетарской революцией пользуются, так или иначе, все группировки буржуазного общества, включая и анархистов. В то же время одиум за преступления своего московского союзника, мелкобуржуазные демократы пытаются, хоть на 50%, перекинуть на непримиримое революционное меньшинство. В этом и состоит смысл модной ныне пословицы: "троцкизм и сталинизм – одно и то же". Противники большевиков и кафров помогают, таким образом, реакции клеветать на партию революции.
«Аморализм» Ленина
Самыми нравственными людьми были всегда русские эс-эры: они в сущности состояли из одной этики. Это не помешало им, однако, во время революции обмануть русских крестьян. В Парижском органе Керенского, того самого этического социалиста, который был предтечей Сталина в отношении подложных обвинений против большевиков, другой старый «социал-революционер», Зензинов, пишет: «Ленин, как известно, учил, что ради достижения поставленной цели, коммунисты могут, а иногда и должны „пойти на всяческие уловки – на умолчание, на сокрытие правды“…» («Новая Россия», 17 февраля 1938 г., стр. 3). отсюда ритуальный вывод: сталинизм – законное дитя ленинизма.
К сожалению, этический обличитель не умеет даже честно цитировать. У Ленина сказано: "Надо уметь… пойти на все и всякие жертвы, даже – в случае необходимости – пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчание, сокрытие правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы, остаться в них, вести в них во что бы то ни стало коммунистическую работу". Необходимость уловок и хитростей, по объяснению Ленина, вызывалась тем, что реформистская бюрократия, предающая рабочих капиталу, подвергает революционеров травле, преследованиям и даже прибегает против них к буржуазной полиции. "Хитрость" и "сокрытие правды" являются в этом случае лишь средствами законной самообороны против предательской реформистской бюрократии.
Партия самого Зензинова когда-то вела нелегальную работу против царизма, а позже – против большевиков. В обоих случаях она прибегала к хитростям, уловкам, фальшивым паспортам и другим видам "сокрытия правды". Все эти средства считались не только "этическими", но и героическими, ибо отвечали политическим целям мелкобуржуазной демократии. Но положение сразу меняется, когда пролетарские революционеры вынуждены прибегать к конспиративным мерам против мелкобуржуазной демократии. Ключ к морали этих господ имеет, как видим, классовый характер!
"Аморалист" Ленин открыто, в печати, подает совет военной хитрости против изменников-вождей. А моралист Зензинов злонамеренно урезывает цитату с обоих концов, чтобы обмануть читателя: этический обличитель оказывается, по обыкновению, мелким плутом. Недаром Ленин любил повторять: ужасно трудно встретить добросовестного противника!
Рабочий, который не утаивает от капиталиста "правду" о замыслах стачечников, есть попросту предатель, заслуживающий презрения и бойкота. Солдат, который сообщает "правду" врагу, карается, как шпион. Керенский ведь и пытался подкинуть большевикам обвинение в том, что они сообщали "правду" штабу Людендорфа. Выходит, что даже "святая правда" – не самоцель. Над ней существуют более повелительные критерии, которые, как показывает анализ, носят классовый характер.
Борьба на жизнь и смерть немыслима без военной хитрости, другими словами, без лжи и обмана. Могут ли немецкие пролетарии не обманывать полицию Гитлера? Или может быть советские большевики поступают "безнравственно", обманывая ГПУ? Каждый благочестивый буржуа аплодирует ловкости полицейского, которому удается при помощи хитрости захватить опасного гангстера. Неужели же военная хитрость недопустима, когда речь идет о том, чтобы опрокинуть гангстеров империализма?
Норман Томас говорит о той "странной коммунистической аморальности, для которой ничто не имеет значения, кроме партии и ее власти" ("that strange Communist amorality in which nothing matters but the Party and its power" – "Socialist Call", March 12, 1938, p. 5). Томас валит, при этом, в одну кучу нынешний Коминтерн, т.-е. заговор кремлевской бюрократии против рабочего класса, с большевистской партией, которая представляла собою заговор передовых рабочих против буржуазии. Это насквозь нечестное отождествление достаточно уже разоблачено выше. Сталинизм только прикрывается культом партии; на самом деле он ее разрушает и топчет в грязь. Верно, однако, то, что для большевика партия – все. Салонного социалиста Томаса удивляет и отталкивает подобное отношение революционера к революции, ибо сам он – только буржуа с социалистическим "идеалом". В глазах Томаса и ему подобных партия – подсобный инструмент для избирательных и иных комбинаций, не больше. Его личная жизнь, интересы, связи, критерии морали – вне партии. Он с враждебным изумлением глядит на большевика, для которого партия – орудие революционной перестройки общества, в том числе и его морали. У революционного марксиста не может быть противоречия между между личной моралью и интересами партии,, ибо партия охватывает в его сознании самые высокие задачи и цели человечества. Наивно думать, что у Томаса более высокое понятие о морали, чем у марксистов. У него просто более низменное понятие о партии.
"Все, что возникает, достойно гибели", говорит диалектик Гете. Гибель большевистской партии – эпизод мировой реакции – не умаляет, однако, ее всемирно исторического значения. В период своего революционного восхождения, т.-е. когда она действительно представляла пролетарский авангард, она была самой честной партией в истории. Где могла, она, разумеется, обманывала классовых врагов; зато она говорила трудящимся правду, всю правду и только правду. Только благодаря этому она завоевала их доверие в такой мере, как никакая другая партия в мире.