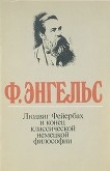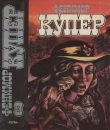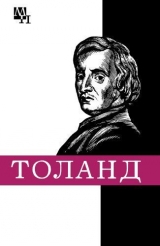
Текст книги "Джон Толанд"
Автор книги: Борис Мееровский
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Как и следовало ожидать, «Письма к Серене», несмотря на принятые Толандом меры предосторожности, были восприняты как удар по религиозно-идеалистическому мировоззрению и вызвали ожесточенные нападки со стороны его идейных противников. Появился ряд памфлетов и опровержений, авторы которых обвиняли Толанда в том, что он осмелился критиковать учение церкви о бессмертии души, поставил знак равенства между христианством и язычеством, выразил сомнение в существовании бога-творца.
В 1707—1710 гг. Толанд совершил еще одно путешествие на Европейский континент. Сначала он направился в Германию, потом посетил Вену и Прагу, оттуда его путь лежал в Голландию. Обосновавшись в Гааге, Толанд пробыл там до конца 1710 г., после чего вернулся в Англию. Он приобрел дом в местечке Ипсом в Сурее и поселился в нем, посвятив себя целиком научной и литературной деятельности. Следует отметить, что в эти годы Толанд заинтересовался творчеством Джордано Бруно. Он обратился к одному из важнейших диалогов Бруно – «Изгнание торжествующего зверя» – и перевел его на английский язык. Из сочинений, написанных самим философом в это время, следует выделить «Адеисидемон» (Adeisidaemon. 1708), «Письма против духовенства» (1712), «Назарянин» (Nazarenus. 1718).
Первое из них, созданное еще во время пребывания Толанда в Голландии, он посвятил своему другу и соратнику в борьбе с религиозными предрассудками А. Коллинзу. «Адеисидемон» (что в переводе с древнегреческого означает буквально «несуеверный») был написан Толандом на основе изучения «Римской истории» Т. Ливия, который, как уже говорилось, был его любимым автором. Непосредственным поводом к созданию «Адеисидемона» было стремление Толанда снять с Ливия обвинения в суеверии, которые выдвигались против него многими европейскими филологами и историками позднего Возрождения. Ливию ставили в упрек легковерие, некритическое отношение к мифам и легендам древних римлян, к языческим обрядам и церемониям. В противоположность этой точке зрения, поддерживаемой христианскими богословами, Толанд доказывал, что римский историк не только не разделял суеверий своих соотечественников, но, наоборот, «всю отечественную религию считал вымыслом и ложью» (4, 1, 204).
Защита Тита Ливия не являлась, конечно, для Толанда самоцелью. «Адеисидемон» был направлен на разоблачение суеверий и предрассудков, которым, по остроумному замечанию Толанда, Ливий придавал гораздо меньшее значение, «нежели христиане нашего времени» (там же, 207). Речь шла о вере в чудеса, приметы, знамения, пророчества и прочие «выдумки жрецов-шарлатанов». Имелись также в виду страхи перед кометами и затмениями, которые высмеивал в своей «Истории» Ливий. Толанд давал понять, что суеверия и предрассудки древних римлян продолжают существовать в сознании многих людей, несмотря на достигнутый прогресс в науке. Причину живучести религиозных суеверий философ усматривал в невежестве и легковерии «толпы», идущей на поводу у всякого рода обманщиков, ловко использующих религию в своих интересах.
Мы еще вернемся к этой чисто просветительской концепции религии, развивавшейся Толандом в его сочинениях. Пока же ограничимся констатацией того, что «Адеисидемон» содержал резкую критику священнослужителей, которых Толанд изображал носителями предрассудков и суеверий, обвинял в использовании религии в политических целях. На примерах, заимствованных из «Римской истории», Толанд убедительно показал, что «религия у римлян была полностью приспособлена к политике», служила в руках правителей средством для удержания «подданных в повиновении» (там же, 212). Через все сочинение Толанда красной нитью проходит мысль о необходимости искоренять «чудовищное и зловещее суеверие, которое наполняет раздорами и мятежами процветающие государства, опустошает населеннейшие страны и нередко приводит их к гибели, которое детей отвращает от родителей, союзников – от друзей и разделяет то, что было связано теснейшими узами, которое... заставляло когда-то приносить в жертву невинных детей и взрослых людей (если и теперь где-нибудь не удерживается этот омерзительный обряд), которое ради темных и суетных рассуждений уничтожает всякий душевный покой, которое не положило ни меры, ни предела могилам, тюрьмам, пыткам, изгнаниям, пожарам, убийствам и которое неистовствует не только над славой живых, но часто и над телами и прахом мертвецов» (там же, 229).
В мировой атеистической литературе найдется, пожалуй, не так уж много столь гневных и разящих филиппик против суеверия, под которым Толанд понимал по сути дела религию вообще. Не случайно он с сочувствием цитировал строки из известной атеистической поэмы Лукреция «О природе вещей»:
Религия больше
И нечестивых сама и преступных деяний рождала.
(Там же, 230)
Основная идея трактата «Назарянин» – обоснование общности трех религий: христианства, ислама и иудаизма. Большой интерес в этом произведении представляют исторические изыскания Толанда. Важное значение имеют, в частности, исследования Толанда, касающиеся так называемых иудео-христиан (эбионитов и назареев). Здесь Толанд в какой-то мере предвосхитил открытия XX в. Мы имеем в виду находки рукописей иудейских сектантов в Кумранских пещерах на берегу Мертвого моря. Учение кумранитов оказалось очень близким христианству, и поэтому считают, что оно предшествовало новой религии. «Назарянин» Толанда – одно из первых (если не самое первое) исследований иудео-христиан, проливающее дополнительный свет на происхождение христианского вероучения и культа. Вместе с тем обращение к истории раннего христианства используется Толандом в целях критики религии. Здесь, как и в работе «Христианство без тайн», он стремится показать, что христианская религия в том виде, в каком она проповедуется официальной церковью, не имеет ничего общего с первоначальным христианством, так что ее следует считать «явным антихристианством» (4, 1, 299). В «Назарянине» содержится также открытый призыв к веротерпимости, к уравнению в гражданских правах приверженцев всех религий. Толанд и здесь обличает духовенство, обвиняет его в невежестве и своекорыстии.
В 1720 г. выходят в свет два последних произведения Толанда: «Тетрадимус» и «Пантеистикон». В состав «Тетрадимуса» (от tetradium – четверка) входило четыре самостоятельных трактата. Первый из них – «Клидофорус», в котором развивается упоминавшаяся ранее концепция «двух философий» – экзотерической, приспособленной к «ходячим воззрениям и религиям, установленным законом», и эзотерической, скрытой и тайной, предназначенной «для способных и глубокомысленных», которым может быть сообщена «подлинная Истина, лишенная всяких покровов» (там же, 313). Второй трактат – «Ходегус», в котором Толанд пытался дать рациональное объяснение некоторым «чудесам», содержащимся в Библии. Далее шел трактат «Ипатия», посвященный известной своими работами по астрономии и математике ученой женщине древности, зверски убитой в 415 г. в Александрии христианскими фанатиками[5]5
Примечательно, что Толанд был первым философом Нового времени, посвятившим Ипатии специальное сочинение.
[Закрыть]. И наконец, четвертый трактат («Mangoneutes: being a Defence of Nazarenus») представлял собой ответ критикам «Назарянина» и был посвящен защите этого сочинения.
«Пантеистикон» наряду с «Письмами к Серене» принадлежит к главным философским произведениям Толанда и требует специального рассмотрения. Здесь же уместно сказать несколько слов об обстоятельствах выхода «Пантеистикона» в свет и его структуре. Указанное произведение было написано на латинском языке и издано анонимно, с ложным обозначением места издания – Cosmopoli. В действительности же книга была напечатана в Лондоне и авторство Толанда не вызывало сомнений, несмотря на то, что он выступал под именем Яна Юния Эоганезия. (Дело в том, что Толанд родился на ирландском полуострове Unis-Eogan и был при крещении наречен именем Ян (Janus), которое впоследствии заменил на Джон.)
Произведение имело сложную структуру и включало «Рассуждение о древних и новых содружествах ученых, а также о бесконечной и вечной Вселенной», «Чин прославления сократического содружества» и «Краткое рассуждение о необходимости двойственной философии пантеистов и об идее лучшего и славнейшего мужа». «Пантеистикон» отличает необычная литературная форма. В первую очередь это касается «Чина прославления сократического содружества». В нем действуют распорядитель и хор, обильно цитируются и превозносятся античные писатели и поэты, поются оды и гимны, посвященные «истине, свободе и здравомыслию», этому тройному завету мудрецов (там же, 379). В «Пантеистиконе» излагается и своеобразный культ содружества пантеистов, который носит, однако, безрелигиозный характер. Сказанное относится и к содержащемуся в книге «философскому канону», в котором утверждается материальность мира, вечность и бесконечность Вселенной.
В последние годы своей жизни Толанд сильно нуждался. Продав за долги дом, он в 1718 г. переселился в местечко Путней, близ Лондона, где нашел приют в семье простого сельского плотника. К нужде и бедствиям добавилась болезнь почек, ускорившая смерть философа. Толанд умер 11 марта 1722 г. в возрасте 52 лет. На могильной плите но его завещанию была начертана составленная им самим эпитафия:
Здесь похоронен Джон Толанд,
Который, родившись в Ирландии, близ Лондондерри,
Учился в Шотландии и Ирландии, а в юности также в Оксфорде
И не раз ездил в Германию,
Зрелый же возраст провел близ Лондона.
Поклонник всех наук, со знанием больше десяти языков,
Борец за истину, защитник свободы,
Но ничей ни последователь, ни приверженец,
Которого ни угрозы, ни бедствия не заставили
Запятнать данную ему жизнь
Предпочтением выгодного честному.
Дух его соединяется с отцом-эфиром.
От которого некогда произошел,
А тело, повинуясь природе, опускается в материнское лоно,
Сам же он будет вечно воскресать,
Никогда, однако, не становясь тем самым Толандом,
Который родился 30 ноября.
Остальное ищи в сочинениях.
(Там же, 408)
Много лет спустя, в 1766 г., протестантский священник Торшмид в книге об английских деистах писал: «Если бы Толанд употребил свой разум и способности, дарованные ему творцом, более приличным способом, то он достиг бы более основательной славы, большего спокойствия, а миру мог бы оказать более полезные услуги» (цит. по: 31, 213). Но в том-то и дело, что у философа-вольнодумца были совершенно иные цели и идеалы, чем у служителя церкви. Смысл своей жизни Толанд видел в борьбе против «всяческого суеверия» и зла, за свободу мысли и слова, за торжество человеческого разума.
Глава II. Христианство перед судом разума
 оланд не был пионером в области рационалистической критики христианской религии. Эта критика велась задолго до того, как появилось его «Христианство без тайн». Вспомним хотя бы Абеляра (1079—1142), Сигера Брабантского (ум. в 1282) и их единомышленников, провозгласивших человеческий разум высшим судьей в вопросах религии. Следует назвать также скептиков эпохи Возрождения, и прежде всего Монтеня (1533—1592), который отстаивал право разума подвергать сомнению религиозные догматы с целью отыскания истины. Сочинение Толанда, написанное уже в Новое время, имело немало общего с произведениями названных мыслителей. Вместе с тем оно значительно углубило критику религии с позиций разума, придало этой критике неотразимую убедительность и силу.
оланд не был пионером в области рационалистической критики христианской религии. Эта критика велась задолго до того, как появилось его «Христианство без тайн». Вспомним хотя бы Абеляра (1079—1142), Сигера Брабантского (ум. в 1282) и их единомышленников, провозгласивших человеческий разум высшим судьей в вопросах религии. Следует назвать также скептиков эпохи Возрождения, и прежде всего Монтеня (1533—1592), который отстаивал право разума подвергать сомнению религиозные догматы с целью отыскания истины. Сочинение Толанда, написанное уже в Новое время, имело немало общего с произведениями названных мыслителей. Вместе с тем оно значительно углубило критику религии с позиций разума, придало этой критике неотразимую убедительность и силу.
«Христианство без тайн» состоит из трех разделов. Первый – «О разуме» – служит своеобразным гносеологическим введением. Отталкиваясь от идей Локка, Толанд дает ответ на вопрос, что представляет собой разум, и рассматривает пути и условия достижения истины. С содержанием этого раздела мы познакомимся подробнее, когда речь пойдет о теории познания Толанда. Сейчас же нас интересуют два других раздела книги, посвященные логической и исторической критике христианства.
Критический пафос второго раздела направлен против теологического иррационализма. Сущность последнего Толанд усматривал в провозглашенном еще отцами христианской церкви требовании «поклоняться тому, него мы не в состоянии понять» (5, 26). Этот «знаменитый и восхитительный догмат», иронизировал Толанд, является источником всех нелепостей, имевших когда-либо хождение среди христиан. Примером подобных нелепостей может служить, по мнению Толанда, догмат пресуществления, согласно которому хлеб и вино при совершении причастия превращаются в тело и кровь Христа. Теологическому иррационализму Толанд противопоставляет философский рационализм, отвергающий все то, что противоречит разуму, не может быть понято им. «Ибо то, чего я не понимаю, может дать мне правильное понятие о боге или повлиять на мои действия не в большей степени, чем молитва, произнесенная на неизвестном мне языке, может возбудить мое благочестие» (там же, 29—30). Прикрываясь лишь верой в слово божие и игнорируя разум, можно даже из Священного писания «вывести величайшие глупости и богохульства» (там же, 35). Верить без понимания, без разумных доказательств и очевидной логичности есть достойное осуждения легковерие и безрассудство.
Итак, понимать, чтобы верить. Подобное требование, как известно, выдвигалось еще Абеляром. Но Толанд добавляет к этому требованию еще одно: «Кто бы ни раскрывал нам что-нибудь, т. е. кто бы ни сообщал нам нечто, чего мы раньше не знали, его слова должны быть понятны, а дело – возможно. Это ПРАВИЛО имеет силу независимо от того, кто сообщает, бог или человек» (там же, 42). Как же быть в таком случае с божественным всемогуществом? По сути Толанд отвергает его, ибо ограничивает рамками возможного. Когда мы говорим, что для бога нет ничего невозможного, уточняет Толанд, мы имеем в виду, что он может сделать все, что возможно само по себе. Правда, философ оговаривается, что возможности бога превышают возможности простых смертных. Однако эта оговорка ничего не меняет в принципе: ведь и в природе имеются силы, которые значительно превосходят силы и возможности человека.
Ограничивая божественное рамками понятного и возможного, Толанд не отказывался, однако, от христианства, изложенного в Евангелии. Напротив, он стремился показать, что догматы Евангелия не противоречат разуму, что «христианство было задумано как разумная и понятная религия» (5, 46) и что только впоследствии оно подверглось искажению, которое затемнило его истинную сущность. Он ссылается на логичность евангельских текстов, их ясность и простоту, достоинства стиля и т. п. И надо признать, что философ предпринял немало усилий, чтобы обосновать свой тезис.
Вряд ли нужно говорить о том, что положение Толанда о «разумности» первоначального христианства, изложенного в Новом завете, не соответствует действительности. О противоречиях и несуразностях, которыми изобилуют евангелия, писали еще античные критики христианства, о чем Толанд не мог не знать. Да он и сам мог без особого труда удостовериться в этом. Видимо, в данном случае Толанд в угоду своей концепции вполне сознательно пошел на идеализацию евангельских текстов. С этой же целью он изображал мифических апостолов как просветителей, изгоняющих невежество и исправляющих людские нравы. Но даже такая критика христианства, которая содержалась в сочинении Толанда, расшатывала его устои, вела объективно к ниспровержению христианского вероучения и культа.
Особый интерес представляет в этой связи третий, заключительный раздел книги. Именно здесь дается обоснование центрального тезиса сочинения: христианство лишено тайн, в нем нет ничего непостижимого или недоступного разуму. При этом Толанд имел в виду не современное ему, а первоначальное христианство, проповедуемое Евангелием. Положение о том, что в христианстве, как оно изложено в Новом завете, нет ничего противоречащего разуму, разделялось и Локком. Это отражено в его «Опыте о человеческом разуме» (1690) и предельно четко выражено в следующих словах: «...ничто, противное ясным и самоочевидным предписаниям разума и ничто несовместимое с ним не имеет право быть предложенным или быть признанным в качестве предмета веры...» (41, 1, 672). Аналогичные мысли развивались Локком и в «Разумности христианства» (1695). Цитируя Евангелие, он доказывал, что христианство – простое и понятное учение, не имеющее ничего общего со «спекулятивными ухищрениями, путаными терминами и туманными абстракциями» (69, 23), изобретенными теологами, «с множеством пышных, причудливых и утомительных обрядов» (там же), придуманных священнослужителями.
Таким образом, Толанд шел в этом вопросе по стопам Локка. Однако последний допускал существование недоступных разуму истин откровения. К числу положений, которые «выше разума», Локк относил, например, учение церкви о воскресении мертвых (см. 41, 1, 671). Согласно же Толанду, в христианстве нет сверхразумных истин или положений. Слово «тайна» (mystery) употребляется в Евангелии только в одном значении: вещи, понятной самой по себе, но скрытой различными символическими выражениями, иносказаниями, затемняющими ее смысл. Вещей же, недоступных разуму «по самой своей природе», Евангелие не содержит. Непостижимые тайны в религии, указывал Толанд, выведены церковниками «из мнимых непостижимых тайн природы» (5, 87), и те, кто пытается обосновать первые при помощи последних, либо злонамеренные обманщики, либо абсолютно несведущие люди. Сам Толанд был убежден в познаваемости всего того, с чем сталкивается человек, и решительно отвергал агностицизм идеологов религии.
Анализу теории познания Толанда посвящена специальная глава, но уже сейчас следует подчеркнуть, что, критикуя теологический иррационализм, выявляя агностицизм сторонников религиозного мировоззрения, Толанд опирался на принципы материалистической гносеологии. С этих позиций он и отбрасывал версию о «непостижимых тайнах» религии, заявляя во всеуслышание, что истины откровения не только согласуются с нашими обычными понятиями, но и могут быть поняты нами «так же легко, как и наши знания о дереве или камне, воздухе, воде и тому подобном» (5, 79). Таким образом, Толанд срывал мистический ореол с истин откровения, приравнивал их познание к познанию свойств обычных предметов и явлений внешнего мира. Не делалось исключения и для самого бога. «Подобно тому как под идеей и названием бога мы понимаем его известные атрибуты и свойства, мы понимаем атрибуты и свойства всех других вещей под их идеями и названиями, и мы понимаем первые так же ясно, как и вторые» (там же, 86). И ставя, как говорится, последнюю точку над «i», Толанд подводил читателей своей книги к выводу: «У божественного творца не может быть больше оснований считаться непостижимым, чем у самого презренного из его творений» (там же, 87).
В данном случае комментарии действительно излишни. Думается, что одного этого высказывания Толанда было бы достаточно, чтобы обвинить его в богохульстве.
Но не будем закрывать глаза на уязвимые места концепции автора «Христианства без тайн», стремившегося доказать, что Евангелие лишено, каких бы то ни было мистических элементов, что всем новозаветным «тайнам» можно дать рациональное истолкование. Чтобы подтвердить свою точку зрения, Толанд приводит в книге те места из Нового завета, где встречается слово «тайна» и, анализируя их, делает вывод: «...во всем Новом завете слово „тайна“ никогда не употребляется для обозначения чего-либо самого по себе непонятного или такого, что показано ясно, но о чем нельзя судить с помощью наших обычных понятий и способностей» (там же, 108). Однако натяжки, допускаемые при этом Толандом, бросаются в глаза. Как ни старался философ, он не мог доказать недоказуемое. Мистицизм является, как мы знаем, органическим элементом всех религий, и христианство не представляет в этом отношении исключения.
Для обоснования своей концепции Толанд привлекает высказывания и раннехристианских писателей. Ссылаясь на Климента Александрийского и других отцов церкви, он заявлял, что в их трудах также ничего не говорится о «непостижимых и непонятных тайнах в религии» (там же, 119). Следует заметить, однако, что Толанд весьма критически относился к писаниям отцов церкви. Он находил у них «грубейшие ошибки», обвинял их в эклектицизме, в безрассудных попытках примирить христианство с античной философией.
Одним из важных вопросов полемики между представителями философского рационализма и теологического иррационализма был вопрос о соотношении веры и разума. Понятно, что Толанд безоговорочно примкнул к тем прогрессивным мыслителям, которые отстаивали приоритет разума, подчеркивали его главенствующую роль. Такой позиции придерживался, как уже отмечалось, непосредственный предшественник Толанда Локк, настойчиво утверждавший право и обязанность разума «быть нашим последним судьей и руководителем» (41, 1, 680).
В «Христианстве без тайн» встречается немало аргументов, которые приводились и Локком, и другими свободомыслящими философами для обоснования возможности и необходимости «применения разума в религии». Но в сочинении Толанда есть и новый аспект в решении вопроса о соотношении веры и знания. «Истинная вера» (real faith), заявляет философ, и есть знание, поскольку она предполагает понимание, «построена на логическом рассуждении», «на самых серьезных доводах» (5, 127; 132). Такое понимание веры и отличает, по его мнению, Новый завет от тех позднейших христианских источников, в которых вера ставится выше разума. Нет необходимости доказывать, что первоначальное христианство отнюдь не являлось той «истинной верой», совпадающей со знанием, за которую его пытался выдать Толанд. Однако его стремление доказать, что «вера есть знание» (там же, 139), развенчивало религиозное вероучение, низводило последнее до уровня обычных знаний, которыми располагает человек.
Конечно, Толанд полностью сознавал последствия подобного истолкования религиозной веры. Не случайно он вступает в полемику с теми читателями своей книги, которые могли бы из его слов сделать вывод, «что вера уже больше не вера, а знание» (там же) и «что такое понятие о вере делает бесполезным откровение» (там же, 140). И хотя Толанд оспаривает обоснованность такого вывода, равносильного отрицанию религии вообще, он все же стремится утвердить мысль о том, что «разум более важен, чем откровение» (там же).
Посмотрим теперь, как Толанд переосмысливает с позиций рационализма понятие чуда. Согласно его определению, «чудо – это такое действие, совершение которого превосходит все человеческие силы и которое не может быть осуществлено при помощи обычных проявлений законов ПРИРОДЫ» (там же, 144). Казалось бы, точка зрения Толанда мало чем отличается от традиционного толкования чудес как необычных, сверхъестественных действий, тем более что несколькими строчками ниже философ прямо признает чудо «непосредственным следствием сверхъестественной силы» (там же, 145). И все же нельзя не заметить, что усилия Толанда направлены на ограничение чуда знакомыми нам уже рамками: «Все противоречащее разуму не может быть чудом», «Чудесное действие должно само но себе быть понятным и возможным» (там же). Это еще не все. Чудо, согласно Толанду, не совершается без какой-либо важной цели. «Бог не настолько щедр на чудеса», чтобы совершать их, так сказать, по всякому поводу. Чудо должно обладать, кроме того, исторической и моральной достоверностью. И наконец, «чудеса совершаются в соответствии с законами природы, хотя они выше ее обычных действий...» (там же, 150).
С помощью указанных ограничений Толанд стремится отмежеваться от «вымышленных чудес», которые в изобилии имеются «у папистов, иудеев, браминов, магометан и вообще всюду, где доверчивость людей делает их предметом торговли священников» (там же, 146). Отвергаются им и все «языческие чудеса», а также всевозможные суеверия, россказни о ведьмах, чародеях и астрологах. Как подделка и ложь, должны быть отвергнуты, по мнению Толанда, и все те чудеса, которые совершаются в тайне или только среди тех, кому они выгодны и необходимы. Оставляя место евангельским чудесам и отбрасывая все остальные, Толанд значительно сужал сферу их проявления. Ограничивая чудеса рамками понятного и возможного утверждая, что они согласуются с законами природы, философ подрывал саму основу понятия чуда. Но отказаться от этого понятия вообще, полностью исключить всякое упоминание о сверхъестественном Толанд не решился. Пойти на это в «Христианстве без тайн» философ, видимо, не мог ни по объективным, ни по субъективным обстоятельствам. Он сделал этот шаг позже, когда прочно встал на позиции материалистического миропонимания.
Когда, почему и кем были введены в христианство тайны? Ответ на поставленный вопрос дается Толандом в заключительном разделе его книги.
Хронологические рамки рассматриваемого философом периода истории христианства совпадают со временем деятельности отцов церкви и превращения христианства в государственную религию Римской империи. Речь идет, таким образом, о II—IV вв., а также о последующем периоде в истории христианства, когда оно, по мнению Толанда, продолжало эволюционировать, постепенно превращаясь в «антихристианство».
Теперь о причинах и виновниках искажения первоначального христианства.
Христианское учение, указывает Толанд, подвергалось извращению под влиянием, с одной стороны, иудаизма, а с другой – язычества. Новообращенные христиане из евреев и язычников стремились сохранить свои обряды и таинства, увековечить свои «нечестивые суеверия». Руководители же христианских общин в погоне за числом вновь обращенных шли навстречу этому желанию. Так искажался дух Нового завета, и христианство было поставлено в один ряд с «мистериями Цереры и оргиями Вакха» (5, 153).
Значительную долю ответственности за извращение духа первоначального христианства несут, согласно Толанду, представители патристики. Отцы церкви, в особенности те из них, которые были до обращения в христианство язычниками, «настолько перемешали», по словам Толанда, учение Христа со своими ошибочными воззрениями, что сделали первое неузнаваемым. К тому же отцы церкви стали претендовать на роль единственных правомочных толкователей христианства, что в еще большей степени способствовало затемнению и искажению его истинной сущности.
После того как римские императоры стали открыто поддерживать новую религию, продолжает Толанд, болезнь, поразившая ее, стала почти неизлечимой. Началось массовое обращение в христианство людей, остававшихся в глубине души язычниками. «...Они принесли все свои старые предрассудки в новую религию, которую приняли исключительно из соображений политики» (там же, 154). Духовенство же воспользовалось покровительством и поддержкой властей, чтобы окончательно порвать с простотой и бедностью первых христианских общин, ввести пышный и богатый культ, добиться для себя привилегий и возвыситься над мирянами. Толанд рисует впечатляющую картину развития христианского культа, центральное место в котором занимали таинства. На примере главных из них – крещения и причащения – философ убедительно показывает, как под влиянием языческих религий в христианстве появились «тайны и тайные обряды» и как «из-за хитрости и честолюбия священников» христианская религия «унизилась до простого язычества» (там же, 163).
Под этим же углом зрения Толанд рассматривает становление и других элементов христианского культа: миропомазания, покаяния, или исповеди, рукоположения. К «нелепостям иудейского или языческого происхождения» он относит молитвы, заклинания, «праздники и дни святых», поклонение иконам, посты, похоронные обряды и т. п. Философ с негодованием пишет о служителях церкви и богословах, видит в них главных виновников искажения природы первоначального христианства, привнесения в него «противоречивого и непостижимого».
Острие толандовской критики, как нетрудно заметить, направлено против культовой практики христианства и ее непосредственных носителей – духовенства. В религиозных обрядах и таинствах Толанд усматривал корень зла, приведшего к «опасным ошибкам» и заблуждениям. «Нет ничего более противоположного друг другу по своей природе, чем обряд и христианство» (там же, 167). Ничто не вызывает большего вреда, чем окружение религии «подобными глупостями» (там же, 168). При помощи всех этих «мошеннических уловок» духовенство приобрело власть и влияние над верующими, обзавелось бенефициями и титулами, превратилось в замкнутое иерархическое сословие.
Бросается вместе с тем в глаза, что толандовская критика христианства почти не касается его догматического содержания. А ведь именно здесь философский рационализм мог найти немало объектов для критического анализа. Назовем для примера хотя бы учение о троичности единого бога, этот один из самых иррациональных догматов христианской религии. Толанд предполагал продолжить свою критику христианства и подвергнуть рационалистическому анализу догматы Нового завета (см. там же, 172). Чем же объясняется тот факт, что он все-таки обошел своим вниманием эту сторону христианства?
Здесь необходимо учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, открытая критика христианского вероучения была значительно опаснее критики культа. Нелишне напомнить в этой связи о тех преследованиях, которым подвергались и в Англии, и в других странах Европы так называемые антитринитарии, отвергавшие догмат троицы. И во-вторых, критика догматического содержания христианства наряду с культом была равносильна полному отказу от христианской религии, к чему Толанд не был еще готов в то время.
Давая общую оценку книги Толанда «Христианство без тайн», следует признать, что философ предстает в ней как большой знаток истории христианской религии и церкви. Он справедливо указывает на то, что христианство впитало в себя множество элементов языческого я иудейского происхождения, усвоило ряд понятий и предоставлений античной философии, почерпнутых, главным образом, из сочинений Платона и неоплатоников. Однако это был естественный процесс становления и развития новой религии, а вовсе не крах той «истинной веры», которой являлось, согласно Толанду, первоначальное христианство. Если не считать отдельных замечаний Толанда относительно связи религии с государственной властью, то можно, сказать, что он по существу игнорировал историческую неизбежность эволюции христианства, обусловленную определенными социально-политическими факторами. Не замечал Толанд и того, что эта эволюция носила далеко не мирный характер, а представляла собой ожесточенную борьбу различных течений и группировок, за которыми стояли интересы тех или иных слоев рабовладельческого общества. Как показал Ф. Энгельс, давший глубокий анализ исторических и социально-экономических условий возникновения христианства[6]6
Мы имеем в виду работы Энгельса «Бруно Бауэр и первоначальное христианство» (1882), «Книга откровения» (1883) и «К истории первоначального христианства» (1894—1895).
[Закрыть], повсеместное распространение новой религии и превращение ее в мировую во многом определялось именно теми факторами, которые Толанд считал причинами перерождения христианства: усвоением путем соответствующей интерпретации элементов иудаизма, язычества и греко-римской идеалистической философии, а также поддержкой со стороны властей.