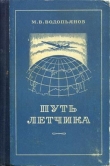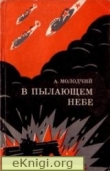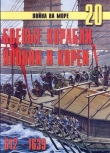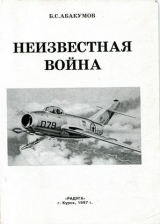
Текст книги "Неизвестная война. В небе Северной Кореи"
Автор книги: Борис Абакумов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
На этом аэродроме мы переучивали корейцев летать на МиГах, учили их вести воздушные бои. Для этой цели была выделена специальная группа лётчиков–инструкторов. В неё вошли Федя Яковлев, Петя Зыков, Петя Милаушкин и Вердыш. Руководил этой группой командир полка Вишняков. Как-то он рассказывал нам о трудностях, с которыми шло обучение. Не все корейцы стремились вылететь самостоятельно и научиться вести воздушные бои. Были случаи, когда он, проверяя их на предмет разрешения на самостоятельный вылет, сталкивался с грубейшими «ошибками» обучающихся при посадке. Некоторые курсанты специально выполняли при посадке низкое выравнивание и почти «лезли в землю». Один полет, два, три… и всё одно и то же. Ему приходилось все время вмешиваться в управление с задней кабины МиГа, где он сидел. Наконец; ему надоели такие упражнения с одним из проверяемых, и он заставил себя не трогать управление во второй кабине, где он находился. Он решил: «Ну что ж, разобьёмся, так разобьёмся вместе, но дальше продолжаться этот обман не должен». И что же получилось? А получилось то, что он и ожидал: корейский летчик прекрасно видел землю и в самый критический момент вывел машину у самой земли и посадил её – не захотел стать прахом. Вишняков тут же вылез из кабины и через переводчика приказал «курсанту» взять боевой самолет и сделать два самостоятельных полета. Кореец удивленно вскинул брови, покраснел, а потом отправился к самолёту и сделал два отличных полета. Видимо понял, что его трюкачество разоблачили.
Приближался новый 1951 год. Писем из дома еще никто не получал, но мы писали много. Слишком долго шли письма в один конец. Самый короткий срок был 12–14 дней. Собрались мы на праздничный новогодний ужин все вместе. Перед нами выступил начальник политотдела Н. В. Петухов. Поздравили нас и мы друг друга с Новым годом, чокнулись, выпили немного и разошлись по своим домикам. Утром на улице нас встретило шествие разряженных «кукол» и «драконов». Они выделывали различные танцевальные фигуры под местную музыку. Это оказались школьники Дунфына, которые узнали, что у нас Новый год и решили дать новогоднее представление в нашу честь, хотя сами они празднуют этот праздник в феврале. Мы были удивлены этим неожиданным представлением, и в то же время для нас было это очень интересное зрелище.
В начале февраля мы были готовы к перелету вглубь Маньчжурии, в район Аньсаня. Нас перебрасывали туда для прикрытия с воздуха металлургического района, где трудилось много наших специалистов, присланных помочь восстанавливать домны и рудники комбината, разрушенные войной: сначала японцами – при отступлении, а потом китайцами, потому что это принадлежало раньше японцам. Ненависть делала свое грязное дело, а невежество не давало понять, что всё это может пригодиться народу. Наши товарищи полностью модернизировали весь комбинат на высшем уровне техники и запустили его в работу.
Перед перелетом на другую точку базирования, нас предупредили, что не все китайцы дружелюбно относятся к русским. Рассказывали нам о многих случаях, происшедших с советскими людьми, работающими в центральном районе Китая. Особенно иностранная разведка усердствовала в этом. Много раз пытались завербовать советских военнослужащих через различные знакомства с подставными лицами, а также женщинами, а потом шантажом пытались добиться различной информации. Но товарищи, попавшие в такое положение, докладывали по команде и их отправляли в Союз.
Китайцы, в угоду некоторым влиятельным кругам, делали даже инсценировки нападений наших военнослужащих на женщин прямо на улице, фотографировали и помещали в печать фотоснимки, как женщина отбивается от советского военнослужащего. Так было с одним капитаном из советников, который шел с одной гражданкой по улице и мирно беседовал. Дойдя до определенного, места эта женщина вдруг, ни с того ни с сего, размахивается и бьёт его по лицу, а в это время их фотографируют из-за угла, и этот снимок попадает в печать с соответствующей надписью. Немного раньше, до нашего прибытия, была разоблачена группа, действовавшая в одном из учебных центров по подготовке летчиков к полетам на реактивной технике. За приборную доску кабины Як-17 диверсанты подкладывали две большие снотворные таблетки, и, когда они обдувались воздухом, то испарялись. Летчик в полёте засыпал, вдыхая этот воздух, и разбивался. Эти частые случаи гибели курсантов прививали неуверенность и страх перед советской реактивной техникой, вызывали сомнения в её техническом совершенстве. В свое время в Китае было много разведок, и почти каждая империалистическая страна имела своих резидентов с соответствующими кадрами и явочными квартирами. А после революции эти разведки соединились вместе под общим американским контролем.
Нас предупредили также, что при поездках в командировки одиночно или небольшими группами, надо не терять бдительности и не поддаваться на провокации. А провокации могли быть на каждом шагу, особенно в центральных районах Китая. Когда обучали техсостав, состоящий из корейцев, для обслуживания реактивных истребителей в Дунфыне, и китайцы узнали об этом, то они отказались их кормить. Видно, давняя вражда давала себя знать. Ведь когда-то Маньчжурия была оккупирована Японией. Наместниками над китайцами японцы ставили корейцев, а сами, как «великая раса», разбирали конфликты между местным населением и корейской администрацией. Так у них решался национальный вопрос.
…Итак, в один из февральских дней, а точнее, 12 февраля, мы поднялись в воздух и взяли курс на Мукден. Район Мукдена специализировался авиационной промышленности. Недалеко от Мукдена Советский Союз в 1956 году современный авиазавод, который начал выпускать МиГ-17. Однажды мне об этом рассказал один из участников создания на заводе лаборатории статистической прочности А. Я. Кудряшов. Позже Китаю было предоставлено оборудование и целые стапеля для производства Ту-16. А в то время, когда мы были, авиационные предприятия этого района снабжали нас подвесными баками для горючего не очень высокого качества.
В Мукдене нас дозаправили топливом, и мы двинулись на знаменитую Аньшань. Аэродром там был построен давно, ещё японцами. Рулежные дорожки заасфальтированы. Бетонные укрытия для нескольких истребителей были похожи на перевернутые большие пиалы, полусферической формы. Аэродром был оборудован системой для ночных полетов, которую мы и использовали ночью.
Удивительная штука – военный аэродром ночью. Всё то, что днем кажется привычным, естественным и не стоящим внимания, ночью приобретает какой-то совсем иной таинственный и загадочный смысл. Луч прожектора временами освещает посадочную полосу. Стоянка самолетов угадывается только по верхней кромке силуэтов машин, и то если небо чистое. Взлетает ракета. И, несмотря на всю таинственность ночи, аэродром работает спокойно и привычно, никакой суеты, всё организованно, чётко. Этот неповторимый ритм сплачивает людей в единый целый организм, который размеренно дышит и уверенно работает. Здесь мы продолжали боевое дежурство и числились во втором эшелоне у частей, ведущих боевые действия в корейском небе. В свободное от дежурства время занимались боевой учебой на земле и в воздухе.
В первый день прилета на этот аэродром некоторым нашим товарищам разрешили повидаться с ранее прибывшими в Китай летчиками, находящимся уже в поезде, идущим на Родину. Это был полк нашей дивизии, который уже год был в Китае и прикрывал небо над Шанхаем и Пекином. Они провели несколько десятков воздушных боев с американской авиацией в корейском небе. Мне тоже хотелось попасть на эту встречу, но я не попал. Я служил в этом гвардейском полку, и там у меня было много друзей. Мне хотелось увидеть Сашу Андрианова, поговорить по душам, вспомнить совместную службу в Армавирском училище, передать привет моей семье – мало ли о чем могут говорить летчики после длительной разлуки.
Чтобы читатель оценил обстановку, в которой приходилось находиться, скажу, что в те дни многие товарищи этой группы были награждены орденами и несколько человек получили звание Героя Советского Союза, которое присваивали тогда за 3–4 сбитых самолёта противника, орденом Красного Знамени награждали за 30 боевых вылетов, орденом Ленина – за 120 боевых вылетов – такова была психологическая сложность обстановки, в которой находились люди. В мирное время им приходилось драться и терять товарищей, у которых были семьи, знакомые с оставшимися в живых. Это было тяжелое испытание людей на моральную прочность. Правда, по окончании нашей работы, все вышеизложенные вопросы по нашей дивизии были почему-то скомканы.
…Жили мы в Анынане не на аэродроме, а в специальном военном городке, сделанном в своё время японцами, в двухэтажных домах с удобствами, даже с шикарными ворсистыми коврами на бетонном полу, которые нельзя было трогать из-за ветхости – они рассыпались. Эти ковры никогда не выбивались от пыли, а её там было предостаточно. Мы хотели их выбить, но потом бросили эту затею, так как целиком их нельзя было поднять с пола.
Дома располагались в шахматном порядке, и не трудно было определить, что это было сделано с точки зрения круговой обороны при нападении на городок. Один дом прикрывал другой при бое внутри городка. Крыши домов были плоскими, где можно было устанавливать тяжелое оружие. В городке были хороший клуб и большая столовая с множеством других подсобных помещений. Весь гарнизон был обнесен тремя рядами колючей проволоки (центральный ряд был под напряжением). Выход с территории гарнизона разрешался командой не менее трёх человек и под охраной вооруженного представителя из спецохраны. И. Н. Кожедубу дали красную машину со специальным козырьком для защиты лобового стекла. Управлял ею его адъютант Петя Курилов, очень спокойный, внимательный и отзывчивый товарищ. Главное – он не был заносчив как некоторые адъютанты больших начальников. Как-то наше командование было приглашено на большой банкет к советским товарищам, работающим на металлургическом комбинате. Встреча была очень сердечной… Они были обрадованы появлением там Кожедуба. Приглашали побывать у них ещё раз, но этого не произошло в силу сложившихся обстоятельств.
Приближался день Советской Армии, 23 февраля 1951 года. Намечая лось в этот день провести торжественную часть после праздничного ужина с демонстрацией кинофильмов, которые мы давно не видели. Ужин у нас задержался на два часа, по причине срочного приготовления другой пищи. Нам потом сообщили, что приготовленный праздничный ужин был отравлен диверсантами, руководил которыми китаец, вывозивший на лошади отходы столовой за территорию городка. Да, удар по летному и техническому составу дивизии был рассчитан точно. Диверсанты могут сделать больше потерь в личном составе, чем бывает потерь в открытом бою с противником. Это ещё раз подтверждает, что пищеблок воинских частей должен особо строго охраняться и контролироваться. Мне вспомнился случай во время войны, когда были отравлены 600 человек курсантов Армавирского училища, которые были надолго выведены из строя. Много было тяжелы случаев отравления, но, благодаря медицине, смертных случаев не было. Как видите, эти методы не новые, но при потере бдительности действуют четко и с большим эффектом. Нас эта участь миновала, так как не была потеряна бдительность у наших товарищей. Так же был раскрыт заговор по взрыву городка, заранее заминированного, с подставкой смертника, который должен был включить рубильник взрыва и сам погибнуть.
На аэродром мы ездили в закрытых брезентом машинах. По пути часто попадались табуны мохнатых собак. Оказывается, собаки в Китае, и особенно в Корее, в большом почете. Говорят, что корейцы готовят кушанье из собак для особо уважаемых гостей. Собачий жир, якобы, помогает излечивать туберкулез – так нас информировали «знатоки».
Люди в тех местах все ходили в брюках и куртках, независимо от пола. Костюмы были хлопчатобумажные, чёрного или тёмно-синего цвета. Мы, на порах, даже с трудом различали по одежде: идет это женщина или мужчина. Но потом освоились – у женщин была более мягкая походка, в ней улавливалось что-то кошачье, восточное. Большинство женщин ходили в деревянных туфлях.
В поездках на машинах нам часто приходилось видеть: посреди поля продолговатый ящик, довольно больших размеров, напоминающий китайские лодки. Оказывается, это так они хоронили умерших, у которых не было родственников. Неприятно было смотреть на весенние пустые поля с таким ящиком посреди поля.
В Аньшане мы задержались ненадолго. Американцы усилили боевые действия в воздухе снова прибывшими группами на «Сейбрах» Ф-86. Наше командование оперативной группой войск решило направить нашу дивизию в бой. С началом апреля мы вылетели на корейскую границу и с ходу вступили в бой. Некоторые наши группы даже без посадки на аэродроме Мяу-Гоу встретились с авиацией противника. Это было немного для нас неожиданно. Один из наших летчиков даже атаковал американского разведчика Б-45 (четырёхтурбинный реактивный самолет, его турбины были попарно подвешены на двух пилонах под крыльями), не перезарядил оружие, то есть действовал как в учебном бою, «обстрелял» по нему из фотопулемета, пленка была хорошего качества, но «цель» ушла – не стала ждать, пока по ней ударят из пушек. Ещё не приобрели мы привычки сбивать самолеты противника в мирные дни. Надо было преодолеть этот психологический барьер. И мы его скоро преодолели. Первый погибший наш летчик Борис Образцов, раненый в живот, однако, сумевший посадить машину в поле, переломил наше сознание. В дальнейшем не было боя, чтобы мы не возвращались с победой. Помогли нам в этом замполиты Докучаев и Сибиркин, которые сумели вселить в наши души ненависть к противнику. И. Н. Кожедуб приказал командирам полков самим водить людей в бой, а не отсиживаться на КП. Были сделаны оргвыводы по кадровым вопросам. Кожедуб предупредил некоторых товарищей, любителей держаться в стороне от боя. И всё пошло нормально. Люди поверили в свои силы. Один из командиров полков Е. Г. Пепеляев получил по окончании работы звание Героя Советского Союза. На должность второго командира полка вступил Вишняков, который тоже был представлен по окончании работы к званию Героя, но оно не состоялось по непонятной для нас причине.
…Итак, после посадки на аэродроме, вечером нас пригласили на разбор лётного дня к лётчикам полка, который базировался здесь последний день, а назавтра должен был рано утром улететь в Аньшань на наше место. В этот день американцам удалось повредить ферму единственного железнодорожного моста через реку Ялуцзян, по которому шло снабжение корейских войск и китайских добровольцев, находящихся на фронте и на охране корейского побережья. Охранять его была необходимо потому, что американцы могли опять высадиться в тыл, как было под Сеулом. Все корейские прибрежные острова выше 38 параллели находились под контролем американцев, где у них были гарнизоны, охраняемые флотом, со средствами обеспечения деятельности американской авиации. Ферму моста за ночь восстановили, использовав подручный материал. При разборе работы за день командующий оперативной группой войск С. А. Красовский сдержанно-требовательно предложил сделать доклады ведущих групп об их действиях и объяснить, почему были допущены американцы, к мосту? Я слышал об этом человеке очень много хорошего ещё с начала Отечественной войны, когда он был помощником командующего Северо-Кавказского военного округа. Красовский приезжал к нам в училище и с начальником училища К. И. Шубиным разрабатывал вопросы организации ПВО Армавирского оперативного района. И вот он перед нами, приземистый крепыш с усами, скрывающими доброту улыбки душевного человека, с лицом, умудренным опытом руководства большими авиационными соединениями. Мне понравилась его манера вести разбор: «Кто желает выступить?» – спрашивает он. Молчание. Тогда он говорит: «Выступить добровольно обязательно такому-то, такому-то и такому-то…»
После разбора была поставлена задача нашей дивизии, и мы с утра приступили к ее выполнению. Однажды мы увидели Степана Акимовича Красовского на стоянке самолетов, когда он с большим вниманием рассматривал и щупал выхлопную трубу МиГ-15 нашего замполита эскадрильи Василия Ларионова, у которого в бою загорелся двигатель, и он сел на аэродром с выплавленной выхлопной трубой миллиметров на 200. Красовский часто бывал в войсках, беседовал с летчиками и проводил совещания. Он воплощал в себе почти все положительные качества крупного военачальника советской школы воспитания: честного, высокой военной культуры человека, мужественного авиационного командира, большой человеческой души коммуниста. Его книга «Жизнь в авиации» перечитывалась нами по возвращению в Союз по несколько раз.
БОИ В НЕБЕ КОРЕИ
«…На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит подвигов и славы…»
«…В бой мы шли не ради славы,
А ради жизни на земле…»
Американское командование в дни нашего прибытия бросило на этот театр военных действий большие соединения новейших современных реактивных истребителей типа «Сейбр» Ф-86, модификации которых в процессе боёв менялись довольно часто. Они были брошены в дополнение к «Шутинг Старам» Ф-80, «Тандерджетам» Ф-84, «Летающим крепостям» Б-50 и Б-29, «Глостер метеорам» и другим типам самолетов, базирующихся на этом театре военных действий. Американцы имели около 4000 самолетов в этом районе (за время боев Корее они потеряли до 2500 самолетов). Мы в тот момент располагали одной облегченной дивизией реактивных истребителей МиГ-15, двухполкового состава, а в эскадрилье было всего по 8 самолётов. Так что не густо. А задачи стояли большие:
• обеспечить тактическое и стратегическое превосходство в воздухе в этом районе;
• обеспечить прикрытие с воздуха стратегических объектов;
• прикрыть небо Северной Кореи и прилегающих районов Китая от налётов американской авиации.
Запасные аэродромы были на Ляодунском полуострове, где базировались авиационные дивизии, прикрывающие Порт-Артур с прилегающими береговыми районами полуострова и морскими рубежами нашего флота. В глубине Кореи аэродромы только строились. Когда они были готовы, и мы после боя должны были после боя сесть на них, американцы ночью разбили все взлётные полосы специальными бетонобойными бомбами, хотя строительство велось со всеми возможными средствами маскировки, даже бетонные полосы покрывались дёрном из травяного покрова – разведка у них работала чётко. Ежемесячно они выбрасывали в Корею большое количество диверсантов с различными заданиями, вплоть до захвата кого-нибудь из русских для доказательства, что они здесь есть. Разведчики американской стороны оснащены первоклассной техникой передачи информации, даже могли маскировать радиоаппаратуру под водой рисовых полей. Стоит такой «работник» и собирает рис, к нему не придерёшься, а когда обстановка позволяет, он вёдет передачу с передатчика, установленного в воде. Ночью работало очень много различных мигалок, указывающих цели для бомбометания. Наши спецслужбы никак не могли обнаружить радиостанцию, которая передавала сведения о нашем вылете, вплоть до бортовых номеров наших самолётов. Наземная обстановка в Корее, конечно, была сложной. На дорогах, особенно ночью, бывали засады и довольно крупных размеров.
Два месяца мы вылетали на любое количество самолетов противника эскадрильями (восьмёрками), и часто неполного состава, то есть шестёрками. Иногда вылетали полками, но каждая эскадрилья завязывала бой, который разбивался на пары из-за тройного, как минимум, преимущества по численности с американской стороны. Американские летчики имели возможность свободного выхода из боя, в безопасную для них зону над морем, куда нам ходить было категорически запрещено. Запрещалось нам летать и за Пхеньян, но в азарте боя это не всегда было выполнено. В то время у нас каждый вылет сопровождался групповым воздушным боем. И эти бои продолжались до конца нашей работы не переставая.
Немаловажное значение в воздушных боях имеет солнце, как маскирующий признак, а оно было всё время на стороне моря, где группировался противник. Вдобавок, самолёты противника были выкрашены в соответствующий маскирующий цвет. Наши самолеты блестели на солнце и отражали солнечные зайчики на большое расстояние. Условия нашего базирования с тактической стороны были очень невыгодны нам во всех отношениях. Нам противник предлагал, как только хотел, воздушную обстановку, а сами мы предложить ему что-либо не могли. К примеру, гнать противника прямо до их аэродрома под Сеулом, да и блокировать их аэродром тоже не могли. Они же пытались это сделать, но мы их быстро отучили, сбив несколько «Сейбров» вблизи нашей точки. Били мы их хорошо на всех высотах в том воздушном пространстве, которое нам отвело командование. Так что мы не унывали. Американцы прощупывали наши силы и возможности: на следующий день после нашего перебазирования нам пришлось встретиться с «Сейбрами» над мостами. Как мы определили с воздуха, к железнодорожному мосту был пристроен узкий мост для автотранспорта с пропуском машин в одном направлении. Была в тот день многоярусная облачность с нижним ярусом около 2000 метров. Противник выскакивал под облако и на большой скорости прочесывал район боя, после чего сразу же нырял обратно в облачность. Нашей группе было приказано прикрыть мосты и никого туда не допускать! В облака не входить! С истребителями в бой не вступать! Американцы, зная тактико-технические возможности наших локаторов типа «П-3», подходили в район моста четвёрками в плотном строю, имитируя полет бомбардировщиков по скорости и боевому порядку. Наши локаторы так и фиксировали это. Поэтому И. Н. Кожедуб приказал в бой с истребителями не вступать, а ждать бомбардировщиков. Но их не было. Была отдана команда: «Все к мосту!» Мы рассыпались в районе моста по парам и носились роем. В первых вылетах при маневре пары рассыпались. Видимо, неправильно распределяли внимание лётчики: сознавая сложность полета, в котором тебя могут сбить. Невольно большое внимание уделялось внешней осмотрительности, а контроль за манёвром ведущего ослабевал.
В этом бою я всё-таки увидел пару «Сейбров», выскочивших из облаков. Направил свой истребитель на них, но они нырнули опять в облачность. В этот раз я больше противника не видел, но по командам с земли и между самолётами, доносившимся в наушники шлемофона, понял, что кое-кто даже стрелял по «Сейбрам». Саня Литвинюк даже хорошо различил окраску – они были окрашены в грязно-зеленый цвет и с белыми полосами на плоскостях фюзеляжа. При разборке этого полета И. Н. Кожедуб опросил всех, кто видел противника. Видели его большинство летчиков, тогда он сказал, что будем считать, что вы обстрелялись. Нам было указано на недопустимость полётов-одиночек. Одиночкам надо пристраиваться друг к другу, если потеряли ведущего или ведомого и составить новую пару. Пара должна быть неделимой! Действия внутри пары должны дополнять друг друга при атаке, усиливая в несколько раз ее эффективность – в этом взаимопонимании и смекалке – вот суть работы пары. Ведущим и ведомым пришлось сделать соответствующие выводы. При резком маневрировании в группе очень трудно держаться ведомым в строю, когда у всех двигатели работают на максимуме, тем более, если допустишь небольшой зевок в маневре. Двигатели ВК-1 был у нас хорошие, на максимуме работали почти весь полёт, и чем больше работали, тем лучше тянули! Даже иногда по восемь лопаток турбины выбивало пулями, а двигатель работал и хорошо тянул: так было у Г. И. Геся, который формально провел бой и только на выравнивании при посадке почувствовал, что двигатель заклинило. Итак, запаздывание с упредительным маневром по ведущему приводит мгновенно к увеличению дистанции и интервала. Для сохранения своего места в строю приходилось совершать небольшой маневр по высоте для набора скорости, а потом становиться на свое место.
Растягивание группы в глубину затрудняло поиск противника, так как приходилось смотреть только за впереди идущими – иначе потеряешь их из виду. Растягивание группы в глубину уменьшает боевые возможности реактивного истребителя для удара по противнику.
Нет правил без исключения: иногда в маневренном бою, то есть истребители противника атакуют первыми из-за солнца и сразу же уходят, а наши их не видят, отставание ведомого от группы оборачивалось победой в бою. Так было с группой комэска Николая Шеломонова. На одном из маневров ведомый последней пары, Федя Шебанов, отстал. Его – одиночку, не заметили «Сейбры» и бросились на основную группу. Федя не растерялся, открыл прицельный огонь и один «Сейбр» был сбит. Федя пристроился к группе, и все вместе без потерь они вернулись на точку. В книге И. Н. Кожедуба «Служу Родине» говорилось: «Надо бить врага кому сподручней…» – так и поступил Федя Шебанов. В правоте этих слов я не раз убеждался в боях: пока ждёшь, что эту цель должен атаковать сосед справа или слева, а цель уже ушла.
Во второй половине дня, 6 апреля, была поднята в воздух эскадрилья Бориса Бокача в составе восьми самолетов. В этой группе находился и я. В воздухе по радио получили задание: встретить группу истребителей противника, идущих с моря, и завязать бой. Встреча произошла над береговой чертой на встречных курсах. Первая восьмерка «Сейбров» прошла, не меняя курса, а две четверки, идущие выше нас, полупереворотами хотели взять нас в «клещи» и зайти к нам в хвост. Мы сразу пошли на горку и рассыпались веером пар в разные стороны – пошел вертикальный бой. В этот, момент была замечена на подходе ещё одна группа противника, о чём было доложено на КП. С аэродрома на помощь нам была поднята эскадрилья Шеломонова, которая гнала убегающего противника до самого Пхеньяна. Я со своим ведомым, Геннадием Локтевым, дрался с четверкой «Сейбров» – уцепился в хвост одной паре и со страшными перегрузками гонялся за ней, пытаясь на выходе из пикирования в нижней точке поразить ведомого этой пары. Автоматика прицела не работала на таких перегрузках. Приходилось брать цель по визиру и корректировать прицеливание трассой снарядов, вынося точку прицеливания по противнику так, что носом своего самолета закрывал цель. Снаряды всё время проходили между носом самолета противника и его левой плоскостью. Стрелял я из двух пушек 23-миллиметрового калибра. Для большего рассеивания приходилось немного раскачивать нос истребителя ножным управлением для более полного накрытия цели трассой снарядов. Самолёт противника покачивался от разрывов снарядов, но продолжал полёт. Впоследствии пленные американские летчики сообщали, что некоторые «Сейбра» привозили до девяти пробоин от 23-миллиметровых пушек и спокойно садились на свой аэродром, если снаряды не попадали в жизненно важные части самолёта.
Другая пара «Сейбров» этой четвёрки на пересекающихся курсах вела огонь по мне. Мимо меня летели сизые огоньки трассирующих пуль. В меня не попадали, но моему ведомому, Геннадию Локтеву, пробили плоскость. Не выдержав этой карусели, «Сейбры» резким маневром вправо, немного не доходя верхней точки левой косой полупетли, на малой скорости вышли из-под моего огня. Во рту у меня пересохло, лицо пылало, левая рука почему-то нажимала кнопку передатчика, внутри всего лихорадило. Я немного успокоился от недавней схватки и увидел впереди себя восьмерку «Сейбров», следовавшую курсом на наш аэродром. Осмотрелся, ведомого рядом почему-то не было. Он, оказывается, оторвался от меня на одной из косых петель. Я погнался за шедшей впереди меня восьмеркой. Справа от меня вел бой своей парой Саня Литвинюк, слева тоже шла карусель боя, там была пара Бориса Бокача. Моё сближение с восьмеркой «Сейбров» было медленным. Вот и дистанция открытого огня. Я выключил автоматику прицела и навёл прицельную точку выше цели на зрительную величину фюзеляжа противника, потому что цель удалялась, а при стрельбе из пушек мой самолёт теряет скорость. Я дал длинную очередь из пушек левого борта по ведущему этой восьмерки. Трасса пошла к цели и замкнулась на ней. Самолёт противника качнулся: на левой плоскости произошел какой-то белый выброс, похожий на взрыв, и за ним потянулся легкий туманный след. С левым креном противник буквально нырнул под свой строй и с большим снижением пошел в сторону моря к береговой черте. Остальные «Сейбры» этой группы бросились за ним. Ну, думаю, попал прямо в их командира. Потом нам сообщили, что за Пхеньяном сел на живот «Сейбр», пилотируемый майором Вилли Кроном, который по происхождению был немец. У него не хватило горючего дотянуть до Сувона, где они базировались из-за повреждения бака с горючим моей пушечной очередью. Он был взят в плен. Этот «Сейбр» разобрали и на двух машинах везли к нам, но американская авиация машины эти разбомбила. Американцы боялись, что их новейшая техника попадет к нам в руки.
Я удивился, как мой ведомый, Геннадий Локтев, мог выдержать этот бой. Бой с такими большими перегрузками. Ведь у него две недели назад был приступ мочекаменной болезни, и после боя она сильно обострилась – ему пришлось уехать в Союз.
Дали мне нового ведомого, А.П., но мы с ним не слетались – не было психологической совместимости.
Есть неписанные законы войскового товарищества. Особенно они чувствуются и действуют в летной среде, тем более в боевых условиях.
После воздушных боёв, в первых числах апреля, американцы начали массированные активные действия на всю глубину воздушного пространства Северной Кореи. В ход были пущены все виды и типы авиации. Нам приходилось вылетать по несколько раз в день и вести бои шестёрками и восьмёрками с любым количеством самолётов противника на всех высотах.
Как говорят поэты: «В бой мы шли не ради славы, а ради жизни на земле…»
Как-то Г. И. Гесь из гвардейского полка привёз на своем МиГе осколки американского поршневого истребителя – двойного «Мустанга», который взорвался в воздухе от снарядов, выпущенных им. Вообще-то это было любопытное для нас зрелище в те первые дни боев. Но этот случай предостерегал нас, что стрельба с близкой дистанции из всех пушек для реактивного истребителя небезопасна. Можно взорвавшимся самолётом противника повредить свой.
В одном из апрельских боев я упустил одного «Сейбра» из-за своей медлительности в открытии огня, точнее, из-за своего любопытства. Только прицелился и хотел открыть огонь, смотрю, а у него фюзеляж раздулся в три раза. Я прекратил прицеливание и хотел посмотреть, в чем же дело, что это с ним делается, а он резко сделал переворот и ушел под меня. Я, конечно, на большой скорости мгновенно проскочил противника, а погасить так быстро скорость мне было нечем, как это сделал «Сейбр», выпустивший, оказывается тормозные щитки. Любопытство первого момента потом перешло в досаду на себя.