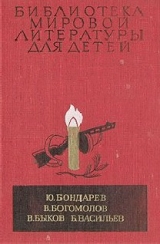
Текст книги "Повести"
Автор книги: Борис Васильев
Соавторы: Владимир Богомолов,Василь Быков,Юрий Бондарев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 42 страниц)
Глава восьмая
В третьем часу ночи дивизия полковника Деева, завершив двухсоткилометровый марш, вышла в заданный район – на северный берег реки Мышкова – и без отдыха стала занимать оборону, вгрызаться в мерзлую землю, твердую, как железо. Теперь все уже знали, с какой целью занимался этот рубеж, представлявшийся в воображении последним барьером перед Сталинградом.
Тяжкое погромыхивание отдаленного боя, доносившееся спереди, накалилось в четвертом часу ночи. Небо на юге посветлело – розовый сегмент, прижатый темнотой к горизонту. И в коротких затишьях в той стороне, откуда приближалось невидимое, неизвестное, слышны были на занимаемом рубеже скрежет лопат в звонком каменном грунте, тупые удары кирок, команды, фырканье лошадей. Два стрелковых батальона, три батареи артполка и отдельный противотанковый дивизион были выдвинуты, переброшены через реку по единственному мосту, соединявшему станицу, и закреплялись впереди главных сил дивизии, окапывались здесь. В охватившем всех возбуждении люди, то и дело матерясь, глядели на зарево, потом на северный берег, на пятна домов по бугру, на деревянный мост, по которому шли запоздалые орудия артполка.
А река Мышкова, разделявшая станицу, лежала внизу, синея под звездами. Снег густым дымом сдувало с высоких ее берегов, поземка жгутами скользила, неслась по льду, обвивая впаянные в лед сваи моста.
Батарея лейтенанта Дроздовского, поставленная на прямую наводку позади боевого охранения, зарывалась в землю на самом берегу реки, и спустя три часа изнурительной работы орудия были вкопаны на полтора лопатных штыка.
Лейтенант Кузнецов, горячий, мокрый от пота, сначала испытывал азартное чувство какой-то одержимой поспешности, как испытывали это и все, слушая заглушенные расстоянием обвальные раскаты в стороне светлого сегмента неба. Каждый понимал, что бой приближается, неумолимо идет оттуда и, не успев окопаться, без защиты земли, останешься на заснеженном берегу раздетым. А лопаты не брали прокаленную холодами почву, сильные удары кирок выдалбливали лунки, клевали землю, брызгая крепкими, как кремень, осколками.
По берегу дул низовой ветер, шевелились в мутно-белой мгле фигуры солдат-артиллеристов и соседей-пехотинцев; между ними темнели щиты орудий.
Мороз, усилившийся к ночи, затруднял дыхание, не было возможности разговаривать; дышали с хрипом; иней мгновенно садился плотным налетом на потные лица, ледком залеплял веки, едва лишь кто-нибудь прекращал на минуту работу. Неутолимо хотелось пить – сгребали с брустверов пригоршнями уплотненный осколками земли снег, жевали его; пресная влага леденила горло; скрипело на зубах. Обливаясь потом, лейтенант Кузнецов безостановочно бил киркой в землю, он никак не мог остановиться. По мокрому телу под прилипшей к спине гимнастеркой шершавыми змейками полз озноб. Кузнецов с жадностью глотал снег, но пересыхало во рту, и мучила непрерывная мысль о чистой, пахучей, колодезной воде, которую хотелось, задохнувшись, пить из железного ведра, окунув подбородок в холод.
– Много вы больно снега-то глотаете, товарищ лейтенант, – робко заметил Чибисов, неуклюже подгребая совковой лопатой за киркой Кузнецова. – Грудь бы не застудить. Снег – обман один. Видимость одна!..
– Ни черта! – выдохнул Кузнецов и позвал: – Уханов!
Старший сержант Уханов, без шинели, в одном ватнике, с горловым хеканьем долбивший вместе с наводчиком Нечаевым ровики, откинул кирку, спрыгнул на еще мелкую огневую позицию.
– Как идет, товарищ лейтенант? Влезаем в земной шар полегоньку?
Он дышал убыстрение, разгоряченный работой, пахло от него крепким здоровым потом, поблескивало влажное лицо.
– Неплохо было бы, – выговорил Кузнецов, – послать кого-нибудь к реке… Прорубь найти. И пару котелков с водой сюда.
– Придумано законно, – согласился Уханов, рукавом размазывая по щекам пот. – А то весь снег вокруг огневых сожрут, дьяволы. Маскировать нечем будет… Ну, кто тут деревенский мастер по прорубям? Ты, Чибисов? Давай вниз, ломик возьми!
– Смогу я, смогу… Что ж, возле реки да без воды? Сейчас я, товарищ лейтенант, все напьемся, – зачастил певуче Чибисов, и это охотливое его согласие было замечено всеми на огневой.
– А почемуй-то Чибисов? Этот не в ту сторону еще лупанет! – сказал кто-то, сомнительно хохотнув. – Ориентиры знает?
– Замолол Емеля! Соображай!
– Нет, я и говорю: прямо ловит команду в тыл!
Однако Чибисов взял ломик, вскарабкался на бруствер, молча заковылял к орудию за котелками.
– Хитер мужик, аж пробы негде ставить, – опять хохотнул кто-то. – Работать – волос не ворохнется, жрать – вся голова трясется!
– Чего напали? Сами пить не хотите? Что, Чибисов жену у вас увел, никак? Он мужик старательный, мухи не обидит! Зашумели!
– Ша, славяне! – прикрикнул Уханов. – Не трогать мне Чибисова! А ты лучше про лошадей, Рубин, соображай, это для тебя поинтересней! Перекура не было! Долби, иначе он нас тут, как клопов, передавит! Или повторить?
Все вновь заработали на огневой – заскрежетали лопатами, с тупой однообразностью забили кирками в звеневший грунт. Кузнецов поднял с земли свою кирку, но тут же выпустил ее и вышел на бруствер, глядя на свет зарева левее редких и темных домов пустой станицы, вмерзшей в синеватость ночи.
– Подойди, Уханов, – сказал Кузнецов. – Слышишь что-нибудь?
– А что, лейтенант?
– Послушай…
Тишина странная, почти мертвенная, широкими волнами распространялась от зарева – ни гула, ни единого орудийного раската не доносилось оттуда. В этом непонятном наступившем безмолвии громче и четче стали выделяться звуки лопат, кирок, отдаленные голоса пехотинцев, окапывающихся в степи, и подвывание артиллерийских машин на высотах сзади – на том берегу, где занимала оборону дивизия.
– Кажется, затихло, – проговорил Кузнецов. – Или остановили, или немцы прорвали…
– А справа? – спросил Уханов. – Тоже что-то…
Далеко по горизонту, правее зарева, прямо над крышами южнобережной части станицы, прорезалось второе сегментное свечение в небе и беззвучно вспыхивали круглыми зарницами, снизу упираясь в низкие облака, скользящие красноватые светы. Но и там стояло тяжелое безмолвие.
– Похоже на ракеты, – сказал Кузнецов.
– Похоже, – согласился Уханов. – Вроде прорвали. Правее. Прямо перед нами. Вовсю жмут к Сталинграду, лейтенант. Вот что ясно. Хотят своих из колечка вырвать. И снова крылышки расправить.
– Пожалуй.
Кто-то сказал за спиной с веселым удивлением:
– Братцы, а чего так тихо стало? Отошел, никак, немец? Небо осветил, а тихо! Стало, передумал прорываться? Понимаешь, нет?
– Ну, прямо, «отошел»…
– Криво! Может, пораскидали генералы у Гитлера мозгами, решили: отменить пока!
– Вот он те даст «пораскидали мозгами», пуговиц не соберешь! – заключил въедливо-злой голос. – На ширинке ни одной не останется!
– Р-работай, кореши, долби, зубами вгрызайся!.. Дав-вай!..
Кузнецов и Уханов помолчали, слыша на берегу переговоры людей, участившееся дыхание: острия кирок с наковальным звоном тюкали в железную землю, на которую наступала эта пугающе огромная тишина, раздвинувшаяся по всему небу на юге. Уханов спросил не без раздумчивого угадывания:
– Далеко они? Как, лейтенант? Час? Два? А?
– А кто это знает! – ответил Кузнецов и опустил корябнувший мокрую шею воротник шинели: озноб не проходил, морозящей ледяной паутиной облепливал спину, во рту по-прежнему было сухо и горячо. – Окапываться нужно как бешеным. Все равно! Час или два – все равно!
Снова помолчали. А безмолвие горизонта охватывало, заполняло степь, зловеще ползло и ползло на батарею от двух зарев, зажженных в черноте ночи. И постепенно начали сникать, обрываться, притухать голоса солдат на огневых; тишина эта стала угнетать всех…
– Одно бы еще… – Уханов поглядел на Кузнецова, запахнул ватник. – Одно бы еще сделал. Из нашего старшины и повара душу бы с дерьмом вытряс своими руками. Где жратва? Попробуй кто-нибудь из расчета на сутки отстать – отдали бы под суд как дезертира! А поварам и старшинам ни хрена! – И Уханов, переваливаясь косолапо, сошел на орудийную площадку, где с хрипом, с выдохами вгрызались кирками в грунт солдаты, выбрасывали отколотые земляные комья на бруствер.
– Работа солдата – как колесо, братцы, без начала, без конца! – послышался снизу голос Уханова. – Крути колесо, славяне, в рай попадем!
– Где Чибисов? Пришел с водой Чибисов? – спросил Кузнецов, томимый непроходящей сухостью во рту, думая с отвращением, что придется глотать этот неприятно пресный, леденящий горло снег.
– А может, пленный-то в тыл рванул? – язвительно загудел из ровика ездовой Рубин. – Чешет назад, и котелки в кюветы побросал. А че ему? Ты че задышал. Сергуненков? Может, обратно слезу пустишь?
– Глупый ты человек, напраслину мелешь! – вскрикнул в сердцах ездовой Сергуненков, видно не забывший и не простивший той злобы, с какой Рубин вызвался пристрелить упавшую на марше уносную.
– Рубин, – строго проговорил Кузнецов, – прежде чем сказать, подумайте. Много чепухи говорите!
– Ох, Рубин, надоел ты! – с недобрым обещанием произнес Уханов. – Предупреждаю: очень надоел!
Кузнецов стянул рукавицу, подхватил влажной рукой пригоршню острого, как битое стекло, снега и с заломившими зубами, давясь, начал глотать его, утоляя жажду.
– Ну! – сказал он. – Еще на штык… – и спрыгнул с бруствера на орудийную площадку, взял кирку, изо всей силы вонзил острие в почву Этот удар отдался в висках толчком крови. Кузнецов ударил киркой еще раз и еще, расставив ноги, чтобы не пошатываться от усталости. Через пять минут прежняя жажда, обманутая снегом, иссушающе жгла его, и он думал: «Чибисов… Скорей бы Чибисов… Где он там? Воды бы сейчас… Не заболеть бы мне».
Сквозь скрежет лопат он слышал обрывки разговоров о старшине, о кухне, но мысль о еде, об одном запахе пшенной каши была противна ему.
Кухня прибыла в пятом часу ночи, когда вся батарея, вымотавшись вконец на орудийных площадках, уже отрывала землянки в крутом обрыве берега. Кухня остановилась возле огневых второго взвода. Темным пятном проступала она на снегу, пахуче дымила, рдея жарком поддувала. Не слезая с козел, старшина Скорик прокричал наугад: «Кто есть живой?» – но, не получив ответа, соскочил на землю и первым из командиров встретил на огневых лейтенанта Давлатяна. Искоса поглядывая на два мохнатых, разросшихся по горизонту зарева, старшина спросил начальственной скороговоркой:
– Где комбат, товарищ лейтенант?.. Дроздовский нужен. Где он?
– Слушайте, вы… старшина! – заговорил Давлатян, заикаясь в негодовании. – Как вам не стыдно? Вы что, с ума сошли? Где вы были до сих пор? Почему так безобразно запоздали?
– Какой там еще стыд? – огрызнулся Скорик с атакующей надменностью, давно усвоив, что прочность его положения не зависит от командиров взводов, несмотря на их лейтенантские звания. – Чего стыдите-то? Склады у дьявола на рогах, отстали… Пока ездили, пайки, водку получали… Стыдите, ровно один воюете, товарищ лейтенант! Смешно мне это очень слушать. Ровно я пешка какая и фитюлька!
Скорик, бывший командир орудия, единственный в батарее обладатель ценнейшей солдатской медали «За отвагу», полученной в прошлогодних боях под Москвой, и вследствие награды, а также внушительной внешности выдвинутый на формировке в старшины, занял эту должность весьма охотно. Он полагал, что создан для старшинской должности, и в душе считал себя куда выше командиров взводов, в особенности этого щуплого, остроносого Давлатяна, еще не понюхавшего в коротенькой жизни своей пороха лейтенантика, которого чихом перешибить надвое можно. Лейтенантик этот был ничем не интересен, а тоже петушился, будто вся куриная грудь в орденах, будто на возмущение большое право имел… Да и никто в батарее не имел никакого права попрекнуть чем-либо Скорика, ибо он мог невзначай распахнуть шинель, напоминающе открыть взорам медаль, доставая зажигалку из нагрудного кармана гимнастерки. Только к Дроздовскому, командиру батареи, старшина Скорик относился с неким опасливым уважением.
– Неужели не стыдно, старшина! – повторил Давлатян, растерянный от нагловатого тона Скорика. – Чего вы улыбаетесь, как клоун в балагане? Можете целые сутки торчать где-то в тылу и еще улыбаетесь?
Здесь, на огневых Давлатяна, сейчас никого не было из орудийных расчетов, кроме часового – наводчика Касымова. В темноте несколько раз, словно проверяя, Касымов обошел вокруг нежданно-негаданно появившейся на огневых, пахнущей теплым ароматом варева кухни с затаившимся по-виноватому на козлах поваром – и вдруг, безумно взвизгнув, щелкнув затвором, вскинул на повара карабин:
– Уезжай! Прочь!.. Не наша кухня! Не может наша кухня быть! Ты шайтан! И старшина – шайтан! Уходи! Немец ты! Не советский человек! Люди без крошки хлеба!.. Где, проклятый, спал? Батарея голодный!.. Убью!..
– Касымов! – фальцетом закричал Давлатян. – Что вы делаете?
– Стрелять буду шкуру!..
Лейтенант Кузнецов, заслышав вблизи крики, подбежал к огневой Давлатяна, к стоявшей в синеватой снежной мгле кухне. Тотчас увидел, как лошадь при взмахе карабина Касымова испуганно рванула в степь, поволокла задребезжавший котел, низкорослая фигурка повара мешком скатилась с козел, ткнулась в сугроб; повар жалобно заголосил защищающимся тенорком:
– А?.. Зачем? Умом тронулся?.. – И, вскочив, кинулся к лошади, схватил за повод, приговаривая: – Тпру, дуреха, чтоб тебя!..
– Что произошло, Давлатян? – крикнул Кузнецов. – С какой стати шум подняли? Касымов!..
– Вон видел… приехать изволили, – ответил Давлатян, запинаясь возбужденно. – Понимаешь, Кузнецов, сутки его не было, сутки! Тыловая простокваша!
А Касымов опустился на бруствер и, положив карабин на колени, раскачиваясь из стороны в сторону, говорил нараспев:
– Плохо, лейтенант, плохо… Не люди они… Такой люди плохо Родину защищать будут. Сознательность нет. Других не любят…
– А-а, ясно, тыловые аристократы прибыли, – насмешливо сказал Кузнецов. – Ну, как в тылах? Обстреливают? Что же стоите, старшина? Рассказывайте, как там – оборону копали для кухни? Давно вас не видели! С самого марша, кажется?
Скорик, улыбаясь одной щекой, с надменным и хищным выражением сверкнул на Кузнецова узко поставленными к переносице глазами.
– Бойцов неполитично настраиваете, товарищ лейтенант, не по уставу это. Чтоб бойцов против старшин? Комбату Дроздовскому жаловаться буду. Касымов вон оружием угрожал.
– Жалуйтесь кому угодно, хоть черту! – проговорил Кузнецов, уже не удерживаясь на прежнем тоне. – Сейчас же вниз, к расчетам! Быстро кормить батарею!
– Мною, товарищ лейтенант, не больно командуйте. Я не боец из вашего взвода… Дроздовскому я подчиняюсь. Комбату, а не вам. Доппаек свой – пожалуйста, можете получить, я не возражаю, а чтобы обзывать и шуметь – я тоже гордый и устав знаю. Семенухин! – по-строевому зычно позвал Скорик повара. – Выдать доппаек лейтенанту!
– Я сказал – вниз, кормить батарею! Поняли? Или нет? – вскипел Кузнецов. – Быстро, вы… знаток устава!
– Вы на меня не очень чтобы шумите! Комбата я обязан сперва накормить. Энпэ где?
– Вниз, я сказал! Там все узнаете! И кухню вниз. Спуск возле моста. Лейтенант Давлатян! Покажите ему, где батарея. А то опять на сутки заблудится!
И, увидев, как старшина, исполненный непоколебимого достоинства, последовал за Давлатяном к обрыву берега, Кузнецов вернулся к орудиям, сел на разведенную станину, пытаясь успокоиться. После многочасовой работы на огневых зудяще ныли мускулы плеч и рук, ломило шею, горели мозоли на ладонях; ознобным покалыванием пробегали мурашки по отделявшейся, мнилось, коже спины, и не хотелось двигаться.
«Заболеваю я, что ли?» – подумал Кузнецов и, найдя под станиной котелок с водой, принесенной Чибисовым из проруби, вожделенно поднял его к губам.
В пахнущей железом речной воде плавали невидимые льдинки, тоненькими иголочками позванивали о край котелка, смутно напоминая далекое, детское, новогоднее: ласковейший звон серебряных игрушек, нежное шуршание мишуры на елке, самый лучший зимний праздник в запахе хвои и мандаринов, среди зажженных свечей в теплой комнате… Кузнецов пил долго, и, когда ледяная вода ожгла грудь холодом, он, внушая себе, подумал: сейчас эта вялость пройдет, и все станет ясным, реальным.
По-прежнему широко высвечивали небо зарева впереди над степью. Черным по красному виднелись низкие крыши, встывшие в этот свет ветлы затаенно-тихой станицы. Забеляя наваленные комья земли, вилась по брустверу поземка.
– Товарищ лейтенант!.. – прозвучал рядом голос Касымова.
Он оторвал взгляд от зарева, посмотрел на подошедшего Касымова; тот присел на станину, карабин поставил меж ног. Его безусое, отполированное природной смуглотой лицо было сумрачным в зловещем разливе далекого огня.
– Не знаю, как сделал… Зачем людей так обижает? Не любит он батарея. Чужой совсем. Равнодушный.
– Правильно сделали, – сказал Кузнецов. – И не думайте об этом. Идите к кухне, поужинайте. Я посижу здесь.
– Нет. – Касымов покачал головой. – Два часа пост стою. Терпеть можно. Южный Казахстан тоже снег бывает. Большой снег на горах. Не замерз.
– Наверно, там – другой снег? – почему-то спросил Кузнецов, которому захотелось вдруг представить солнечную, покойную, счастливую жизнь в таком далеком, сказочном, как по ту сторону мира, Южном Казахстане, где не могло быть этого жестокого, цепенящего мороза, неустанно шелестящей поземки по брустверу, этой сцементированной холодами земли, этих огромных полыхающих зарев по горизонту. – Тепло у вас? Солнце? – опять спросил он, зная, что Касымов подтвердит эту далекую, но существующую где-то в мире радость.
– Совсем тепло. Солнце. Степь. Горы, – заговорил Касымов, застенчиво улыбаясь. – Трава весной много. Цветов. Океан зеленый. Утром, как вода, воздух… Дышать хорошо. Горные реки. Прозрачные… Рыба руками лови…
Он умолк, в задумчивости покачиваясь на станине: наверно, явственно вообразил и перенесся туда, в ту существующую на земле утреннюю душистую степь между горными хребтами, где целый день горячее солнце над зеленеющими сочными травами, буйные, горные стеклянно-прозрачные реки, кишащие рыбой в заводях.
– Солнце и горные реки, – повторил, представив то же, Кузнецов. – Хотел бы посмотреть.
– Назад не вернулся бы, влюбился бы в горы, – сказал Касымов. – Богатый природа. Народ добрый… За свой природа умереть могу. Думал в начале война – неужели немец придет? В армию очень спешил. В военкомат говорю: записывай, воевать буду… А ты Москва жил?
– Да, в Замоскворечье, – ответил Кузнецов и при этом слове так ярко представил себе тихие с птичками переулки, разросшиеся столетние липы во дворах под окнами, голубые апрельские сумерки с первыми нежнейшими звездами над антеннами посреди теплого городского заката, с запоздалым стуком волейбольного мяча из-за заборов, с прыгающим светом велосипедных фонариков по мостовым, – так четко увидел все это, что задохнулся от приливших воспоминаний, вслух сказал: – Наш весь класс ушел в сорок первом…
– Дома кто остался?
– Мама и сестра.
– Отец нет?
– Отец простудился на строительстве в Магнитогорске и умер. Он инженером был.
– Ай, плохо, когда отец нет! А у меня отец, мать, четыре сестры. Большой семья был. Кушать садились – целый взвод. Война кончим – в гости приглашаю тебя, лейтенант. Понравится наша природа. У нас совсем останешься.
– Нет, ни на что я свое Замоскворечье не променяю, Касымов, – возразил Кузнецов. – Знаешь, сидишь зимним вечером, в комнате тепло, голландка топится, снег падает за окном, а ты читаешь под лампой, а мама на кухне что-то делает…
– Хорошо, – покачал головой Касымов мечтательно. – Хорошо, когда семья добрый.
Замолчали. Впереди и справа орудии приглушенно скрипели, скоблили по-мышиному лопаты зарывающейся пехоты. Там уже никто не ходил по степи, и не доносилось ни единого звука соседних батарей.
Только снизу, из впадины реки, где в береговом откосе первая батарея отрывала для расчетов землянки, долетали порой скомканные голоса солдат и еле уловимое слухом позвякивание котелков. А за рекой на той стороне, где-то в глубине северобережной части станицы, одиноко буксовала машина, и все это как бы впитывалось, поглощалось огромно разросшимся безмолвием, идущим с юга по степи.
– Тишина странная… – сказал Кузнецов. – С сорок первого года не люблю такую тишину.
– Почему не стреляют? Тихо идет сюда немец?
– Да, не стреляют.
Кузнецов встал, разогнув натруженную спину, и тотчас вспомнил о котелке с водой. Пить ему больше не хотелось, хотя по-прежнему сохло во рту; он сильно прозяб на обдуваемой береговой высоте, остыло насквозь влажное белье, и началась мелкая внутренняя дрожь. «Обессилел я так? Или промерз? Водкой бы согреться!» – подумал Кузнецов и по мерзло-хрустящим комьям земли пошел к откосу, где вырублены были ступени вниз.
Распространяя теплый запах горохового концентрата, кухня стояла прямо на льду реки; и тлел пунцово и мирно жарок под раскрытым котлом, который обволакивался паром. Гремел черпак о котелки. Сливаясь в темную массу, толпились вокруг кухни расчеты, обступив работающего повара; переговаривались недовольные и подобревшие, разогретые водкой голоса солдат:
– Опять суп-пюре гороховый, конь полосатый! Другого не придумал!
– Ну, подсыпь, подсыпь – о жене задумался! Почему, братцы, все повара жадные?
– Задушил горохом! Не знаешь, какие случаи от гороху бывают?
– На вредном производстве молоком поить надо.
– Не балабоньте, язык без костей… Еще по-умному сообразил – молоком, – на все стороны огрызался повар. – Зачем упрекаете? Я, что ль, вам корова?
Кузнецов вдохнул вместе с чистой морозной свежестью речного льда запах подгорелого супа – и его замутило. Он свернул – мимо кухни – в темень высокого откоса, натыкаясь на разбросанные по берегу лопаты и кирки. Вскоре впереди проблеснула вертикальная щель света – оттуда пробивались говор, смех. Он нащупал рукой, отбросил брезентовый полог, вошел в запах сырой глины и опять же еды.
В землянке, вырытой на полный рост, с шипеньем брызгая белым пламенем, светила поставленная на дно ведра снарядная гильза, заправленная бензином; на разостланном брезенте дымились котелки с супом, расставлены рядком кружки с водкой. Головами к огню лежали здесь лейтенант Давлатян, сержант Нечаев и, подобрав колени под полушубок, немного боком сидела Зоя, грызла сухарь, осторожно рассматривала какой-то альбомчик, аккуратно маленький, обтянутый черной замшей, с круглой золотистой кнопочкой, альбомчик-портмоне.
– Кузнецов!.. Наконец-то!.. – воскликнул раскрасневшийся от еды Давлатян; он словно бы похудел лицом за ночные часы утомительной земляной работы, а глаза и острый носик его блестели, как у мышки, глядевшей на огонь. – Где ты пропадал? Садись с нами! Вот твой котелок. Твой заботливый Чибисов принес!
– Спасибо, – ответил Кузнецов и, поправив воротник шинели, полулег возле подвинувшегося Давлатяна; после темноты на брызжущее пламя бензина больно было смотреть. – Где свободная кружка?
– Из любой, – сказал Нечаев и подмигнул карим глазом Зое. – Все в полном здравии, как штыки.
– Вот моя, Кузнецов, – предложил Давлатян и, тоже глянув на Зою, подал тоненькими, измазанными в земле пальцами кружку, наполненную водкой. – Мне сейчас не хочется что-то, знаешь. Потом наверняка разбавленная водка, какой-то ерундой пахнет. Даже керосином, кажется.
– Точно, – сказал Нечаев с шевельнувшейся ухмылкой под усиками. – Смесь. Вода с разбавленным одеколоном. Только для девушек.
Стараясь сдержать дрожь в руке, Кузнецов пригубил кружку, почувствовал ее запах, но, перебарывая себя, подумал, что сейчас озноб пройдет, зажжется в теле облегчающее тепло, и натянуто сказал:
– Ну что ж… Смерть немецким оккупантам!
Уже насилуя себя, выпил отдающую сивухой, ржавым железом жгучую жидкость и закашлялся. Он ненавидел водку, никак не мог привыкнуть к ней, к этой каждодневной фронтовой порции.
– Ужасная бурда! – воскликнул Давлатян. – Невозможно пить. Самоубийство! Я же говорил…
– Суп-пюре для закуски, товарищ лейтенант. – Нечаев усмехнулся, пододвинул котелок. – Бывает. Не в то горло пошло.
– Видимо, – почти неслышно ответил Кузнецов, но к котелку не притронулся, взял с брезента осколочек ржаного сухаря и, прислонясь к стене спиной, стал жевать.
– Скажите, Нечаев, – не подымая головы, сказала Зоя. – Где вы взяли этот альбом? Зачем он вам? Ужасный альбом…
«Почему она здесь, а не с Дроздовским? – подумал Кузнецов, как бы отдаленно вслушиваясь в голос Зои, чувствуя разлившееся в животе тепло. – Непонятно все это».
– Не верите вы мне никак, Зоечка, хоть вешайся от недоверия. Думаете, я бульварный пижон. Клешник-трепач? – с веселой убедительностью произнес Нечаев. – Разрешите данные представить. Выменял на формировке за пачку табаку у одного фронтовика. Тот говорил: у убитой немки под Воронежем в штабной машине взял. Любопытно все-таки. Для интереса сохранил. Не немка, а царь-баба была. Вы посмотрите дальше.
– Странно, – сказала она, задумчиво листая альбомчик. – Очень странно…
– Что же странно, Зоечка? – Нечаев придвинулся на локтях ближе к Зое. – Любопытно очень.
– Какая красивая немка! Лицо, фигура… Вот здесь, в купальнике. У нее был какой-то чин? – проговорила Зоя, разглядывая фотографии. – Смотрите, как она гордо носила форму. Как в корсет затягивалась.
– Эсэсовка, – подтвердил Нечаев. – Выправка – грудь вперед! Вот это грудь, Зоечка.
– Вам что, нравится?
– Не так чтоб очень. Но ничего. Экземпляр.
Лейтенант Давлатян с выступившими яркими пятнами на щеках, выгибая шею, скашивал сливовые свои глаза в альбом. Кузнецов же, отклонясь к стене, из тени смотрел на Зою, на ее освещенное пламенем бензина наклоненное лицо и с необъяснимым напряжением памяти отыскивал в длинных полосках ее бровей, в ее опущенных глазах, в этом обтянутом замшей альбомчике что-то неуловимо знакомое, бывшее когда-то, где он видел ее, Зою, в неправдоподобно теплой тишине, в часы вечернего снегопада за окном, в уютно натопленном на ночь доме, за столом, покрытым к празднику чистой белой скатертью; раскрытый семейный альбом на скатерти, и чьи-то милые лица освещены настольной лампой, а позади, за светом – бархатный полумрак комнаты, пахнущий вымытым полом, с темным прямоугольником старого трюмо, с поблескивающими в таинственной глубине его никелированными шарами на высокой спинке старомодной кровати. Но никелированная кровать и это старинное трюмо были в московской квартире на Пятницкой, и он мог видеть так близко, так покойно и родственно только мать или сестру и никогда не мог видеть в той комнате наклоненное лицо Зои за столом рядом с сестрой и матерью, рядом с тем роскошным и смешным, пожелтевшим от времени столетним трюмо, единственной гордостью матери и памятью об отце – это трюмо в день свадьбы купил он, кажется, у какого-то нэпмана, чрезвычайно довольный своим роскошным подарком…
– Видно, она из богатой семьи. Как вы думаете, Кузнецов? Что вы притихли?
– Нет, я не притих. – Кузнецов стряхнул мягкую дремоту оцепенения; Зоя смотрела на него с вопросительной улыбкой. – Вы… о немке?.. – спросил он.
– Да.
Эти фотографии убитой немки он видел раньше: в эшелоне альбомчик ходил по рукам; от нечего делать Нечаев показывал его всему взводу. И сейчас, услышав вопрос Зои, Кузнецов без особого интереса взглянул на фотографии. Молодая белокурая немка в облитом по талии мундире смеялась в объектив, вызывающе счастливая в окружении улыбающейся семьи, полукругом рассевшейся в плетеных креслах за низким столиком, среди сказочно яркой зеленой лужайки перед чистым, аккуратным дачным домиком. На другой фотографии – золотистый пляж, слепяще-снежные в морской сини паруса яхт, на берегу белые тенты, и шоколадно-загорелая немка в купальнике стоит картинно и гордо, обняв за плечи свою подругу с кукольно-нежным личиком, в накинутом на голое тело цветном халатике, с распущенными по плечам пышными волосами. Потом множество напряженных и строгих женских лиц, множество обтянутых по выпирающим грудям мундиров на фоне казарменного здания. Затем еще одна фотография на море: надутый парус накренившейся яхты, влажные от брызг сильные бедра этой белокурой немки, мужественно подтягивающей снасть над головой пышноволосой подруги, испуганно обнявшей ее полные ноги под брызгами вздыбленной волны.
– Эта беленькая… наверно, нравилась мужчинам, – сказала Зоя, не подымая глаз. – Все-таки красива… А вам нравится она, Давлатян?
Лейтенант Давлатян, занятый супом, не ожидая вопроса, сделал торопливый глоток и проговорил сердито:
– Ужасно недосаливает суп наш уважаемый повар. В горло не лезет. Подавиться можно… Отвратительное лицо! – заявил он, скользнув краешком глаза по фотографии. – Что здесь может нравиться? Эсэсовка и дурища наверняка. Улыбается, как кошка. Ненавижу эти фашистские морды! Как она может улыбаться?
«Да, он прав, – подумал Кузнецов. – Почему у меня тоже, когда вижу что-нибудь из Германии, сразу подкатывает что-то к горлу?»
– Насчет вкусов не спорят, Зоечка! – сказал, захохотав, Нечаев. – Тут я выдрал в конце. Посмотрели бы, что у нее за картинки были – умереть можно! Разный разврат. Особенно женский. Знаете, такая поэтесса Сафо была? В Риме…
– Ну и что? – Зоя удивленно повела на него длинными бровями. – Только не в Риме, а в Греции. И что же?
– Вы опять начинаете? О каком таком разврате вы говорите Зое, Нечаев? – краснея, одернул Давлатян. – У вас бзик какой-то! Или вы лишних сто граммов выпили?
– Сто свои, товарищ лейтенант. Трезв, как молодая монашка.
– Давлатян, вы меня защищаете? – сказала Зоя ласково и положила ладонь ему на плечо, тихонько погладила. – Какой вы чудесный мальчик! Ни о чем не знаете?.. А я уже видела эту гадость в одном немецком блиндаже под Харьковом… Когда вырывались из окружения. Оклеен был весь блиндаж.
Давлатян в растерянности вывернул плечо из-под ее снисходительно и нежно гладящих пальцев и, взъерошенный, проговорил:
– Оставьте, пожалуйста, товарищ санинструктор, свои неуместные замечания! Я не мальчик. И не гладьте меня, пожалуйста. Я не люблю…
– Ну, хорошо, хорошо. Не буду.
«Нет, он действительно прекрасный парень, этот Давлатян, – подумал Кузнецов, чувствуя благостно разлившееся по всему телу тепло выпитой водки и не вступая в разговор. – Он всегда мне нравился».
– Зоечка! – сказал Нечаев и, играя улыбкой, снял шапку, наклонил ладную, красивую черноволосую голову. – У лейтенанта Давлатяна невеста, а я один как перст. И мама во Владивостоке. Холостяк. Погладьте, буду терпеть. Я люблю это терпеть.
– Бессмысленно, Нечаев, – шутливо ответила Зоя, пожимая плечами. – Ну, что это вам даст? Вы все не так поймете. Потом во Владивостоке вы были в окружении королев-балерин… Нет, неужели, Давлатян, у вас невеста? – спросила она ласково. – А я не знала…








