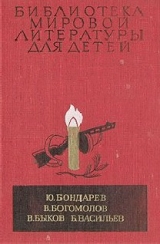
Текст книги "Повести"
Автор книги: Борис Васильев
Соавторы: Владимир Богомолов,Василь Быков,Юрий Бондарев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 42 страниц)
Дроздовский, оправляя портупею со сбитой назад кобурой, стоял между раненым разведчиком и немцем, в нерешительности взглядывал то на одного, то на другого; в неживом полусвете бледное, взволнованное лицо его выражало нетерпение.
При виде Кузнецова, спустившегося на дно воронки, он шагнул к нему, спросил требовательно:
– Где разведчик? Их должно быть двое с немцем, как я понял! Где второй?
– Кто может сказать – где! Искали вокруг воронки, но не нашли, – ответил Кузнецов, обращаясь не к Дроздовскому, а к Уханову, который, сидя близ немца, с углубленным старанием оттирал рукавом ватника изморозь с затвора автомата. – Думаю, к немцам не ушел! Пополз, наверное, к нам, но сил не хватило. Или застрял на полпути. Или дополз до окопов боевого охранения. Одно из двух.
– Надо искать! Обязательно искать! – с придыханием выговорил Дроздовский. – И найти его, Кузнецов! Я связался по рации с капэ дивизии и доложил, что мы идем сюда. За ними. Так вот что мне приказали: как только вынесем, не медля ни секунды доставить обоих на капэ. Вместе с «языком». К начальнику разведки! Да, искать, Кузнецов… Во что бы то ни стало! Пока не найдем второго, мы не имеем права уходить отсюда!
– Надо не здесь искать, а всех уводить отсюда! Пока не рассвело! Пока мы всех до одного не оставили в этой ловушке! – перебил его Кузнецов. – Не ясно разве, от воронки двести метров до немцев! Все и без бинокля просматривается из станицы. Как только затихнет, всем быстро назад – к двум бронетранспортерам – и перебежками за танками – к орудию! Здесь надо было раньше искать, а не бегать дуриком по степи! Двух бронетранспортеров найти не могли!
– Согласен, лейтенант, – спокойно сказал Уханов, очищая рукавом затвор автомата.
Кузнецов намекал на ошибку Дроздовского, на то, что он со связистами запоздало пришел сюда, отклонился в сторону от бронетранспортеров и, таким образом, некстати вызван был огонь немцев, устроена никому не нужная кутерьма в тот момент, когда надо было выносить разведчика.
Дроздовский с минуту безмолвно покусывал губы, затем произнес с непрекословной убежденностью:
– Пока я жив, я отвечаю за батарею! Отвечаю я, Кузнецов. В том числе и за твою жизнь…
– Вот даже как! Нет, не за меня, комбат! Как-нибудь отвечу за себя и своих сам, если повезет!.. – несдержанно ответил Кузнецов и сразу осекся. Он не хотел продолжать разговор в присутствии Зои и связистов, не хотел проявлять при них открытую свою неприязнь к Дроздовскому – Прекратим на этом, комбат! – сказал он. – Говоришь, искать?
Крупнокалиберный пулемет на окраине станицы методичным огнем прошивал, сек пустынную степь левее воронки, и густой свист пуль не отдалялся, а будто застыл на месте, не сдвигаясь в найденном секторе.
– Значит, комбат, хочешь, чтоб мы искали? – повторил Кузнецов.
Связисты с тревогой поворачивали к нему головы, и, оторвав от коленей костяное, в сизых пятнах обморожения лицо, настороженно и исподлобья вникал в звуки его слов пленный немец, и Зоя поднялась, с беспомощным вопросом в округленных бровях глядела сплошь темными под белой шапкой глазами.
«Что она так всматривается в меня?» – подумал Кузнецов, отворачиваясь.
– Ну, так решено! – с непонятным противоестественным спокойствием проговорил Кузнецов. – Я останусь здесь с Рубиным. Еще раз осмотрим местность. А вы, как только стихнет, к черту, к черту отсюда! Уханов, поведешь их! А то опять заплутаются в трех соснах!
«Сумасшествие какое-то, безумие какое-то, – подумал он, внутренне трезво сознавая непоследовательность в своих решениях. – Что со мной происходит? Я перестал владеть собой? Я знаю, что бессмысленно искать разведчика, но соглашаюсь, сам хочу сделать это?..»
– Да, искать. Отдайте, Кузнецов, приказ Рубину тщательно осмотреть местность. А мы подождем!
Дроздовский нервно подергал ремень на своей узко-девичьей талии, отошел в сторону и долго стоял на скате, прямой, непроницаемый, опасный, как бы непогрешимый в приказах, в непоколебимом упорстве. Сказал:
– Не мог второй разведчик далеко уйти. Мы не имеем права докладывать в дивизию, что оставили его, не имеем права уходить без него! Возьмите с собой еще связистов, Кузнецов!
– Лишнее, – ответил Кузнецов. – Хватит нас двоих! На кой черт вчетвером будем немцам глаза мозолить?
– Комбат…
Зоя осторожными шагами прошла так близко мимо Кузнецова, что задела полой полушубка его шинель, стала перед Дроздовским, заговорила тихим, просительным голосом:
– Надо уносить хотя бы этого разведчика, с ним очень плохо. Он обморожен, большая потеря крови. Не знаю, найдем ли мы в живых второго, но надо этого…
– Встать, сапог фрицевский! – скомандовал Уханов и сильным толчком руки поднял немца с земли, по-медвежьи встал сам, закинул автомат за плечо. – Давай потопчись, попляши, сволочь, пошевели ногами, а то окочуришься раньше времени! Двигай, двигай, как молодой!
Он резко потолкал, поводил по дну воронки немца и вдруг, отпустив его, косолапо загребая валенками, всей грузной фигурой придвинулся к Дроздовскому, слегка отстранив Зою, но при этом с добродушной ленцой заулыбался, выказывая стальной зуб.
– Ты о себе всю правду знаешь, комбат? Никогда об этом не думал? А ну-ка, Зоя, отойди, умоляю, а то застесняюсь…
– Уханов… Уханов! – Она не отходила, а, чуть выставив грудь, почему-то с испугом заслонила Дроздовского своей тоненькой, напрягшейся фигуркой, защищающе отстраняя глазами Уханова. – Что вы хотите? Зачем?
– Отойди, Зоечка. Что я могу с ним сделать? Смысл? Не вижу. Я сержант, он лейтенант. А уставы мы с комбатом назубок еще в училище вызубрили. Так вот…
Уханов тихонько отодвинул ее и тут же, наклонясь к прямому, как у гимнаста, плечу Дроздовского, сказал ему что-то неуловимо и кратко, потом добавил отчетливее:
– …А если тебе начхать на всех, кто остался из твоей батареи, то все равно головкой, головкой, а не задним местом соображай. И тогда докладывай в дивизию по-умному.
– Что ты сказал?.. – Дроздовский, некрасиво искривив лицо, порывисто, едва не упав на крутом скате, отклонился назад, повторяя пронзительным голосом: – Как ты сказа-ал?
– Тихо, тихо, комбат! – успокоил, улыбаясь одними глазами, Уханов. – Мы сейчас можем по душам поговорить. Не строевые занятия в училище. До Бога – очень близко. Всевышний – свидетель. И никакого нарушения устава. Твой приказ не обсуждают. Но просто знай, что я думаю о тебе, комбат. На ус намотай, когда-нибудь пригодится!..
– Перестань, Уханов! Хватит! – с решимостью вмешался Кузнецов и, подойдя, дернул за ремень Уханова. – Хватит перед немцем!.. Посмотри-ка на него. Что с фрицем – с ума сходит?
Дроздовский стоял, вытянувшись, с побелевшим, истончившимся до худобы лицом. А немец, как заведенный, замедленно и тупо покачивался на одном месте, перебирая меховыми сапогами, неистово бил себя кулаками по толстым предплечьям, а его вслушивающиеся глаза, ловя звуки чужой речи, становились дикими, остекленелыми, перебегали с Уханова на Кузнецова, решив, очевидно, что речь между ними шла о нем, о его судьбе, и, как в сердечном приступе, широко разевая рот, дышал все убыстренной, но неожиданно шатнулся вбок, подкошенно повалился в снег, выхрипывая какие-то нечленораздельные слова, из которых можно было понять только: «Рус, швайн, их штербе, эс ист кальт». [7]
[Закрыть]
– Симулирует, гад! – определил Уханов. – В плен не хочет. Ошалел от холода. Что он, Кузнецов, сказал – швайн?
– Встать! – приказал Кузнецов и сделал знак немцу стволом автомата. – Штейт ауф! Шевелись! Штейт ауф, ну! Двигайся!
Немец не вставал, конвульсивно поджимая к подбородку колени, он яростно хрипел из торчмя поднятого меха воротника, и тут Уханов, вроде бы удивленно примеряясь, двинулся к нему, взял его за шиворот и с такой озлобленностью дернул вверх, что затрещал воротник, а когда затряс его, приговаривая: «Я тебе покажу "швайн"! – немец закричал мутным, предсмертным голосом. И, как тисками обхватив его, Уханов рукавицей зажал ему рот, а немец по-дурному замычал, извиваясь в его руках.
– Ах ты, гитлеровская морда! Забудешь, что такое «швайн»! Ты у меня папу-маму забудешь!
– Уханов, отпустите его! Вы же задушите его!.. Что вы делаете, мальчики? Мальчики, родненькие!.. – в растерянности, едва не плача, говорила Зоя, поворачиваясь то к одному, то другому. – Почему вы такие злые? Я вас не узнаю, мальчики… – Она повернулась к Дроздовскому, умоляюще схватила его за рукав шинели: – Володя, хоть ты запрети!
– Уйди-и! Что ты вмешиваешься?.. – Он сорвал ее пальцы со своего рукава и отступил на шаг, презрительным оскалом забелели его зубы. – Ненавижу, когда вмешиваются фронтовые… Вон Кузнецова лучше успокой! Он добренький, и ты добренькая!.. Оба Иисусы Христовы! Только пусть все твои мальчики знают, особенно Кузнецов, ни с кем из них спать не будешь! Не надейся, сестра милосердия! После боя уйдешь из батареи в медсанбат! Ни дня в батарее не останешься! Немедленно уйдешь!
Его лицо, измененное гадливой гримасой, стало некрасиво отталкивающим, он отступил еще на шаг и, с злой непреклонностью качнув плечами, так поспешно зашагал вверх по скату, что из-под ног его покатились комья земли.
На самом краю воронки он остановился, постоял несколько секунд и, вырывая пистолет из кобуры, срывающимся голосом прокричал команду:
– Связисты! Взять пленного немца и бегом за мной!
И, не дожидаясь никого, вскарабкался на земляные навалы, исчез за ними в темноте.
Громкая команда Дроздовского сверху прозвучала неумолимо ясно, и связисты вскочили разом, бочком обходя Кузнецова и Уханова, ткнулись неуклюже к немцу, вытянув руки, как если бы с двух сторон зайца ловили.
– Назад, – решительно остановил их Кузнецов, загородив немца. – Взять разведчика – и наверх, за Дроздовским! Немца поведет Уханов! Взять раненого разведчика! – И для убедительности подтолкнул обоих связистов к разведчику. – Вот его не донесете – ответите головой! Зоя!
Он должен был ей сказать, что она пойдет рядом с Ухановым, что именно с ним безопаснее будет идти назад к орудию, но наткнулся на ее взгляд – и замолчал. Она не замечала его, не слышала, хотя смотрела на него, теребя варежку на пальцах, а глаза были сухи, нестерпимо огромны, брови изумленно выгнуты, точно она прислушивалась к незнакомой боли в себе, еще не зная, где появилась эта боль.
– Фриц, знаешь, что такое стометровка? Посмотрю, как ты…
Уханов вывел немца на скат и пощелкивал ремнем автомата, поигрывая им, но не говорил Зое ничего, не торопил ее, ожидая.
– Зоя, – выговорил Кузнецов с хрипотцой, – тебе надо идти. Пока тихо. Надо идти. Вместе с Ухановым пойдешь! Слышишь?
– Да, я иду, я сейчас иду. – Зоя, вздрогнув, низко наклонила лицо, пряча его в воротнике полушубка, заговорила со связистами излишне бодро, присев к разведчику: – Пожалуйста, несите осторожно, левая нога ранена. Не сжимайте ее. Пожалуйста, мальчики…
Связисты подняли разведчика и щупающими движениями перехватывали его тело поудобней.
– Вперед, – сказал Кузнецов. – Я догоню вас с Рубиным, если успею…
– Ради Бога, не попадись к немцам… оставайся жив. Догоняй нас, кузнечик, – попросила Зоя, как-то незащищенно и слабо улыбнувшись ему из-за плеча, и он многое отдал бы, чтобы не видеть этой ее насильственной улыбки.
– Ну, фриц, покажи геройство, под руки пойдем. Шпрехен, швайн? [8]
[Закрыть]– сказал Уханов, с угрозой притискивая к себе немца. – Покеда, лейтенант.
– Вперед, Уханов. Осторожней там.
Кузнецов проводил их до края воронки и лег рядом с Рубиным, следя за ними до тех пор, пока не исчезли они за силуэтами двух бронетранспортеров.
Глава двадцать третья
– Вы все внимательно осмотрели, Рубин?
– Почему не верите, товарищ лейтенант? Все оползал на брюхе вокруг воронки. Всю шинель извозил. Замело небось его поземкой, ежели убило. Где искать?
– Ясно, Рубин. Пока молчат, осмотрим еще раз в стороне балки. Возможно, когда выполз, потерял ориентировку, двинул в обратном направлении. Хотя трудно и это представить. По ракетам мог понять, где наши.
– С балкой поосторожней бы. И немцы тут погуливать могут, коль не дрыхнут. Тьфу, напасть! Засыпаю я прямо на ходу, товарищ лейтенант. Наплывает на меня что-то. Сам в холоде, а на веках ровно гири.
– Разотрите снегом лицо. Потрите сильнее.
– Уж без удержу тру Всю рожу как рашпилем надрал, товарищ лейтенант. Сутки не спамши. Часа два прикорнул за ночь.
Они лежали на краю опустевшей воронки, а вокруг уже поредел и побелел в степи воздух; густая тишина сломленной к утру декабрьской ночи наплывала, на обоих застылой неподвижностью непреоборимого сонного часа. И, постепенно охватываемый обманчивостью растворяющего безмолвия, предрассветного покоя, сладкой тяжестью окутывающего мозг, Кузнецов почувствовал, что сознание против воли перестает сопротивляться этой успокаивающей расслабленности в измерзшемся теле – и испугался темного мгновенного забытья.
– Пошли к балке, Рубин! – Он встал и, встав, понял, что не сможет сделать и пяти шагов – после всей бессонной ночи отпустившее вдруг нервное напряжение отстранило опасность, окунуло его в теплый туман секундной дремы. – Пошли! – повторил Кузнецов упрямее и громче и, чтобы как-нибудь вернуть недавнее ощущение реальности, подвигал в перчатках тронутыми обмороженными пальцами, поколотил ими о приклад автомата. – Пошли, пошли! – в третий раз сказал он, звуком своего голоса убеждая самого себя и Рубина в том, что идти им так или иначе придется, что они должны идти к этому краю балки.
– Сейчас я, лейтенант… – Рубин, через силу отрывая квадратное тело от земли, наконец поднявшись на ноги, заглянул в лицо Кузнецову, криво усмехаясь. – Не поимей обиду, лейтенант, на ветру ты шатаешься, а двужильный… Вроде ты завинченный. Над душой насильничаешь? Или себе доказать чего хочешь, лейтенант?..
– Пошли! Ерунду говорите. Рубин, ерунду. Пошли. Да, пошли. Надо идти, нельзя ждать. Надо идти.
– Не поимей обиду, лейтенант. Иду я…
Снег проваливался под их ногами, и Кузнецов, шагая, слышал неотступное сопение Рубина за плечом и похрустывание снежного наста под его валенками и, глядя в холодную пустынность затихшей ночи, подумал, что все, что он делает сейчас, делает не он, а кто-то другой, и он сам и Рубин выполняют эти приказы в необходимом обоим успокоении. И в длинных, волнообразных переливах поземки по степи, в покачивающейся перед глазами тихой пустынности не подсвечиваемого ракетами снега было тоже смутное успокоение, счастливое, короткое безмолвие давно свершившегося и теперь ушедшего – и теплая, вязкая пелена наплывала, обнимала его мягко. Но в эту кротость отдыха, в мягкую скорлупу забытья проклевывалось солнце, металось беспокойно в стороне и потом расплавлялось, горело золотистыми искорками, поблескивало сквозь липы в голубых лужах после летнего дождя в каком-то далеком и милом переулке, – что это был за переулок? – и чьи-то брови, похожие на выгнутые полоски, на знакомом лице, и чей-то голос звучал в солнечном утре: «Кузнечик, родненький!.. Ты знаешь, куда идем? Над душой насильничаешь?» – «Какой я кузнечик? Что это за детское, игрушечное слово?.. Нет, куда мы идем? Куда мы так долго идем? Куда?»
И Кузнецов очнулся, раскрыл глаза. Вокруг – тишина, снег и хруст шагов в ушах…
Он огляделся в испуге, вблизи услышав равномерное движение Рубина, ужасаясь дремотному беспамятству, и остановился.
Рубин тоже остановился. Переглядываясь, они молчали. Рубин свистяще дышал.
– Рубин, – еле ворочая языком, проговорил Кузнецов, – идите метрах в десяти правее. Там смотрите, а то…
Он не уточнил, что значит «а то», оно означало ясное обоим: «А то придем в траншеи к немцам».
– Не соображаем мы в дреме ничего, товарищ лейтенант, – покорно произнес Рубин и, утопая ногами в сугробах, зашагал вправо от него, а Кузнецов, снова боясь забыться, стараясь не терять ощущение опасности, отрезвившее его, подумал: «Почему он сказал, насильничаешь над душой? Да, да. Рубин, больше всего боюсь показаться слабым, больше всего перед тобой и перед другими боюсь показаться слабым, и все делаю не я, а кто-то другой, а я не знаю, кто этот другой во мне. Я не знаю его и не хочу знать, пусть будет так!.. Рубин, пойми меня, я тоже ничего сейчас не соображаю, но мы дойдем до балки и успокоимся – сделали все… Хотя я уверен, что это совсем бессмысленно! И поэтому понимаю, что виноват перед тобою. Рубин!..»
Сухие строчки просекли за спиной тишину ночи – и эти звуки качнули Кузнецова вперед. И еще в зыбком полусне, в полуяви он моментально определил, что стреляли сзади, и с первой мыслью, что незаметно прошли боевое охранение немцев, он, толчком инстинкта брошенный на землю, сдернул с шеи ремень автомата, крича:
– Рубин, назад!
Но тут же увидел: Рубин со всех ног бежал к нему от края балки.
– Лейтенант, лейтенант, наши что-то!.. Глянь! Назад погляди!..
– Рубин, туда… за мной! – скомандовал Кузнецов, уже слыша разрозненное шитье автоматов позади, звонко грохнувшие там один за другим разрывы гранат; он кинулся назад, к воронке, в направлении двух бронетранспортеров, куда ушла группа Дроздовского, на бегу соображая: «Что они? Напоролись на немцев? Неужели не смогли пройти?»
Потом из-за спины с окраины станицы гулко и грубо задудукал, всколыхнул степь крупнокалиберный пулемет – вся степь ожила огнями, торопливо расширялась и суживалась, выскакивали над самой головой светы, расталкивали, раздвигали темноту неба, и вкось скакали перед Кузнецовым и Рубиным собственные тени, на которые бежали они, наступали и которые бестелесным скольжением уходили от них.
– Рубин, к бронетранспортерам, правее! – выкрикнул Кузнецов, заметив бомбовую воронку и справа затемневшие бронетранспортеры, где пунктирно просекалась выстрелами поземка.
Опять с рассыпчатым аханьем лопнули разрывы гранат впереди, заспешил тонкий клекот смешанных очередей, и Кузнецов, задыхаясь, подбежав к бронетранспортеру, увидел отсюда все.
Какие-то люди цепочкой отбегали от подбитых немецких танков к двум гусеничным машинам на бугре, до деталей выпукло освещенным ракетами, а в пространстве за подбитыми бронетранспортерами, близ кладбища немецких танков в низине, темнели, ползали по снегу несколько человеческих фигур, и оттуда басовито частили наши автоматы по двум машинам, по отбегающим к ним немцам. Одна машина, с повисшими на бортах телами, заработала мотором, тронулась с места, начала разворачиваться, поползла с бугра; другая по-прежнему стояла, и от нее лихорадочно отделялись вспышки – немцы простреливали автоматным огнем низину.
– Рубин! По машинам!.. Бей по ним! – крикнул Кузнецов, с бешеным злорадством впиваясь онемевшим пальцем в спусковой крючок – приклад автомата отдачей заколотил в плечо, и степь ослепленно качнулась в этом огне. Неимоверным усилием он остановил себя, чтобы не выпустить целый диск одной строчкой.
– Гадюки! Змеи!.. – хрипел возле плеча Рубин. – Душить вас мало, руками душить!..
– Рубин, гранаты!.. Рубин, кидай в машину!.. Быстрей!
В пламени очередей плясал сбоку багровый блеск крепких зубов Рубина, его большое, злобное лицо, опьяненное, притиснутое скулой к ложе автомата. Но в первый миг Рубин не услышал, видимо, команды, и Кузнецов, ударив его в плечо, закричал неистово и разгоряченно: «Гранаты! Гранаты!» И лишь после того срезанно оборвалась автоматная очередь – правая рука Рубина стала рвать, выворачивать карман шинели, потом, отскочив на два шага от бронетранспортера, он, скособочась, выдернул чеку, с хрипящим горловым выдохом швырнул гранату в сторону бугра. И, сразу выхватив вторую гранату, с сумасшедшим замахом бросил ее следом. Два разрыва, один за другим, красным плеснули по скату бугра – гранаты не долетели до машин.
– А-а, стервы ползучие!
Рубин, крича, хватаясь за автомат, лег рядом с Кузнецовым под гусеницы бронетранспортера, хлестнул по машинам длинными очередями. Понимая, что они оба быстро расстреляют все патроны – ни одного запасного диска не было, – Кузнецов подумал тотчас: надо продвигаться туда, к низине, где под огнем лежала в снегу группа Дроздовского, хотя и ясно уже было, что он и Рубин отвлекают на себя внимание немцев. Но одновременно с сознанием этого слух его улавливал поредевшие ответные выстрелы наших автоматов из низины. И, оторвав палец от податливой упругости спускового крючка, он приподнялся на локтях, крикнул:
– Рубин! Оставайся здесь!.. Отвлекай на себя! Я туда, к ним! Понял меня? Слышишь меня? Береги патроны, рассчитывай!.. Я к ним…
– Беги, лейтенант, быстрей. Тут я буду, – выдавил ожесточенно Рубин, и нечеловеческий оскал его лица сдвинулся, изобразил подобие улыбки. – Полежу тут!.. Еще бы пару дисков, лейтенант, я бы их, гнусняков, как клопов расклевал!
– Держи парабеллум! Полностью заряженный! – Кузнецов, вспомнив и ощутив угловатую тяжесть трофейного пистолета, выхватил его из кармана, бросил Рубину. – У меня свой «тэтэ», заряженный! Рассчитывай точно патроны, слышишь. Рубин!
Сзади, с окраины станицы, громоподобно и густо покрывая захлебывающийся лай автоматов, резал по низине крупнокалиберный пулемет, из окон левых домов заработали, заторопились еще три или четыре пулемета, трассы их проносились чуть сбоку бронетранспортеров, исчезая, зарывались в сугробы.
Падая и вставая, проваливаясь в воронки, Кузнецов пробежал метров пятьдесят в сторону низины, куда под разверзающимся светом ракет сверху стреляли от машины немцы. И вдруг все отяжелело в нем, стало свинцовым, как будто сжала дыхание непомерная настигшая тяжесть. Он несколько раз с ходу падал на колени, выпуская короткие очереди по бугру, а сердце, задохнувшись, звонкими молоточками барабанило в ушах, заглушая внешние звуки, глаза искали основания вспышек, мелькающих вокруг машины на бугре, и вместе со звонкими молоточками в ушах выстукивала в сознании одна и та же настойчивая мысль: «Почему они не уходят к танкам? Почему они не двигаются? Почему лежат под огнем? Надо вперед, вперед, за танки!»
Первый, кого увидел Кузнецов, добежав до пологого ската в низину перед сожженными немецкими танками, был Уханов. Уханов лежал за сугробом, шагах в ста пятидесяти от подножия бугра, втиснув пленного немца в снег, сверху навалясь на него грудью, бил расчетливыми очередями по одной оставшейся на бугре машине. После каждой очереди он отползал влево, к танкам, матерясь, сильными рывками подтягивал немца за собой, снова втискивал его в снег и наваливался на него.
– Уханов! К танкам, бегом! – еле смог выкрикнуть Кузнецов, вконец задохнувшись, падая с размаху на землю. – Бегом к танкам!.. Не задерживаться ни минуты! К танкам бегом!.. Уханов, слышишь?
Уханов обернул азартно-бешеное, совершенно чужое, отрешенное лицо к Кузнецову, и красно блеснул передний стальной зуб.
– Лейтенант!.. К комбату… К Зое беги! Связиста послал, да толку мало! Ранило, кажется! Давай к ним!..
– Кого ранило? Что?
– Давай к ним, лейтенант! К Зое, к Зое беги! – опять дошел до Кузнецова сорванный до неузнаваемости голос Уханова, и, вдавливая немца в снег, он припал к автомату, целясь по машине на бугре.
«Зоя? Ее ранило? Не может быть! Этого не может быть!»
С ледяным ознобом, облившим спину, не очень понимая, что делает, Кузнецов, не пригибаясь, бросился, словно на ватных ногах, к разбросанным шевелящимся телам в глубине низины. Сознавал лишь одно: там случилось то, чего он не хотел, что не имело права произойти, не должно было случиться. И с тем же неверием, с дикой злостью, уже сбежав на дно низины, он яростно оттолкнул кого-то, сутулого, наклонившегося подле сугроба, что-то непонятное делающего руками возле рта.
Неотчетливо понял, что это связист раздирал зубами индивидуальный пакет, и тогда, под скатом сугроба, увидел, как сквозь волнистую пелену, знакомый белый полушубок, белые валенки, санитарную сумку, сплошь облепленную снегом.
– Что вы здесь возитесь, черт вас возьми!
– Ранило ее… перевязку надо бы! – испуганным вскриком отозвался связист. – Да вон видите, как ее…
Зоя лежала на боку, свернувшись калачиком, зажмурясь, подтянув ноги, будто ей было холодно, руки сомкнуты на животе, маленький «вальтер» валялся около ее неподвижно круглых поджатых колен, и что-то темное, ужасающее Кузнецова, расплывалось на снегу, под нею.
Но он сначала подумал, что это ужасное и темное на снегу не было кровью, не смог представить, что это кровь Зои, что он видит ее кровь, и сейчас же попытался внушить себе, сказать себе, что ничего непоправимого не случилось, она не может быть смертельно ранена или убита и не может так пугающе страшно прижимать руки к животу.
– Зоя… Что ты, Зоя?
– Молчит она, лейтенант… Автоматной очередью ее… В живот, видать… Сперва говорила: отойдите, мол, я сама. Не дала перевязывать… А теперь ничего уж не говорит, – просочилось точно из-за тридевяти земель бормотание связиста. – Все было тихо, а когда зашли в низину, они как дадут сверху. И началось…
– Где Дроздовский? – не слыша своего голоса, беззвучно спросил Кузнецов. – Где он?
– Да не видите где? Вон, в снегу сидит… ранило тоже его. Немцы гранаты кидали.
– Где он? – шепотом повторил Кузнецов и, повернувшись, неясно различил в пяти метрах от сугроба Дроздовского, без шапки сидевшего на снегу.
Дроздовский в левой руке держал пистолет, а правую, в перчатке, то и дело прикладывал к шее и, поднося к глазам, выговаривал что-то отрывистое, невнятное. Второй связист, изогнувшись, силился поднять Дроздовского, со спины неловко охватывая его под мышки; чей-то раскаленный автомат лежал вблизи бугром сереющего маскхалата обмороженного разведчика.
Сопротивляясь связисту, вырываясь, Дроздовский заговорил горячечно, с одержимым упорством контуженого:
– Перевязку мне!.. Где Зоя? Перевязку!.. Ранило меня, пусть она перевязку! Уйди-и!..
Еще не зная зачем, механически расстегивая пудовую шинель, Кузнецов так же механически шагнул к нему; наклонясь, увидел сорванную, залитую кровью кожу ниже уха, ледяными губами проговорил:
– Дроздовский! Ты слышишь меня? На ногах можешь стоять? Ноги целы? Тебя царапнуло! Встать, встать, Дроздовский!
– Где Зоя? Где Зоя, Кузнецов? Где? Перевязку мне!..
– Встать, Дроздовский, встать!
Потом Кузнецов снял шинель, расстелил на снегу; вместе с Дроздовским они переложили сжавшуюся в комок Зою на эти носилки и так понесли. Но он не мог взглянуть на нее; его трясло, как в приступе малярии. Дроздовский шел впереди, обморочно и рыхло покачиваясь, его всегда прямые плечи были сгорблены, руки, вывернутые назад, держали край шинели; чужеродной белизной выделялся бинт на его ставшей короткой шее, бинт сползал на воротник. Иногда спина его напрягалась, и не то стон, не то какой-то мычащий кашель выдавливался из его горла – и этот странный, сдавленный звук оглушал Кузнецова разрывающей грудь болью.
Раз, когда вошли в полосу подбитых немецких танков, куда не долетали автоматные очереди, Дроздовский попросил шепотом:
– Отдохнем… не могу. Прошу тебя, Кузнецов…
Они опустили Зою на снег. И опять Кузнецов не нашел силы взглянуть на нее – острый комок спазмы не давал ему дышать. Он стоял, прижимаясь плечом к оплавленной броне немецкого танка, ноги подламывались, было желание сесть в снег, закрыть глаза, не двигаться, не думать ни о чем. Теперь ему было все равно, все потеряло цену, в одну секунду стало бессмысленным, не имеющим значения: и обмороженный разведчик, и пленный немец, и ночь после боя, и холод, и воронка перед балкой – все стало чудовищной, нечеловеческой несправедливостью, нужной лишь для того, чтобы случилось это…
«Ее ранило в живот, – в исступлении объяснял он сам себе, с тщетной логичностью восстанавливая, как могло случиться это. – А сначала, когда вошли в низину, она отстреливалась из "вальтера"? А потом?.. Но почему именно ее? Почему именно она?»
– Кузнецов…
Он, как во сне, механически взялся за край шинели и пошел, так и не решаясь посмотреть туда, перед собой, вниз, где лежала она, откуда веяло тихой, холодной, смертельной пустотой: ни голоса, ни стона, ни живого дыхания. Но нет, было еще обманчиво живым ощущение в руках тяжести ее тела на шинели, и это – все, что чувствовал он в те минуты.
Когда они донесли ее до орудия, впереди задвигалось над бруствером лицо Нечаева – со спрашивающим, дурным выражением он, выскочив из орудийного дворика навстречу им, зашагал рядом, испуганно глядя на Зою, потом долго растерянным, останавливающим взглядом обводил Дроздовского и Кузнецова, ожидая, что они объяснят, как это произошло, как случилось. Но они не говорили ни слова.
Кузнецов по-прежнему старался не смотреть на нее. Не смотрел и когда положили Зою в нишу, не помнил, кто именно посоветовал положить ее туда, чтобы поземка не заметала лицо. Он стоял, опустив к земле автомат, и не сразу расслышал далекий бесплотный голос, похожий на голос Нечаева, шепчущий ему: «Замерзли вы, товарищ лейтенант, закоченеете вы вконец». И тут увидел на бруствере ниши свою шинель с темными пятнами на полах и подумал почему-то, что никогда уже не сможет надеть на себя эту шинель со следами ее крови, со следами ее смерти.
– Зачем вы взяли мою шинель? – шепотом выдавил Кузнецов. – Оставьте ее в нише…
– Дрожите вы ведь в ватнике, товарищ лейтенант… – тоже шепотом отозвался сбоку Нечаев. – Как же Зою, а? Как же ее?
Кузнецова била крупная дрожь, у него выстукивали дробь зубы, заледенело все тело, и не отпускало желание сесть, зажмуриться, ни о чем не думать – только так, мнилось, могло прийти облегчение.
Он бросил автомат к ногам, сел на бруствер против ниши – не было сил дойти до станин орудия – и, дрожа, зачем-то стал вытирать грязной перчаткой лицо, тискать и разглаживать горло.
«Кузнечик… – явственно и тихо послышалось ему. – Догоняй нас. Оставайся жив, кузнечик!»
Он застонал в перчатку и первый раз решился посмотреть в нишу, на нее.
Зоя лежала там на подстеленной Нечаевым плащ-палатке, краем ее прикрытая по грудь, сейчас он не видел той ужаснувшей его крови. Без шапки – наверно, осталась где-то там, в низине, – она лежала на боку, по-детски туго собравшись калачиком, как будто спала, замерла во сне; ветер шевелил легкие волосы на ее лице, мраморно-белом, потерявшем милую живость, с особенно четкими бровями, чуть сжатыми тихой мгновенной мукой; и брови, и затвердевшие ресницы ее, казалось, тоже тихонько подрагивали, шевелились; их трогала, белила мелкая, сухая крупа текущей с бруствера поземки. И Кузнецов так быстро отвернулся, закрыв глаза, так стиснул пальцами подбородок и губы, что свело болью кожу под шершавой перчаткой. Он боялся, что не выдержит сейчас, сделает нечто яростно-сумасшедшее в состоянии отчаяния и немыслимой своей вины, точно кончилась жизнь и ничего не было теперь.








