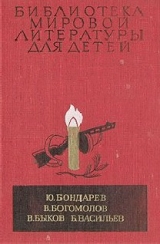
Текст книги "Повести"
Автор книги: Борис Васильев
Соавторы: Владимир Богомолов,Василь Быков,Юрий Бондарев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц)
Сталин хотел добавить еще что-то о своем старшем сыне, но, медля, передвинул лупу на карте, проговорил совсем другое:
– Без задержек вводите в дело свою армию. Желаю вам, товарищ Бессонов, в составе фронта Рокоссовского успешно сжимать и уничтожать группировку Паулюса. Я вам верю после активных действий вашего корпуса под Москвой, товарищ Бессонов. Я это помню.
– Не пожалею сил, товарищ Сталин. Разрешите идти?
– Как раз силу-то экономьте. Думал, богатырь вы. – Сталин развел руками, показал предполагаемый размер плеч Бессонова, при этом неожиданно улыбнулся, усы дрогнули, и в этот миг (Сталин сам это чувствовал) исчез, растаял латунно-жесткий холодок в глазах – его лицо, испещренное мелкими оспинками, стало мягким, домашним, добрым, каким его привык видеть Бессонов на портретах. – Худой вы, товарищ Бессонов. Это потому, что имеете свою точку зрения?.. Не язва? Мало, наверно, едите. И вот солдат будете плохо кормить. А это уж непозволительно, хоть со снабжением и неважно под Сталинградом.
– Я из госпиталя, товарищ Сталин. Но худой был всегда, – ответил Бессонов, увидев эту улыбку Сталина, которая как бы приглашала его забыть в этом разговоре все постороннее, прямо не относящееся к делу.
Через три часа с военного аэродрома он вылетел на связном самолете в район Сталинграда. Но и в самолете не мог до конца разобраться в сложном впечатлении от сорокаминутного разговора с Верховным.
На третий день после прибытия Бессонова на место, в район развертывания армии, обстановка на юго-западе от Сталинграда решительно изменилась.
С 24 по 29 ноября соединения Донского и Сталинградского фронтов вели непрерывные наступательные бои против замкнутой в клещи многотысячной немецкой группировки, ожесточенно сопротивлявшейся, не раз на отдельных участках переходившей в контратаки. Но к первым числам декабря территория, занятая окруженными войсками, сократилась вдвое, не превышала семидесяти – сорока километров с севера на юг. Командующий 6-й полевой армией генерал-полковник Паулюс послал срочную радиограмму в ставку Гитлера, требуя разрешения на прорыв из «котла» при перегруппировке сил на юго-запад; и, рассчитывая на согласие Гитлера, отдал приказ своей армии, а также подчиненной ему 4-й танковой армии приготовиться к отходу от берегов Волги в направлении Ростова. В течение нескольких дней две эти армии в спешке сжигали все, что невозможно было использовать при прорыве, – запасы летнего офицерского обмундирования, тягачи, автомашины, оставшиеся без горючего, подрывали склады с обременявшим войска имуществом, уничтожали штабные бумаги.
В деталях осведомленный о положении войск через личных представителей, Гитлер колебался, пребывая в состоянии нерешительности, но, учитывая обещание Геринга навести посредством авиации «воздушный мост» в Сталинград с доставкой по нему до пятисот тонн грузов ежедневно, он послал ответную радиограмму Паулюсу, приказывая не оставлять Сталинград, держать круговую оборону, сражаться до последнего солдата. Затем в штаб 6-й полевой армии последовал приказ об операции под кодовым названием «Зимняя гроза» – о готовящемся деблокировании, о прорыве к замкнутой группировке Паулюса со стороны Котельникова и Тормосина группы армий «Дон» генерал-фельдмаршала Манштейна, которому были теперь подчинены соединения, развернутые к югу от среднего течения Дона до астраханских степей, то есть до тридцати дивизий, в том числе шесть танковых и одна моторизованная, переброшенных из Германии, Франции, Польши и с других участков фронта.
Это решение Гитлера удерживать Сталинград во что бы то ни стало преследовало одновременно и стратегическую цель – обеспечить отход на Ростов северокавказской группировки немцев, находившейся под угрозой охвата с флангов.
Одиннадцатого декабря, еще раз обсуждая положение в районе Сталинграда, Гитлер приказал Манштейну нанести деблокирующий удар.
На рассвете 12 декабря, создав трехкратный перевес на узком участке вдоль железной дороги Тихорецк – Котельниково – Сталинград, командующий ударной группой деблокирования генерал-полковник Гот двумя танковыми дивизиями при массированной поддержке авиации нанес удар в стык двух армий Сталинградского фронта. Танки устремились в прорыв, к 15 декабря вышли на берег реки Аксай и, форсировав ее, за три дня беспрерывных атак продвинулись на сорок пять километров в направлении к Сталинграду. Нашей разведкой были перехвачены незашифрованные радиограммы Гота в штаб Паулюса: «Держитесь. Освобождение близко. Мы придем!» Положение на юго-западе крайне осложнилось. Ослабленные прежними оборонительными и наступательными боями, наши войска отходили, истекая кровью, с жестоким упорством цепляясь за каждую высоту. На главном направлении были введены все резервы, однако это не смогло существенно изменить сложившегося положения: армейская группа генерал-полковника Гота, усиленная подошедшей 17-й танковой дивизией, продолжала быстро продвигаться к Сталинграду, к окруженной 6-й армии Паулюса, от часа к часу ожидавшей сигнала на прорыв из кольца навстречу танковым дивизиям, деблокирующим ее.
В тот момент, когда свежесформированная армия Бессонова начала выгружаться северо-западнее Сталинграда, уже поступили подробные сообщения о начавшемся немецком контрнаступлении на Котельниковском направлении, о кровопролитных боях на рубеже реки Аксай. Вместе с начальником штаба армии генерал-майором Яценко Бессонова срочно вызвали на Военный совет фронта, где в то время находился и представитель Ставки. После подробных докладов командующего фронтом и командующих армиями с бесспорной очевидностью стало ясно, что войска Сталинградского фронта, по которому наносился главный удар, не имели достаточных сил противостоять натиску Манштейна, располагавшему на участке прорыва большим численным перевесом.
Слушая эти доклады, Бессонов молчал и думал о том, что вводить сейчас его армию в полосе Донского фронта с задачей добивать стиснутую в кольце группировку Паулюса было бы нерассчитанным действием, рискованным шагом в момент нависшей угрозы на юге. И когда представитель Ставки обратился к нему с предложением взять его хорошо оснащенную армию с Донского фронта и перегруппировать на юго-запад против ударной группы Манштейна, где решалась судьба операции, он, мысленно готовый к этому, помедлив, ответил, что другого решения пока не видит.
Но, ответив так, Бессонов тотчас же попросил усилить свою армию, еще не обстрелянную, не побывавшую в боях, танковым или механизированным корпусом. Генерал-майор Яценко опасливо посмотрел на него, и Бессонов про себя отметил, что начальник штаба (его он пока мало знал) весьма встревожен по-новому скорректированной задачей армии, которую так легко и, казалось, почти безоговорочно взял на себя только что прибывший командующий.
Представитель Ставки заявил, что немедленно будет звонить Сталину, что надеется получить согласие на предложение Военного совета взять армию Бессонова у Донского фронта и перебросить ее на чрезвычайное Котельниковское направление с целью остановить и разгромить Манштейна на пути к Сталинграду.
Бессонов услышал торопящее слово «разгромить» и подумал, что на первом этапе даже реализованная возможность «остановить» уже равносильна выигранной операции.
Ставка без промедления дала согласие, и армия Бессонова форсированным маршем, без остановок, без привалов, без отдыха двинулась с севера на юг, на рубеж реки Мышкова – последний естественный рубеж, за которым перед немецкими танками открывалась гладко-ровная степь до самого Сталинграда.
Глава седьмая
В третьем часу ночи после утомительной езды по заледенелым степным дорогам, забитым колоннами войск, машина Бессонова въехала в полуразрушенную (нигде ни единого огонька) станицу в глубокой балке, где расположился новый командный пункт армии.
За околицей, на перекрестке, сразу мигнул красный лучик ручного фонарика, три затемневшие впереди фигуры вышли на середину дороги. Это был патруль.
Майор Божичко вылез и, кратко переговорив со старшим из патруля, доложил чрезмерно бодро:
– Четвертый дом направо. Уже устроились. Все службы здесь, товарищ генерал.
Возле крыльца штаба Бессонов, разминая затекшие ноги, немного походил, вдыхая крепкий морозный воздух, смешанный с тепловатым горьким ароматом кизячного дымка, поглядел в небо. Вызвездило крупно. Дрожали, разгораясь, яркие созвездия в черных декабрьских высотах. Завивающимися змейками сносило с крыши колкую снежную пыль. Ветер звенел в сиротливо-голых кукурузных стеблях, темными островками торчавших в огородах из сугробов. А где-то слева, на юге, глухо погромыхивало, приближаясь и стихая, как будто земля покачивалась на воздушных весах.
Потом Бессонов услышал завывание автомашин на улочках станицы, отголоски команд, переклички связистов на дороге, протягивающих провод, скрип повозок в темноте. Донесся простуженный, распекающий говорок от соседнего дома: видимо, старшина из хозяйственной роты отчитывал нерадивого, полусонного повара. Все было знакомо, внешне все выглядело так, как бывает при размещении любого крупного штаба. Но в то же время Бессонов ловил себя на мысли, что сейчас многие из этих людей, отдававших распоряжения по службе, делавших свою обычную работу, озабоченных лишь удобством размещения, совсем не предполагали степени опасности, надвигающейся со стороны этого погромыхивания на юге.
– Слышите, Петр Александрович? – сказал Веснин, покрякивая на холоде, протирая носовым платком стекла очков. – И ночью жмут. Очень торопятся! По-моему, на юге небо светлей – все там горит, наверно…
– Именно торопятся, – ответил Бессонов и мимо часового взошел на забеленное снежком крыльцо.
В доме, где разместился начальник штаба, было до жаркой духоты натоплено, пахло овчинами, деревом и почему-то теплым конопляным маслом. В большой комнате с тщательно занавешенными окнами ярким белым накалом горели аккумуляторные лампочки. Под ними возле карты и за столом сидели на деревянных лавках вызванные генералом Яценко начальники отделов и служб. И Бессонова удивило, что были они в полушубках, в шапках, словно подчеркивая тем некую нервозность, которую он не хотел видеть на своем КП. Было накурено, синие пласты дыма плавали над столом – совещание шло к концу. Грузный генерал-майор Яценко, с гладко выбритой, несмотря на зиму, крупной головой, очень заметный внушительной физической прочностью, басовито подал команду при виде Бессонова. Все встали, вытянулись, пряча поспешно папиросы: знали, что новый командующий не курит, не выносит табачного дыма.
Бессонов, никому не пожимая руки, поздоровался; снимая полушубок, недовольно проговорил:
– В этой комнате попросил бы не курить. Не дурманить головы. И хотел бы, чтобы, входя в штаб, командиры снимали шинели и полушубки. Не сомневаюсь, что так будет удобней… Если не помешал совещанию, прошу всех незамедлительно приступить к своим обязанностям.
– Прямо паровозы! – сказал Веснин, потирая руки, покачиваясь на длинных своих ногах. – Дым коромыслом!..
– Что с ними сделаешь, дымят и дымят, чертяки! Может, проветрить помещение, Петр Александрович? – забасил Яценко, когда несколько командиров вышли, и повернул выбритую голову к занавешенным окнам. Он сам не курил, обладал завидным, несокрушимым здоровьем и, всегда погруженный в бесконечные штабные заботы, к подчиненным был настроен снисходительно и в быту многое отечески прощал им, как нашалившим детям.
– Не сейчас, – остановил Бессонов и, ладонью пригладив редкие седеющие, зачесанные набок волосы, кивнул: – Прошу к карте. Думаю, лучше сесть.
Все, кто остался в комнате, сели поближе к карте. Бессонов прислонил палочку к краю стола; все глядели не на Яценко, со значительным видом готового докладывать, и не на карту с последними данными, а на лицо Бессонова, болезненное, сухое, невольно сравнивая его с лицом Веснина, приятно розовым, моложавым, – командующий армией и член Военного совета внешне разительно отличались друг от друга.
– Прошу, – сказал Бессонов.
– Из-за запрета пользоваться рациями связь с корпусами оставляет желать лучшего. Донесения – только через офицеров связи, товарищ командующий, – заговорил Яценко, и в маленьких умных глазах его Бессонов не отметил прежнего вопроса и удивления, какое было тогда на Военном совете фронта. Теперь в них как бы отразилось лишь то, что было связано с организационными усилиями, с лихорадочной переброской четырех полных корпусов на двести километров с севера на юг. – Два часа назад армия занимала следующее положение…
Генерал Яценко положил большую руку на карту – плоские, широкие ногти аккуратно острижены, чисты, и весь он был аккуратен, умыт, выбрит с педантичной чистоплотностью кадрового военного. Доклад его тоже был педантично четок, голос густо звучал, вроде бы со вкусом называя номера корпусов и дивизий:
– Третий гвардейский стрелковый корпус вышел в район развертывания на рубеж реки Мышкова и занимает оборону. Седьмой корпус на марше, с наступлением темноты, надеюсь, без осложнений прибудет в район сосредоточения. Крайне тяжелое положение сложилось в механизированном корпусе, товарищ командующий. – И Яценко стал медленно багроветь, как если бы он, любивший четкость исполнения, вновь пережил неприятное, бедственное донесение из мехкорпуса. – Кончилось горючее на марше, тягачи и машины с боеприпасами застряли на сороковом километре… Мною даны две телеграммы командующему фронтом…
Яценко без запинки, но со значительным нажимом, по памяти воспроизвел текст этих двух телеграмм, затем исподлобья бросил на Бессонова уже знакомый тому выжидательно-испытующий взгляд. Однако Бессонов не счел нужным ничего уточнять, не изменил выражения неподвижного худого лица, не выказал удивления по поводу тревожно-решительного тона телеграмм. Он рассеянно рассматривал карту на столе. Веснин же вдруг блеснул стеклами очков и подсказал:
– И насчет бы продовольствия, Семен Иванович. На этом адском морозе без горячего варева и положенной солдату водки в сосульку превратишься, пальцем не пошевелишь.
– Об этом не говорю, – ответил с досадой Яценко. – В дивизиях есть случаи обморожения…
– Ясно, – сказал Бессонов.
Все, о чем докладывал начальник штаба, совпадало с тем, что сам он видел утром и днем на дорогах движения армии. Но не эти осложнения волновали сейчас Бессонова. Он по опыту верил в так называемое второе дыхание войск при форсированных перебросках на большие расстояния. Гораздо больше беспокоило его осложненное положение одной из дивизий соседней армии, ожесточенно оборонявшейся несколько суток и вконец измотанной немецкими танковыми атаками. Обстановка там была известна ему не только по несвязным ответам того контуженного страхом танкиста. От стойкости или гибели этой дивизии, из последних сил сдерживающей исступленно-неистовый натиск немцев, в прямой зависимости было так нужное Бессонову время для подхода и развертывания всей армии на рубеже реки Мышкова – последней преграды на пути немцев к окруженной группировке в районе Сталинграда.
Прервав доклад Яценко лаконичным «ясно», Бессонов взглянул на начальника разведотдела полковника Дергачева, довольно молодого, с тонкими, сросшимися на переносице бровями, что придавало ему не по годам суровый, независимый вид, и спросил с интонацией ожидания неудовлетворительных новостей:
– Что нового может сказать разведка?
– Положение к вечеру, товарищ командующий, – заговорил полковник Дергачев тоном, который действительно не обещал ничего обнадеживающего. – На правом фланге соседней армии немцы ввели в бой свежую танковую дивизию, в составе которой до батальона тяжелых танков новой модели «тигр». По показаниям пленного офицера, захваченного вчера, и по другим данным в деблокирующем ударе действует более десятка дивизий, в том числе две танковые. Соседняя армия не в силах сдержать этого натиска…
– Не в силах, – повторил Бессонов.
– У правого соседа положение не лучше, если не хуже, Петр Александрович, – засопев, добавил Яценко в наступившей тишине. – Кавалерийский корпус понес огромные потери и отошел. Создается впечатление, товарищ командующий, что немцы будут наносить главный удар по правому крылу нашей армии. Здесь кратчайшее расстояние до Сталинграда.
Бессонов со скрытым интересом поглядел на Яценко, сосредоточив внимание на его старомодно выбритой наголо голове (распространено было среди командиров до войны). Этот грузный, опрятный генерал на первый взгляд совсем не производил впечатления толкового и грамотного начштаба, может быть, из-за своей грубоватой внешности, густого старшинского баса. Кроме того, Бессонова раздражал исходивший от Яценко резкий запах тройного одеколона.
«Правильно, – подавляя настороженность к начальнику штаба, подумал Бессонов. – Именно по правому флангу наиболее вероятен удар».
– Да, отсюда Манштейну едва ли сорок километров до окруженной группировки, – подтвердил вслух свою мысль Бессонов и подумал затем: «Если прорвутся здесь, пробьют коридор к окруженной группировке, два-три дня боев – и обстановка в районе Сталинграда изменится в пользу немцев. Что же тогда?»
Но эту мысль он не высказал вслух. Последний вопрос даже самому себе он задал, пожалуй, впервые.
Все ждали за столом в том напряженном угадывании какого-то действия Бессонова, как почти всегда бывает, когда в крупном штабе появляется новый, наделенный полнотой власти человек, еще раскованный в своих решениях, не связанный еще ни с чьим мнением. А Бессонов с выражением глубокой усталости глядел на карту, испещренную знаками обстановки, ярко и уютно освещенную аккумуляторными лампочками, и, выслушав доклад начальника штаба, молчал, продолжая думать о возможном соотношении сил на направлении предполагаемого удара. «Если три-четыре немецкие танковые дивизии прорвут оборону на Мышковой раньше, чем мы успеем подойти и развернуть свою армию на правом берегу, они сомнут и нас. Это тоже очевидно».
Но вслух он не сказал и этого, ибо бессмысленно было говорить о том, что понимали, вероятно, в ту минуту все за столом.
Бессонов поднял голову.
В просторной комнате по-прежнему было тихо. Тоненько дребезжали стекла от проходивших под занавешенными окнами штабных машин. Ветер с вольным степным гулом проносился по крыше, маскировочные занавеси окон едва заметно шевелились на сквознячках.
В углу над лавками поблескивал закопченный и древний лик иконы, как скорбная, от века, память о человеческих ошибках, войнах, поисках истины и страданиях. Этот лик какого-то святого, темнеющий над любовно вышитыми кем-то и повешенными крест-накрест белыми холщовыми рушниками, искоса печально глядел в свет аккумуляторных ламп. И Бессонов, чуть усмехнувшись, неожиданно подумал: «А ты-то что знаешь, святой? Где она, истина? В добре? Ах, в добре… В благости прощения и любви? К кому? Что ты знаешь обо мне, о моем сыне? О Манштейне что знаешь? О его танковых дивизиях? Если бы я веровал, я помолился бы, конечно. На коленях попросил совета и помощи. Но я не верую в Бога и в чудеса не верю. Четыреста немецких танков – вот тебе истина! И эта истина положена на чашу весов – опасная тяжесть на весах добра и зла. От этого теперь зависит многое: четырехмесячная оборона Сталинграда, наше контрнаступление, окружение немецких армий. И это истина, как и то, что немцы извне начали контрнаступление. Но чашу весов еще нужно тронуть. Хватит ли у меня на это сил?..»
Молчание за столом гнетуще затягивалось. Никто первым не решался нарушить его. Начальник штаба Яценко вопрошающе поглядывал на дверь во вторую половину дома, где гудели зуммеры, то и дело отвечали по телефонам голоса адъютантов. Генерал Яценко не вставал, сидел грузно, прямо; потом носовым платком обтер бритую голову и снова озабоченно скосился на дверь. Веснин в задумчивости играл на столе коробкой папирос и, поймав на иконе странный текучий взгляд Бессонова, который становился все неприязненнее, все жестче, подумал, мучаясь любопытством, что не пожалел бы ничего, чтобы узнать, о чем думает сейчас командующий. Бессонов в свою очередь, перехватив внимание Веснина, подумал, что этот довольно молодой, приятный на вид член Военного совета чересчур уж заинтересованно-откровенно наблюдает за ним. И спросил не о том, о чем хотел спросить в первую очередь:
– Готова связь со штабом фронта?
– Будет готова через полтора часа. Я имею в виду проводную связь, – заверил Яценко и притронулся ладонью к ручным часам. – Все будет точно, товарищ командующий. Начальник связи у нас человек пунктуальный.
– Мне нужна эта точность, начальник штаба. – Бессонов встал. – Только точность. Только…
Опираясь на палочку, он сделал несколько шагов по комнате, и в эти секунды ему вспомнились хозяйски медленные, развалистые шаги Сталина по красной ковровой дорожке около огромного стола в огромном кабинете, его еле слышное перханье, покашливание и весь тот сорокаминутный разговор в Ставке. С испариной на висках Бессонов остановился в углу комнаты. «Что это? Как гипноз, не могу никак отойти от этого», – подумал он, раздражаясь на себя, и некоторое время стоял спиной ко всем, упорно разглядывая вышитые холщовые рушники, висящие под иконой.
– Вот что, – поворачиваясь, произнес Бессонов оттуда, из угла, нащупывая встречный взгляд Яценко и стараясь говорить спокойно. – Немедленно передайте распоряжение командиру механизированного корпуса: ни минуты не ждать горючего, загружать боеприпасами способные двигаться машины и танки. Все наши свободные машины – из штаба, из тылов – в корпус. Передать начальнику артснабжения и командиру корпуса: если через два часа бригады с полным боекомплектом не выйдут на заданный рубеж, буду расценивать это как неспособность справляться со своими обязанностями!
«Да, я так и предполагал. Начинает брать армию в руки, – подумал Веснин, вслушиваясь в скрипучий голос Бессонова. – Так вот он сразу как…».
– Второе… – продолжал Бессонов и подошел к столу, глядя на командующего артиллерией генерала Ломидзе, намереваясь произнести фразу: «К сожалению, перевеса ни в авиации, ни в танках на нашем участке пока нет, будем рады довольствоваться тем, что артиллерии, слава Богу, достаточно», – назойливую фразу, не выходившую из головы, но вслух высказал другое: – Думаю, стоит изменить первоначальный план артиллерийской обороны. Всю артиллерию, за исключением корпусной, желательно поставить на прямую наводку. В боевые порядки пехоты. И выбивать танки. Главное – выбивать у них танки. Свои танки введем в бой лишь в кризисный момент. А до этого будем беречь их как зеницу ока.
– Понял, товарищ командующий, – сказал Яценко.
– А вы как… генерал?
Командующий артиллерией, сорокалетний черноволосый красавец генерал-майор Ломидзе, украдкой рисовавший в блокноте женские профили с полуоткрытыми губками и вздернутыми носиками, захлопнул блокнот, поднял на Бессонова быстрые горячие глаза, сказал:
– Товарищ командующий… не останемся ли таким образом без артиллерии? После первого боя. Хочу напомнить: гаубицы против танков недостаточно эффективны. По скорострельности, конечно, уступают противотанковым пушкам. Был приказ поставить на прямую наводку семидесятишестимиллиметровые батареи.
Бессонов посмотрел на Ломидзе внимательно, чуть удивленный его возражением.
– Знаю, чем мы рискуем. Но лучше остаться без единого орудия, генерал Ломидзе, чем драпать! – Он намеренно употребил это жаргонное, особо яркое солдатское слово. – Чем драпать вместе с артиллерией до Сталинграда. Поэтому повторяю: выбивать всеми средствами, уничтожать танки, основную ударную силу немцев! Не дать ни одному прорваться к Сталинграду. Не дать им поднять головы! Известно ли вам ликование немцев в «котле» после того, как Манштейн перешел в контрнаступление? Там ждут… ждут с часу на час прорыва кольца. Нам же ежеминутно помнить надо, что это не новичок, а весьма многоопытный генерал. Прошу всех усвоить: в уничтожении танков вижу главную задачу армии на первом этапе боев. Вопросы?
Вопросов не было.
– Все ясно, Петр Александрович, – сказал Веснин, несколько смягчая накал бессоновского объяснения.
– Немцы не те, – пробормотал Ломидзе. – Не прорвутся, товарищ командующий.
– Немцы еще те, – возразил Бессонов и поморщился. – Прошу вас, генерал, забыть про квасное шапкозакидательство. С позволения сказать, теория эта давно устарела.
Ломидзе снова раскрыл блокнот, мрачно зачеркал в нем остро отточенным карандашом. Сидевший рядом Веснин, повеселев, увидел: к женскому профилю командующий артиллерией пририсовал пышные усы, затем бороду, в ней длинную папиросу с курчавым дымком, потом крупно написал под рисунком: «Знаю, что он прав, но очень уж… Скажите, товарищ член Военного совета, чего он нас мучает? Сам не курит, другим не разрешает. Женский монастырь, что ли?»
Веснин улыбнулся, подтянул ближе блокнот Ломидзе, на краю листа прямым мелким почерком написал: «Будем отвыкать. Сам до потери сознания хочу курить». И тотчас же в ответ из-под острого грифеля Ломидзе поползли косые буквы и сложились короткие слова: «Нет уж! К Богу!»
Бессонов, слегка прихрамывая, шагал по комнате, сделав вид, что не заметил этой переписки. «Хотел бы знать, поймем ли мы друг друга до конца?» – спросил он себя и, уперев палочку в пол, задержался подле тихо и скромно сидевшего не за столом, а в углу комнаты начальника контрразведки армии полковника Осина, широкого в кости, белокурого, курчавого, с серьезным, почтительным лицом. Закинув ногу на ногу, Осин тоже что-то записывал в блокноте, положенном на обтянутое бриджами колено. Он ни разу не оторвался от блокнота, не произнес ни единого слова, не изменил позы, и Бессонов подумал: «А этот полковник каков?»
– Майор Божичко! – позвал командующий.
Дверь во вторую половину дома, где зуммерили телефоны, раскрылась, и Божичко вошел энергично; в глазах его еще таял смех после только что рассказанного в той комнате анекдота. Майор стукнул на пороге валенком о валенок.
– Слушаю, товарищ командующий.
– Машину.
– Товарищ генерал, – заговорил Божичко не без настойчивости, имея неотъемлемое право адъютанта заботиться о командующем. – Обед готов! Пельмени вы заказывали. Это десять минут.
– А майор неплохо придумал, – сказал Веснин и проворно поднялся, обратив свое приятное розовое подвижное лицо к Божичко. – Я «за». Пожалуй, не отказался бы от рюмки с мороза! Прекрасная идея, Петр Александрович!
Бессонов с сухой вежливостью отклонил предложение:
– Благодарю. Буду голоден – не постесняюсь пообедать и в дивизии Деева.
Перекладывая палочку из руки в руку, он надел поданный адъютантом полушубок и, застегиваясь, обратился к Яценко:
– Согласен с вами, что главный удар они нанесут на правом фланге. Это не вызывает сомнения. Я на энпэ Деева. Туда прошу и докладывать обо всем существенном.
Все проводили командующего до двери, а генерал Яценко переступил порог темных холодных сеней. Здесь не было видно лица его, лишь в холодке ощутимо запахло тройным одеколоном, и Бессонову почудилось, что начальник штаба, прощаясь, хочет пожать ему руку в знак солидарности, но не решается.
– Будем надеяться, – сказал Бессонов и, коротко обменявшись с Яценко рукопожатием, вышел на улицу.
Ветреная декабрьская ночь чернела над степью с рассыпанными по чистому небу созвездиями. Уже подходя к темневшей на дороге машине, Бессонов услышал хлопанье двери за спиной, похрупывание снега и полуобернулся, надеясь увидеть начальника штаба, не досказавшего что-то. Но это был Веснин. Вышагивая цапельно-длинными ногами, он подошел к Бессонову, сказал с некоторым замешательством:
– Петр Александрович, шут с ними, с пельменями! Разреши присоединиться? Не возражаешь, если я с тобой на энпэ?
– Не понимаю. Член Военного совета не обязан, как я знаю, спрашивать разрешения у командующего, где находиться. Сам волен решать.
Веснин рассмеялся.
– Петр Александрович, ты огорошиваешь меня своей, прости, прямотой. Что я должен ответить?..
– А вот что… – Бессонов отвел Веснина от машины в сторону. – Хочу задать еще один очень прямой вопрос. Как коммунист коммунисту. Если тебе, Виталий Исаевич, кто-то посоветовал присматривать за новым командующим, как за малым дитятею, особенно при вступлении в должность, то отношения наши грозят осложнениями. С трудом будем терпеть друг друга. – Он помолчал, и Веснин не перебивал его. – Если же это не так, готов немедленно извиниться за вышесказанное.
– Петр Александрович, – Веснин даже сдернул очки, с грустным вниманием глядя близорукими глазами. – Спасибо за откровенность. Но заявляю тоже совершенно искренне: если бы кто-то попытался насторожить мое внимание в твою сторону, я послал бы этого дурака к чертовой матери, если не дальше! Больше добавить ничего не могу.
– Благодарю, – усмехнулся Бессонов. – Извини за этот разговор.
– Напротив, – сказал Веснин, – я хотел бы, чтобы у нас нашлось время поговорить более обстоятельно. Только не в машине, конечно.
– В дивизии поговорим, – пообещал Бессонов. И суховато добавил: – Разумеется, если немцы позволят…








