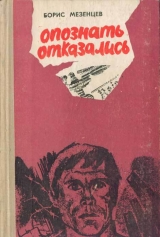
Текст книги "Опознать отказались"
Автор книги: Борис Мезенцев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
АКРОБАТ
Перед войной у нас в школе было повальное увлечение акробатикой. Мальчишки без устали прыгали, кувыркались, выполняли всевозможные «сальто», «кульбиты» и прочие трюки. Прыгая в яму для прыжков, они старались проделывать в воздухе самые сложные фигуры.
И Николай не избежал, как тогда говорили, «акробатической лихорадки». Хотя он был сильнее и ловчее многих сверстников, но не раз ходил прихрамывая, а то и с подвязанной рукой. За ним укрепилась слава лучшего акробата школы.
В парке имени Якусевича были установлены высокие опоры, между ними висела трапеция, а внизу натянута сетка для страховки. Заводские артисты летали между опорами, совершали головокружительные номера.
Весь город собирался на представление, зрители охали и ахали при виде сногсшибательных полетов, а мы, подростки, восторгались мастерством артистов, любовались красотой их сильных тел.
Один из акробатов, самый сноровистый и ловкий, выступал в комической роли. Нарочито неуклюже он совершал самые опасные и трудные «фигуры высшего пилотажа». Звали его Михаилом, но с чьей-то ребячьей руки именовали «Чкалов».
Мы смотрели аттракционы с замирающими сердцами, и Николай не раз говорил:
– Будь я взрослым, обязательно летал бы вот так.
Последнее представление акробаты давали красноармейцам за полтора-два месяца до ухода наших войск из города. Но вот акробат Мишка, любимец горожан, вдруг объявился в оккупированном городе. Афиши уведомляли: «Михаил Сурженко – лучший акробат города, демонстрирует свое искусство в театре. Во времена советов его талант не мог раскрыться, теперь увидите апофеоз артиста. Такое возможно только при новом порядке».
Мы с Николаем стояли у афиши и не верили написанному.
– Неужели «Чкалов» пошел в услужение к фашистам? – растерянно спросил Николай. – Неужели из-за куска эрзац-хлеба паясничает и унижается перед гадами?
Он посмотрел на меня так, словно я обязан был тут же дать ответ на волновавший его вопрос.
– Возможно, Мишка не сволочь, а просто дурак, – неуверенно ответил я.
– Патриотизм, наверное, не только умом рождается, а еще и чем-то другим, – Николай постучал себя по груди, добавил: – Он от сердца идет, а вернее… от всего существа.
Я понимал, что его уважение к акробату сменилось разочарованием. Кумир оказался ничтожеством.
Потом о Мишке долго не вспоминали. Как-то Николай сказал:
– Забыл тебе сообщить: позавчера случайно видел Михаила. Я подумал: а не пойти ли мне к нему в ученики?
Друг говорил оживленно и явно ожидал поддержки.
– Да не связывайся ты с этим холуем.
– Может, он неспроста кувыркается перед немцами. Возможно, он связан с другими подпольщиками или не согласится действовать с нами?
Он ухватился за эту мысль и увлеченно развивал ее.
– Я разгадаю Мишку, узнаю, чем он дышит, и если он наш человек – будет здорово. Вечерами дает представления для немчуры, значит, имеет пропуск, может ходить по городу ночью. С его помощью в театре тоже можно кое-что провернуть. Я уверен, есть люди, которые только для вида сотрудничают с немцами, а в действительности работают на наших, во вред оккупантам. Они обрекают себя на ненависть, но фактически делают большое и полезное дело.
Николай начал часто появляться около театра, старался встречаться с Михаилом, заговаривать с ним. Приходя ко мне, он до изнеможения упражнялся на турнике. Полуголодный, истощенный, он многократно повторял различные гимнастические упражнения. Ладони его покрылись грубыми мозолями, он еще больше худел, но, повиснув на перекладине, легко управлял своим телом.
Как-то поджидая акробата у театра, Николай увидел его с молодой красивой женщиной. Это была певица, выступавшая в одной концертной бригаде с Михаилом. Ее постоянно видели в обществе офицеров, непринужденно болтавшей по-немецки. Ловя на себе осуждающие взгляды горожан, она, словно бросая всем вызов, вела себя развязно, и даже нагло.
«Вот ты с кем водишься, – подумал Николай об акробате. – Но ничего, разберемся, с какой ты начинкой».
Михаил, размахивая стареньким портфелем с двумя дамками, повернул к театру. Делая вид, что случайно оказался здесь, Николай не спеша двинулся ему навстречу.
– Здравствуйте, я хочу поучиться у вас цирковому искусству. С детства люблю спорт.
Николай начал застенчиво, но последние слова звучали смелее, тверже. Михаил удивленно поднял брови, молча пощупал руки и плечи Николая, заключил:
– Кое-что есть, но еще жидкий. Ну что ж, давай попробуем.
Пройдя безлюдный, едва освещенный зал, они поднялись на сцену.
Михаил раскрыл портфель, достал тренировочную форму, переоделся и начал разминку. Николай смотрел на быстрые ловкие движения и, конечно же, сожалел, что сам не такой сильный и гибкий.
– Нечего глаза таращить, – грубо сказал акробат, – раздевайся и повторяй все за мной.
После разминки подошли к висевшей трапеции, Михаил указал на нее:
– Покажи, на что способен.
Николай едва допрыгнул до трапеции, проделал несколько силовых упражнений. Отдышавшись, с досадой сказал:
– Я на турнике занимался, а тут болтаешься, как… – он не закончил, осекся.
Михаил, явно стараясь удивить единственного зрителя, около часа вертелся на трапеции, отшлифовывая каждый трюк. Выходя из театра, сказал Николаю:
– Вижу, парень ты порядочный. Хочешь подучиться – приходи каждый день. Тебе польза, и мне будет веселей. Сшей из материи тапочки и одежонку имей полегче, попросторнее.
Николай стал приходить в назначенное время. Стараясь расположить к себе Михаила, внимательно прислушивался к каждому его слову, следил за каждым жестом. Жаловался мне:
– Понимаешь, очень скрытный, ни на какие удочки не клюет.
Прошло две недели. Николай, войдя в доверие, свободно ходил по театру. Он обшарил каждый его уголок, попытался проникнуть на чердак – не удалось, заперт. Кинобудка тоже закрывалась на два винтовых запора и огромный висячий замок. Обследовал подсобные помещения, пожарные лестницы, а один раз, как он потом признался, сидел под сценой среди старых декораций, слушал концерт для немцев, там же провел ночь в обществе крыс: выйти из театра ночью было невозможно. Придя на следующее утро, Михаил удивился, увидев своего ученика уже на сцене. Как-то на репетицию зашел обер-фельдфебель, занимавшийся вопросами «искусств и развлечений». Похлопал Михаила по мускулистым плечам, сказал:
– Ты есть феноменаль. Комендант дает добавка: фовиант, сигарет и марки. Труппа едет на фронт. Конверт на славный немецкий зольдат. Корошо?
Михаил подобострастно поблагодарил и охотно согласился ехать на фронт. Хотя немец хорошо понимал русский язык, акробат говорил на ломаном немецком.
– Кто есть этот юнош? – полюбопытствовал обер.
– Это мой ученик, – не без гордости, уже по-русски, ответил Михаил, подталкивая Николая и нажимая на плечо, чтобы тот наклонился. Николай слегка подался вперед, но вопреки желанию Михаила еще больше выпрямился, вскинул голову, четко сказал:
– Хочу быть артистом.
– Корошо. Немецкая нация ценит смелый артист. Большевики опускали культуру вниз, это есть дикость.
Самодовольно улыбаясь, обер-фельдфебель ушел, а Михаил начал разминку. Николай сослался на недомогание и молча наблюдал за своим наставником. Его подмывало спросить: «А нельзя ли и ему поехать с артистами на фронт?»
Михаил, тяжело дыша, уселся на стул и, рассматривая мозолистые ладони, грустно сказал:
– Люди не видят, как тяжело артисту достается эта легкость.
– А когда я уже смогу выступать? – неожиданно для себя спросил Николай.
– Еще немного окрепнешь – и начнем работать чад программой. Я уже продумал все.
– А как же с поездкой на фронт?
– Это ненадолго, – уверенно ответил Михаил. Между требовательным тренером и исполнительным учеником установились хорошие взаимоотношения. Николай исподволь располагал к себе Михаила, не лез с настораживающими расспросами, не проявлял интереса к его убеждениям, планам на будущее.
Михаил начал постепенно откровенничать, посвятил ученика в свои сердечные дела.
Николай однажды мне сказал:
– Это же черт знает что. Знает, что Верка-певичка таскается с заместителем коменданта, но хочет на ней жениться.
– О ком ты? – недоумевая, спросил я.
– Да о своем, как теперь принято называть, шефе. По-моему, он трус, и нутро у него гнилое. Нашло на него как-то, начал меня уму-разуму учить. Главное, говорит, во всей этой неразберихе, в безумной драке уцелеть. Выжить любыми средствами, а дальше видно будет. Готов служить даже черту, но чтоб только спастись… Ну как можно не понимать, что если все будут заботиться только о том, чтобы уцелеть, выжить, то наверняка все погибнем. Уничтожат нас фашисты, как второсортных людей. Они же о нас говорят, что мы недочеловеки. А Мишка плетет, что немцы обычно сатанеют во времена войн, а потом, мол, победив, становятся хорошими людьми. Ерунда! Если будут подчиняться Гитлеру, то окончательно озвереют. Это точно. – И добавил разочарованно: – Наверно, свою затею брошу, толку не вижу.
– Давно пора, – поддержал я.
– Оно так, если бы не одна мыслишка, – глаза Николая загорелись. – Здорово было бы через отверстие в потолке, где крепится люстра, высыпать на головы немцам во время концерта десяточек лимонок. А?
– Командиру об этом говорил?
– Пока не разрешает. Взобраться на чердак и за бросать фашистов гранатами – пара пустяков, а скрыться потом почти невозможно. Надо помозговать еще.
Вскоре отношения Николая и Михаила расстроились. Провожая акробата домой, Николай осторожно спросил:
– Ну, как там немцы на фронте, уверенно себя чувствуют или не очень?
– А тебе это зачем? Ты на шпионство меня не наталкивай и в политику не впутывай. Кто меня кормит тому я и служу. Красные придут – им тоже нужен буду. Артисты всем нужны. А насчет бунтарства и прочих безобразий, так я противник этого. Пусть шкодничают те, кому жить надоело.
– Хамелеон жалкий, – сердито рассказывал Николай. – Окажись он настоящим человеком, мы кое-что провернули бы.
Николай, раздобыв несколько листовок, сброшенных нашими самолетами для немецких солдат, дважды расклеивал их в фойе театра и на большом афишном щите у входа, где вывешивались объявления. Листовки по нескольку дней висели нетронутыми, словно их и не замечали. Многие солдаты, бегло прочитав и не желая связываться с гестапо, уходили прочь, наверное, рассказывая потом по секрету близким товарищам о прочитанном.
В середине апреля гитлеровцы стали готовиться к празднику – дню рождения Гитлера. Солдатам выдавали новое обмундирование, свежей краской красили машины; всюду вывешивались портреты фюрера. Высоко поднимая ноги, солдаты с утра до вечера маршировали около Дворца культуры. На площади строилась трибуна. На столбах появилось несколько похожих на граммофонные трубы репродуктов.
Николай доложил о приготовлениях немцев и предложил испортить оккупантам праздник. Командир и политрук согласились.
В канун самого праздника площадь вымели и посыпали песком. Вокруг были усилены патрули, у каждого жителя, появлявшегося в центре города, проверяли документы. Даже немецким солдатам запретили расхаживать по главной улице.
В назначенное время площадь начала заполняться солдатами. Офицеры выравнивали ряды, осматривали выправку. Вдруг из театра появился обер-фельдфебель: смертельно бледный, с выпученными от страха глазами, он что-то несвязно пробормотал взбешенному коменданту города гауптману Брандесу.
– Свинья! – задыхаясь от гнева, рявкнул Брандес. – Если к приезду генерала не найдете украденный микрофон… голову сниму! На фронт отправлю!
Обер-фельдфебель кинулся в театр. Через несколько минут на площади показались три легковые машины. Встречающие офицеры и солдаты замерли. Из «оппель-адмирала», не торопясь выбрался низенький, толстый генерал.
Высоко вскидывая начищенные до зеркального блеска сапоги, комендант Брандес подошел к генералу, стоящему в окружении прибывших офицеров. Рапорт прозвучал кратко и четко.
В сопровождении свиты генерал важно взошел на трибуну. Не увидев микрофона, гневно взглянул на Брандеса.
– Мы все предусмотрели, радиофицировали площадь, – испуганно забормотал Брандес. – В самый последний момент… микрофон… микрофон испортился, господин генерал.
– Не миновать вам фронта, – тихо пообещал генерал и заговорил во всю силу своего голоса.
С напряженным вниманием слушали на площади генерала, обещавшего с помощью нового чудо-оружия стереть в порошок всех врагов любимого фюрера.
Вдруг голос оратора словно надломился. Генерал закашлялся и умолк. Вытерев вспотевшее лицо платком, он попытался заговорить снова зычно и громко, но лишь сипло хрипел. Достав платок, он долго и нудно сморкался. По лицам некоторых солдат скользнули улыбки.
Наконец-то генерал поборол кашель, приказал прибывшему с ним подполковнику вручать награды.
Наблюдавшие издали за происходившим горожане посмеивались над неудавшимся торжеством. Они не знали, кто сорвал праздник, но поговаривали, что без подпольщиков, мол, тут не обошлось.
Потом мы узнали, что обер-фельдфебеля разжаловали и отправили на передовую. Комендант Брандес отделался выговором.
Николай Абрамов и Роза Мирошниченко, оставившие генерала без микрофона, ходили гордые и счастливые.
Акробат бежал из города вместе с оккупантами.
ДВЕ СУДЬБЫ
День был морозный и ветреный. Мы с Николаем ходили на аэродром высмотреть, как охраняется горючее. Возвращались медленно, болтая о разных пустяках. Возле бывшей рабочей больницы, где размещался госпиталь для немецких офицеров, неожиданно повстречался наш школьный товарищ. Мы не видели его с начала оккупации города. На нем были засаленная фуфайка и такие же брюки, старая шапка с опущенными ушами неловко сидела на голове, а огромные ботинки со сбитыми каблуками не зашнурованы и едва держались на ногах. Он воровато оглядывался по сторонам, зябко ежился и вообще выглядел запуганным и жалким. Увидев нас, он еще больше ссутулился, втянул голову и норовил пройти стороной.
– Владик! Владислав! – вырвалось у Николая. Мы остановились, глядя на вздрогнувшего и застывшего в нерешительности товарища. – Подожди. Ты что, не узнаешь?
Владик, виновато улыбаясь, приблизился к нам и, нервно пожимая руки, заговорил быстро, повторяя отдельные слова по два-три раза:
– Я сразу и не узнал. Думаю, вы или не вы? Вы или не вы? Решил, что не вы, и потопал прочь. Да, да, подумал… не вы и… ходу домой.
В школе уважали Владика: он был добрый и правдивый парень, много читал, охотно делился книгами из своей библиотеки отличался исполнительностью. Хорошо играл на нескольких музыкальных инструментах и обладал удивительной «артельностью». Не проходило ни одного общественного мероприятия, чтобы Владик оставался в стороне. По складу характера он не был склонен к предводительству, но своей энергией и энтузиазмом зажигал самых вялых ребят. Всегда опрятный, он в отличие от других «чистюль» не задавался, был скромен, хотя его часто ставили нам в пример. Отец Владика работал каким-то большим начальником, но перед самой войной с ним что-то случилось: то ли его арестовали, то ли он оставил семью и уехал. Во всяком случае, семейная трагедия очень отразилась на впечатлительном парне, он замкнулся, отдался музыке, но учился по-прежнему хорошо. Как сложилась его дальнейшая судьба, мы не знали, и вдруг вот эта встреча. До ухода в «ремесло» Николай с большой симпатией относился к Владику и даже кое в чем подражал ему.
– Ну, как дела? Ты давно в городе? – нетерпеливо спросил Николай. – Рассказывай же!
– А что рассказывать. Живу, как горох у дороги – кто идет, всяк щипнет. Всех боюсь и все ненавижу. Себя тоже, как мокрицу жалкую, презираю. Мне бы в самый раз в петлю, но трус я, трус.
От таких слов мы оторопели, а Владик, бросив по сторонам быстрый и беспокойный взгляд, судорожно повел плечами и, стукнув ботинком о ботинок, сказал:
– Давайте двигаться, а то я в сосульку превращусь. Мы медленно пошли в сторону бутылочного завода.
Николаю не терпелось подробнее узнать о жизни товарища, и он с присущей ему настойчивостью потребовал:
– Ты расскажи о себе без философии.
– Только откровенность за откровенность, – Владик глубоко вздохнул, пристально посмотрел на Николая и продолжал: – Перед приходом немцев послали меня на оборонительные работы, к Днепру. Людей там набралось видимо-невидимо, а лопата одна на троих, носилки – на пять человек. Рыли противотанковый ров. Немцы с самолетов начали обстреливать, а потом разнесся слух, что танки прорвали фронт и могут нас окружить. Пристал к одной группе взрослых мужчин и шел с ними на восток. Потом мы рассыпались, и я поплелся один. Пристроился к эшелону с эвакуированными, но эшелон разбомбили, и я снова пустился в путь на своих двоих. Немецкие танки обогнали меня, и, поскитавшись еще несколько недель, я приплелся домой. Простудился, наверное, чирья пошли по всему телу. Месяца четыре матушка выхаживала. Окреп, снарядился в село вещи на продукты менять. На границе с Запорожской областью попал в облаву. Забрали в лагерь, повезли в Германию. Удалось сбежать. Мытарствовал по всей Украине. Угодил к партизанам. Был у них недолго. Пошел в разведку, заблудился и… домой двинул. Мать все поменяла на продукты и вообще стала какой-то полупомешанной. Гадает на картах, верит снам, читает библию. Рядом живет полицейский и неусыпно следит за каждым моим шагом, а почему – непонятно. В доме холодина, есть почти нечего. Надломлен до такой степени, что готов руки на себя наложить. Да-да, вот именно – наложить!
Подкупающая откровенность да и вид Владика не оставляли сомнений в правдивости сказанного, но тем не менее он чего-то недоговаривал. Да иначе и не могло быть, ведь мы о себе пока еще не сказали ни слова.
– У меня и у Бориса все сложилось проще, – заговорил Николай. – Я с «ремеслом» пытался эвакуироваться, немец перехватил танками – и шабаш. Живу с родными, то менять езжу, то огороды обрабатываю – вот так и перебиваюсь.
– На оборонительных работах и мне пришлось побывать, – словно отчитываясь, начал я. – А потом отступал. Немцы обогнали на мотоциклах, попал в перестрелку, чуть не погиб. Пришлось домой шагать. Вот так и живем – кукурузу жуем да у моря погоды ждем.
По осуждающему взгляду Николая я понял, что шутка моя не удалась, а лицо Владика выражало недовольство. Ему не понравилась лаконичность наших рассказов о своей жизни на оккупированной территории.
– Я понимаю, о какой погоде ты говоришь, – обратился он ко мне. – Красные придут и, конечно, спросят, а что ты делал при немцах? Ничего. А почему с оружием в руках не сражался? Ждал погоды у моря. Возьмут тебя под белы рученьки – и в Сибирь. Да-да, в Сибирь. Даже на фронт не пошлют, оружия не доверят.
– Это трепня, – ровно и спокойно сказал Николай. – Ты боишься вопросов: что, мол, делал? А если не спросят, тогда как? Разве собственная совесть не может спросить? По-моему, перед кем-то отвечать легче, чем перед собственной совестью. Если, конечно, она есть и не очень замарана.
– Я понимаю, понимаю, – быстро заговорил Владик. – Немцы, конечно, ведут себя отвратительно, бесчеловечно. Они все разрушают. Убивают невинных людей. Издеваются и глумятся над своими жертвами. Это чудовищно, и они делают большую ошибку, что так безобразно обходятся с населением. И из-за этого могут проиграть войну.
– Ерунда, – жестко отрезал Николай. – Из истории известно, что завоеватели всегда вели себя с покоренными народами бесчеловечно, но неужели ты думаешь, что если бы фашисты не были такими жестокими, то наш народ смирился и признал бы их победителями, освободителями или как там они себя еще называют?
– Да, но ты, он, я и другие смирились? – спросил Владик и беспомощно развел руками. Потом тихо прибавил: – Не всякий способен каждый день жизнью рисковать даже за самые высокие идеалы. Тем более, если… брюхо пустое и от ветра качаешься.
– Может быть, мы с тобой и плохой пример, но; ведь есть люди, которые не стали на колени, сопротивляются, воюют.
– Для настоящей партизанской борьбы в Донбассе нет природных условий, – устало сказал Владик и потупился.
Мне показалось, что для первой встречи разговор носит слишком откровенный характер, тем более, что настроение Владика мне совсем не нравилось.
– Ты видел кого-нибудь из наших «однокашников»? – обратился я к Владику, незаметно подмигнув Николаю: мол, меняем пластинку. Друг понял.
– Никого. Я почти не показываюсь на улице, и главным образом от стыда. Кроме этой – другой одежды у меня нет, да и сил для прогулок не хватает: выйду на улицу – и голова кружится. Приучил себя спать по двадцать часов в сутки. Я слыхал изречение: кто спит, тот обедает.
Владик изобразил на изможденном лице что-то напоминающее улыбку, но вдруг остановился и, глядя на Николая, сказал:
– Через два-три дня я с соседом поеду в село на менку, вернее, помочь ему. Я свободно говорю по-немецки и нужен ему как тягловая сила и переводчик на всякий случай. Обещает кормить и посулил ботинки. Возвращусь через пару недель и зайду потолковать.
Владик боязливо глянул по сторонам и быстро простился.
– Он хороший и умный парень, но растерялся, раскис, а жалко, пропасть может. Ему надо помочь найти себя, но первым долгом подкормить малость. Пусть сходит в село, а потом непременно я займусь им. – Николай долго шел молча, о чем-то напряженно размышляя, потом резко повернулся ко мне, продолжил: – Как ты думаешь, разрешат мне заняться Владиком? – И, не ожидая ответа, сказал твердо: – Будет он подпольщиком. Я постараюсь, а ты мне поможешь.
Однако планы Николая не сбылись. Через месяц мы узнали, что Владик с матерью в своем доме отравились угарным газом. Был ли это несчастный случай, или самоубийство – никто определенно сказать не мог, но мой друг искренне горевал по поводу гибели товарища, и мы замечали, что он терзался угрызением совести, хотя ни в чем не был повинен перед Владиком.
* * *
У Николая появился новый товарищ – Валек. Я спросил у него об этом парне.
– Мировой пацан, – ответил он охотно. – Моложе нас, но хлопец что надо. Смелый, толковый и «без языка». О нашей организации он не знает, но мне кое в чем помогает. Вот познакомишься, он и тебе понравится.
Потом Николай сказал, что они с Вальком достали 5 гранат, еще через несколько дней сообщил, что Валек принес 10 коробок патронов. Все Валек да Валек. Решили узнать этого паренька поближе.
Приходим с политруком к Николаю – и удачно: застаем его вместе с новым товарищем. Познакомились, но разговор не клеился. Даже Владимир, всегда умеющий находить общие темы для разговора с совершенно незнакомыми людьми, молчал, изучающе поглядывая то на Николая, то на Валентина. Мне показалось, что я его уже где-то видел. Потому и спросил:
– Послушай, ты не в нашей ли, одиннадцатой, школе учился?
– Да. Перед войной в седьмом классе был.
– Родители у тебя есть?
– Есть мать и сестренка меньшая. Живем на Стекольной колонии.
– А отец?
– В тридцать седьмом забрали, и ни слуху ни духу.
– А ты чем занимаешься? – спросил политрук, не отрывая взгляда от Валька.
– Кражами! – не моргнув глазом, брякнул новый знакомый.
– Кражами? – переспросил политрук, недоумевая.
– Да, кра-жа-ми, – чеканя каждый слог, ответил Валек, удивляясь: неужели, мол, непонятно?
Николай вдруг несколько раз кашлянул и, краснея, робко вмешался в разговор:
– Понимаешь, Вова, они воруют только у немцев… Продукты, обмундирование и даже оружие.
– Кто это они?
– Я и мои товарищи, – спокойно ответил Валек и, недовольно взглянув на Владимира и меня, не простившись, ушел.
– Ну и дружка ты приобрел, – в замешательстве проговорил политрук и развел руками. – С таким другом быстро угодишь, если не в гестапо, так в полицию. И сложишь там голову не за понюшку табаку. Это как пить дать.
– Воры – народ хлипкий, одного поймают, а он всех выдаст, – прибавил я.
Наши слова обидели Николая.
– Вы напрасно о нем так плохо думаете. Валек – настоящий парень. С ним можно в огонь и в воду – не дрогнет! Я уже испытал его. А от дружков отважу и на правильный путь поставлю.
– Может быть, – недоверчиво сказал Владимир. – Но сейчас нет времени перевоспитывать. Ты хоть с Анатолием говорил о Вальке?
– Да. Он только запретил упоминать о нашей группе.
– Ну, это само собой разумеется.
Николай был доволен концовкой разговора и даже хитровато подмигнул: моя, мол, взяла.
…Вскоре пришлось вновь встретиться с Вальком. Вызвал меня командир, сказал:
– Пойдем оружие искать.
Мы пришли к сгоревшему зданию конторы химического завода, и тут я, к своему удивлению, увидел Николая и Валентина. Вместе спустились по ступенькам в подвал, но не до самого низа. Темно, сыро и немного жутко. Дно подвала залито водой. Валек сухо сказал:
– У меня есть свечка и несколько газет, это для освещения. Воды здесь немного… За одним пистолетом пойдет Коля, я ему рассказал, где лежит. А другой должен находиться за трубой, на той стороне подвала.
– А почему должен находиться, а не находится? – поинтересовался Анатолий.
Валек остановил на нем взгляд и, как мне показалось, сказал с оттенком насмешки:
– Прятал еще зимой, за это время и забрать могли. Не только вам оружие нужно.
– Кому это – вам? – спросил я, но в ответ Валек только многозначительно улыбнулся.
Командир начал поспешно разуваться, а за ним и мы с Николаем. Валек снял ботинки последним и, дав мне спички и газеты, сам со свечкой в руках первым шагнул в ледяную воду. Дно подвала густо усеяно кирпичом, трубами и разным хламом. Я поджег газету и светил вдоль толстой трубы, идущей на высоте полутора метров, а Анатолий обшаривал каждое углубление и выступ. Двигаясь вдоль стены, мы уже подходили к середине подвала, как вдруг донесся радостный возглас Николая:
– Есть, нашел!
Эти слова нас подхлестнули, и мы с Анатолием с еще большим усердием стали обшаривать каждый сантиметр стены, но понапрасну, видимо, кто-то уже забрал пистолет. Также осторожно ступая, мы направились к светлевшему квадрату выхода из подвала, где Николай и Валек, уже обувшись, рассматривали находку. Командир разочарованно вздохнул. Это был громоздкий, заржавленный шестизарядный револьвер без единого патрона. Заглянув в его ствол, командир сказал упавшим голосом:
– Очень большой калибр. К нему и патронов не достанешь. К тому же страшно тяжелый и неудобный.
Николай отнесся к этому более оптимистично:
– Ничего, ничего. Авось да пригодится.
– Второй пистолет был лучше, – заметил Валек. – Я в оружии не разбираюсь, но у того в ручку вставлялись патроны.
– Не в ручку, а в рукоятку, – поправил Николай.
– Ну пусть в рукоятку. Я постараюсь узнать: кто взял его.
Голос Валька звучал немного виновато. Разошлись мы по двое. В пути Анатолий заметил:
– А что, видать, Валек толковый малый.
– Да, пожалуй, – согласился я. – А револьвер, наверное, «противотанковый». Такой я у румынского офицера видел.
Через несколько дней ко мне пришел Николай и, улыбаясь, спросил:
– Не простудился, интеллигентик?
– А почему «интеллигентик»?
– Так Валек тебя и Вовку назвал после знакомства. Прямо так и сказал: «Какие-то засмоктанные интеллигентики».
– А теперь?
– Теперь у него мнение другое. У вас, я думаю, тоже мнение о нем изменилось?
– Парень, видать, что надо. Ты помнишь, как он политруку о себе выложил: вор, и все тут. Так может поступить только смелый, но неосторожный человек.
Николай задумался.
– Я ведь сразу сказал, что Валек башковитый и нужный нам парень. От воровской шпаны я его отшатнул. Немцы к ворам крайне жестоки и расстреливают за малейшую кражу. В городе пять человек расстреляли. На Химической колонии одного прямо на улице застрелили и два дня хоронить не давали, для устрашения других. А на вокзале невиновного убили. Какой-то сердобольный немец матери убитого дал буханку хлеба, и этим, наверное, очистил свою совесть. Так сказать, искупил грех. Они ведь «набожные», даже на солдатском ремне написано: «С нами бог».
Он насмешливо улыбнулся и продолжал:
– Валек наотрез отказался от дружбы с ворами. Они его посчитали отступником, обвинили в трусости и даже угрожали. Он же остался непреклонным. Я с ним по этому поводу много раз говорил. Однажды намекнул ему: будем заниматься другим и тоже опасным делом. Он меня понял и согласился быть с нами. Так-то…
– Нет, ты не думай, пожалуйста, что я хвастаюсь, – смущенно добавил Николай. – Нет, просто приятно, что хорошего парня из болота вытащил. Вот увидишь, он полезным человеком будет.
Я дважды спрашивал о револьвере, но Николай уклонялся от ответа, а потом со вздохом сказал, что он неисправный, сломан боек, да и патронов к нему нет.
Впоследствии Валек получил в нашей группе постоянную «прописку» и стал настоящим боевым товарищем. Он выполнял опасные задания, проявляя удивительную смелость, сообразительность, и всем ребятам пришелся по душе.
В начале лета 1943 года полиция арестовала бывшего товарища Валька из воровской братии. На допросе он в числе соучастников назвал и Валентина, но высказал предположение, что тот переметнулся к «политическим», то есть к партизанам. Обосновал догадку тем, что однажды вытащил у Валька из кармана листовку, что тот с блатной братвой перестал водиться.
От знакомого полицейского Николай узнал, что его другу грозит опасность, и Вальку было предложено немедленно перейти на нелегальное положение.
Теплой летней ночью он осторожно пробирался домой: надо было переодеться, взять спрятанный в сарае пистолет, а потом хотя бы на время покинуть город. Легкий стук – и испуганное лицо матери показалось в окне.
– Где ты бродишь, что натворил? – тревожно спросила она, в потемках целуя сына. – Ищут тебя. Полицейские приходили, и немцы на мотоцикле приезжали, обыск делали, но ничего не нашли. Забрали золотой перстенек и серьги, что еще твой отец подарил. Сказали, что как только ты явишься в полицию, так и отдадут эти вещи.
– Мам, – перебил ее Валек, – дай поесть. Найди серую рубашку и пиджак в полоску, мне надо уходить.
В этот момент за дверью раздались голоса:
– Открывай! Немедленно открывай – стрелять будем!
Валек прижался к стене и слегка выглянул в окно: двое вооруженных полицейских стояло около двери, а один у самого окна.
– Дом окружен, открывай! – неслось со двора.
Мать, дрожа, металась по комнате и причитала:
– Что же будет… Что же это будет… Заскочив в спальню, окно из которой выходило на улицу, Валек открыл его и выпрыгнул. В тот же миг раздался выстрел. Раненый Валек был схвачен. В полицию его доставили без сознания. Опасаясь, что предполагаемый подпольщик умрет раньше, чем они успеют у него что-либо выведать, полицейское начальство распорядилось немедленно отправить его в больницу.
Когда кризис миновал и врачи заверили, что парень наверняка выживет, у его постели появилась охрана. Круглые сутки двое полицейских, сменяя друг друга, дежурили около Валька, не допуская к нему никого из посторонних.







