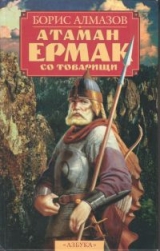
Текст книги "Атаман Ермак со товарищи"
Автор книги: Борис Алмазов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Этот еще куда страшнее сотворил: пожег все деревни на Косьве-реке, переправился через Каму на Обву, там все пожег, оттуда пришел на Яйву и воз-вернулся на Чусовую – все пожег, разорил, все впусте оставил…
Кучум все племена подзуживает, и поднялись они, деи, веема! Живут-то от слободок близко. Места тамо лешие, а строгановским людям и крестьянам из острогов выхода не дают, и пашни пахати и дров сечи не дают. Приходят числом невеликим, а беды творят многие: лошадей, коров отгоняют, людей строгановских побивают, и промысел у них в слободах отняли, и соли варить не дают.
Вот в таком мы нонеча художестве!
Потому внуки Аники Строганова Максим Яковлевич да Семен Григорьевич слезно Государя умоляли разрешить им воинских людей ради оберегу своего призывати. На то Государь и грамоты выдал: «Которые охочие люди похотят идти в Аникеевы слободы в Чусовую, и в Сылву, и Яйву на их наем, и те б люди в Аникеевы слободы шли…»
Вот так-то я к вам и припал. По присылке Максима Яковлевича.
С берега закричали сменщиков.
Ермак и Черкас разулись, прыгнули через борт. Прохладная вода приятно холодила ноги.
– Во, атаман, – шутил воровской казак Лягва, – на табе лямку – моя вовсе не чижолая…
– Спаси Христос, – шутя благодарил Ермак, продевая в лямку широкие плечи.
– Будьте в надеже! И проходку для вас специально предоставили. Вишь, все камушки убрали. Ступайте по песочку гулять.
Привычные тянуть и знавшие законы бечевы казаки по запевке вожака:
А вот, братцы, дело нужно…
А вот станем тянуть дружно, —
крякнули: «Ай-да, да ай-да!» и пробежали несколько шагов, сдернув струг с отмели…
Ай вот, браты, не ленись…
Ай вот дружно потянись…
Крякнули: «Ай-да, да ай-да!» Пробежали еще шагов с десяток, разгоняя судно. Струг набрал ровный ход через пять-семь подергиваний. И дальше стало легче – нужно было только идти упираясь грудью в лямку и не надсаживаясь – ровно.
Вожак – бурлак изрядный, исходивший не одну тысячу верст, чутко ловил все мельчайшие изгибы реки, изменение течения. Он подкрикивал, подпевал, когда нужно было приналечь или усилить движение, чтобы не терять заданный стругу разгон. Но течение было небыстрым, и тянули сравнительно легко.
– Что примолк, сынушка? – сказал Ермак Черкасу, когда они стали на ровный ход и отдышались от первых тяжелых рывков.
– Да вот, батька, как получается, – сказал Черкас. – Я про Строгановых этих. Богачество-то непременно от сатаны. Он их заманивает в геенну-то, вишь, и в какую силу допустил – выше княжеской, а нонь предал… Пошли и у них разорения да нестроения.
– А может, Господь от них отступился, как они после смерти родительской спориться начали?
– Може и так.
– Ну и что?
– А и то, что мы навроде как им потрафлять идем. Как псы, пра… Богачество ихнее стеречь.
– Во как вывел, Соломон премудрый, – засмеялся Ермак, сверкнув молодыми зубами в седеющей уже черной бороде. – Кто ж тебе про богачество-то гутарил… Что, мол, его охоронять идем?
– Да наемщик давеча…
– «Наемщик», – передразнил его Ермак. – Ты-то что, холоп его, что ли? Ты – казак вольный! А воля – это, брат, испытание от Господа, чтобы ты свою волю с Его соизмерял. Чтобы постоянно сам размышлял, что по воле Господней, а что по греху твоему. Вот то-то. – И, пройдя несколько шагов, добавил: – Что ж ты меня на атаманство выбирал, а теперь сомневаешься? Я что вас, в холопы, во псы строгановские веду? Никогда я холопом не был! И в холопах не служивал! И ничьего богачества оборонять не стану. Мы не сундуки да промыслы сторожить идем. Мы людей спасать идем, кои оборониться сами не могут. Трудно оборониться… Знашь, как энти басурмане налетают? Хуже пожару.
Атаман умолк и задумался о своем, повесив голову на грудь, положа бороду под просунутые под лямку скрещенные руки…
Как у наших у ворот
Есть на озер поворот… —
пропел-прокричал вожатый. И бурлаки подхватили, принимаясь шагать все в такт:
Реченька бежала,
Дорожка лежала…
И закачался, пошел плотный строй бурлаков:
Как по етой по дорожке девки воду носят,
И Танюша, и Манюша, еще Фокина жена…
Ермак подпевал негромко, а думал о своем. И плыло перед ним давно прошедшее, что болело и плакало, теперь уже привычно, в самой глубине души, в самом тайном страдании…
Плескал ласковой мелкой рябью Дон-батюшка, и на берегу дымил под таганом костерок, и висела на прибрежной длиннокосой иве люлька, а женщина, маленькая и стройная, полоскала под берегом белье.
Ермак подгреб к ней на лодке-долбленке, и она пошла ему навстречу в шелковые волны, чуть не по пояс, сияя огромными синими своими глазами поверх знуздалки. Потянулась к нему вся, как маленький ребенок, и прижалась, будто к стене, к его широченной груди. Так и стояли они, он – в лодке, набитой добычей и рыбой, она – стоя по пояс в воде…
И понял тогда Ермак, что любим – неистово, верно и навсегда… И какой бы ни пришел он в свою полуземлянку, его всегда ждут – и здорового с удачей, и убогого с бедой…
Был у атамана дом, а в нем – маленькая женщина, с которой вели они жизнь на шелковом берегу благословенной реки. Которую и он не предал, не обменял свои воспоминания на суетные радости другой любви, потому и веровал твердо – там, на небесах, она выбежит ему навстречу, и протянет руки, и прижмется, как тогда на Дону… Что, уйдя из мира живых, она где-то… Она ждет… и он обязательно придет к ней…
Казанские сироты
Волга была переполнена воинскими людьми, чуть ли не каждый день попадались караваны стругов, набитые стрельцами, детьми боярскими. И если на Низу почти безраздельно господствовали казаки, то здесь, за Самарской лукой, стояли посты московские, по берегам, и слева, и справа, возникали конные стрелецкие разъезды, и отвечать на их расспросы приходилось точно и быстро. Вот тут-то и пригодилась царева грамота на верстание воев Строгановыми для обороны городков соляных. Казачьи струги пропускали невозбранно, но косились на казаков и в любую минуту могли открыть по ним огонь (за ради бунта черемисского на всех стрелецких стругах пушек да пищалей было в избытке, и фитили все время зажжены); только крикни воевода: « Целься -пали!», как ахнет с высоких бортов московских кораблей смертоносный свинец.
Опасливо косясь на жерла пушек, проплывали казаки в низко сидящих своих суденышках мимо крепких бортов государственных кораблей.
И хоть Кольцо и бывшие при нем казаки, разорившие ногайское посольство, из опасения быть кем-то узнанными старались на глаза стрельцам особенно не лезть, а все же меж собою толковали, что поступили, убираясь с Волги, правильно. Видно было, как сходятся на великой реке несколько сил: Государство Московское, черемиса и ногаи, и в этой заварухе казакам несдобровать, а примыкать к одной из враждующих сторон не хотелось. Черемисов понимали, сочувствовали, но многие были в недавнем прошлом люди московские, и вряд ли были бы повстанцами приняты… да и совесть не велела противу родины идти. Ну а с ногаями при ином времени могла быть и дружба, и союзничество, да только не теперь, когда уже два года по всему Яику и в междуречье Урала и Волги шла ежедневная кровопролитная казацко-ногайская война. И любой казак, пойди он к ногаям, тут же стал бы пленным или ясырем для обмена на пленных ногайцев.
Ермак знал еще и о другом: если первый стрелецкий ноет встретили у Желтой горы, а видели конные разъезды московские еще и на Переволоке, за которой следили со тщанием, – про их караван в Москве ведают. И раз перепон не чинят – стало быть, Москву их поход на обороны строгановских вотчин и Пермских городков вполне устраивает. Предполагал он, что, возможно, будет из Москвы какая-нибудь весть или приказ, а вестник перехватит казаков где-нибудь в устье Камы. Но никак не ожидал, что на Каме его переймет сам дьяк Урусов.
Сначала Ермак его и не узнал. Урусов был с отрядом служилых татар, в татарском платье, и сложно было отличить дьяка московского, дьяка думного от коренного казанца. Поэтому, когда к берегу подскакали татары и позвали Ермака-атамана, Черкас сказал удивленно:
– Во! Нас татарва уже поименно знает.
Ермак причалил к берегу, и только тут, среди татар, узнал своего казанского приемыша.
А уж сели поговорить, когда остановились на ночлег в прибрежной русской деревне, где поджидал Ермака думный дьяк.
Поужинали, поболтали о чем-то пустяшном. Ермак не торопил, зная, что хоть и говорит дьяк, что приехал в Казань сопровождая посла московского, а зря, в татарское платье переодевшись, скакать на Каму не стал бы. Но с расспросами не торопил – не по чину было и не по возрасту.
Вспоминали Казанское взятие.
– Царь тогда другим был, совсем другим! – сказал Ермак. – Я его помню. Перед войсками проехался в доспехах сияющих – молодой, огненноглазый! Мы тогда за ним в огонь и в воду были готовы, и на стену, и на смерть. А потом, вишь, что в стране чинить начал…
Дьяк Урусов уклончиво не ответил.
– Тогда казалось: вот возьмем Казань, и новая жизнь пойдет, без вражды, сытая, по закону, по совести! Главный раздор, главная всему причина – Казань ордынская – супостата гнездо!
Урусов усмехнулся:
– Примерно так и в Казани считали! Только наоборот. Отстоимся в осаде, подойдут главные силы союзные, и сокрушим рать московскую; будет мир, закон и покой… Ну, а потом как пошло рваться да гореть! Я кроме грохота да взлетевшей вверх стены остальное помню смутно. Пожар – помню! Кинулся к дому, а там горит все да рушится. Я к отцу на стену бегал, а дом-то и сгорел. Отец меня со стены гнал. Он как раз с русскими кожевниками на стене стоял. Татарский отряд и русские, что в казанском посаде жили, эту стену обороняли. Я побежал домой, тут стена в воздух и поднялась.
– Да!.. – сказал Ермак. – Я это очень хорошо помню. Я тебе раньше сказывал: как раз под этой стеной и отец мой погиб, Тимофей. А я с казаками рядом стоял, как раз в пролом идти готовились. Ждали, что наши из подкопа вылезут, а уж потом стена взорвется, а вышло наоборот. Из подкопа дымом потянуло, да как грохнуло – и стены нет.
Ермак ясно помнил тесные ряды казаков, их возбужденные ожиданием лица, с которыми пошли они, теснясь и увлекая его, еще не понявшего, что отца больше нет, туда – в пролом, в пожар и кровавую сечу.
Сначала шли, тесно проламываясь через такие же тесные ряды казанцев, прикрывавших улицы у стен, но за их спинами стал полыхать пожар, и стена рассыпалась.
Задыхаясь в дыму, Ермак бежал в глубь города. Отбивал удары сабель, отмахивался бердышом от копий, сам с маху рубил какие-то неясные в дыму силуэты, только по сопротивлению древка понимая, попал или нет. Бежать становилось все теснее: слева и справа подымались стены огня. Ермак оказался в огне один… тут-то и увидел мальчонку, который, обезумев от ужаса, ползал по бревнам мостовой и кого-то звал и причитал по-татарски.
Ермак позвал его по-кыпчакски – мальчонка поднялся и пошел ему навстречу, вытянув ручонки. Ермак схватил его на руки и укутал чепаном, стал прорываться сквозь дым и пламя, назад, за стены города.
Потерявши шлем, спалив волосы, полузадохнувшийся, вырвался он за стены города через пролом и только тут понял, глядя на обвалившийся подкоп, что отец погиб…
– Если бы не ты, – сказал Урусову Ермак, – я бы тогда с горя умер! На копья бы кинулся, под сабли пошел. А ты махонький, больной… Я, пока тебя выхаживал, и сам в разум вернулся…
– Да… – протянул дьяк. – Мне всегда перед несчастьем каким отец снится. Предупреждает меня. А так я лица его не помню – забыл. Во сне отца узнаю, а проснусь – и не помню…
Они сидели в сумерках на бревнах, что приготовил хозяин крестьянского двора, собираясь складывать сруб.
– Вон как, – сказал Ермак. – Сколько людей положили! Мы с тобой отцов потеряли… Думали, будет жить лучше, а вон какой разор идет… А что после Казанского взятия началось… Как Новгородское да Тверское разорение вспомню, мурашки по спине бегут!
Государев дьяк не отвечал. Не положено ему было в такие разговоры пускаться.
– А кабы не взяли тогда Казани – крови не меньше бы пролилось! Так же на беду бы вышло! Вон у татар что творится! Режут друг друга почище московских!
– Это верно. Резня идет страшенная! И в Сибирском Ханстве, и в ногаях! И когда все утихнет, непонятно…
– Ты с чем пожаловал? – спросил Ермак. – Неуж только повидаться?
– И повидаться тоже! – вздохнул Урусов. Когда еще свидимся? Давно ли мы с тобой в Москве гутарили, а полгода как не было!
Они помолчали.
– Вот ты сам к тому вел, Ермак Тимофеевич, что все связано. В одном месте аукнется, в другом откликнется. Сибирское нестроение многим на руку! Там большие ковы противу Руси замышляются!
На Москве поймали польского лазутчика. Я его допрашивал, – буднично сказал Урусов. – Державы латинские на Кучума-хана большие виды имеют. Потому к Строгановым поехало на святках восемьдесят литвин, поляков и немцев из плененных в Ливонии мастеров. Лазутчик с ними работал, и там люди его есть. Им велено Кучумке в Россию ворота открыть. Как только Кучум на Москву пойдет – станут ему дорогу мостить да крепости открывать! Людишек местных баламутить…
– Вот те и край света! Вот те и места незнаемые! – засмеялся Ермак. – А тут, куды не кинь, всюду клин. С. войны на войну.
– Кисмет! Судьба! – сказал Урусов. – Человек в мир для испытания пришел, и несть ему покоя!
– Ну, и что делать станем? Что присоветуешь? – спросил Ермак.
– А что мне тебе, батька, советовать! Ты сам умей да опытен. Мое дело – предупредить. Связь мы перебили! Те, кого лазутчик ковы чинить подговорил, его слова ждут, да не дождутся.
Дьяк Урусов припомнил, как в пыточной избе в отсветах раскаленных углей, в густом духе угарной вони и паленого человеческого мяса шевелились два ката, два заплечных дел мастера, равнодушно и с ленцой делавшие страшную работу. Были они большие рукодельники и выдумывали такие муки, что, казалось, не было такого уголка в теле, куда не достала бы изобретаемая ими боль. Этих двоих ценили не только за умение пытать, но и за то, что оба были глухонемые, а потому ничего, что можно было услышать секретного, не знали и разгласить не могли.
Старенький писарь, давно привыкший к страшному делу своему, строчил, нанизывая одну к другой буквы расспросных листов. А расспросы вел сам Урусов, сатанея от запаха и вида чужой боли.
Поляк уже давно, со времени отъезда Антонио Поссевино, вызывал подозрения тем, что, по признаниям агентов среди пленных поляков и литовцев, ксендзом не был, а службу католическую правил. Любил ошиваться среди городовых казаков, стрельцов и воинских людей. Вел с ними разговоры сумнительные – прямо на бунт не подстрекал, но говорил, что бунты неизбежны. Расхваливал жизнь в королевстве Литовском.
Взяли его по пустячному поводу, потому и попал он на расспрос к Урусову, а опытный дьяк быстро сообразил, кто перед ним таков. И уж тут за поляка взялись всерьез. А взявшись всерьез – перестарались. Урусов вообще расспросов под пыткой не любил, им не верил… Но кроме него охотников порасспросить на дыбе было столько, что он вынужден был заниматься этим сам – чтобы хоть что-то узнать.
– Имена! – говорил он. – Имена тех, кого ты подговорил противу Москвы воровство чинить, среди людей литовских, коих Строгановым служить отправил…
Поляк был сломлен и, не отдавая отчета в том, что делает, выплывая из жуткой боли, отвечал…
– Еще кто? Еще? – кричал дьяк. Палачи поняли его волнение как приказ усилить пытку. Припекли железом, а поляк дернулся и обвис.
– Имен не назвал? – спросил Ермак.
– Кое-что. Так только, пять имен… Но есть наметки, что сговорил крамолы чинить иноземцев многих. Пять-то – враги истинные, а остальные в шатании. Все равно им – как повернет.
– А чего ж все не сказал?
– Кат поторопился.
Они помолчали.
– Иноземцы что за люди? – спросил Ермак.
– Люди разные. Большинство – католики. Но другие Ватикану и папе не подвластны. Немцы, датчане. Они ни при чем, не причастны, на них и думать неча! Ну а там сам разберись. Знаешь ведь, что не тот враг страшен, что перед лицом твоим, а тот, что за спиной.
– Ох, задал ты мне задачу! – прокряхтел, поднимаясь, Ермак. – Коренные-то казаки не выдадут, а голутва со своими атаманами, сам знаешь, – солома. Чуть огонь поднеси, и пыхнет!
– То-то и оно! – согласился Урусов. – Потому я и поспешал, чтобы вместо защиты Пермских городков набег на них не получился! Как забунтуют казаки, да как пойдут по городкам – вот и выйдет, что ты их привел…
– Голутва на уговоры падка! Я это повсюду видал, – сказал Ермак. – Вот ведь какая она, жизнь! Едва одну беду избыли, едва от Шадры отбился – родовые юрты через то покинуть пришлось, чтобы крамолы на Дону не поселить, а крамола нас впереди ждет!
Солнце скатывалось, звезды становились ярче. Пастух пригнал стадо, и бабы с ребятишками загоняли скотину во дворы. Казаки на берегу у стругов повечеряли и затянули песни.
– А может, так, – предложил Урусов. – С тобой Кольцо идет – он в сыске. Отсеки его стрельцами, да что там… Отойди побыстрее выше, а стрельцы его с голутвой переймут. Ты и прибудешь со своими на пермскую службу, как в Москве сказывали! А? Вот крамолы избегнешь и, как государев человек, можешь в строгановских вотчинах сам сыск учинить, а грамоту я тебе дам – противу литовских людишек. А тамо и служить начнешь безопасно! – И, чувствуя, что Ермак не ответит, добавил: – Уж в спину не ударят…
«Вот что служба-то московская с людьми делает, – подумал Ермак. – В его деле нет ни друзей, ни врагов, а есть интересы державы. И ежели в этом интересе будет нужно завтра сделать литовских людишек героями и лучшими друзьями – дьяк с ними на паперти христосоваться начнет. Как было с Кольцом: велели ногайские и прочие струги на Волге топить – он и топил по приказу государеву, а случилось замириться – он, Кольцо, и виноват и к плахе предрешен! Но одно дело дьяк умный Урусов, иное – вольный казак, атаман Ермак Тимофеев…»
– Нет! – сказал Ермак. – Что тебе возможно, мне перед Богом —■ грех, перед людьми – поношение. Я же крест целовал! Атаман не воевода, а отец, как же я одних детей своих на казнь обреку, а других к славе определю! Никак это мне не возможно!
– И я не изверг, – играя желваками на скулах, сказал Урусов, – жертвовать приходится малым ради большего, одним дитем – ради всех! Знаешь, как лиса, в капкан когда попадет, да лапу себе и отгрызет!
– Эва, – засмеялся Ермак. – Ради воли чего не учинишь! – И, стерев с лица улыбку, спросил: – А ты видал, на что лиса безногая опосля годится? И долго ли она с того проживет, без ноги-то?
– Государь в жертву многое приносит, – побледнев так, что даже в сумерках лицо Урусова словно засветилось, сказал дьяк. – Государь многие жертвы приносит, ради большего…
– Человек волен только свою голову в жертву приносить, и то по воле Божьей. А Государь многое в жертву приносит – себе в угоду! Сыноубийца – Государь московский! Вот его Господь и покарал!
– Я речи, поносные Государю, слушать не могу! – сорвавшись на шепот, произнес дьяк.
– Да что ты?! – сказал спокойно атаман. – Что ты? Разве я чего говорил? Чего ты сбаламутился? Мы вот тута с тобой сидим, и что промеж нас, с нами и умрет. Чай не в приказе, на вольном воздухе…
– И стены уши имеют!
– А где они тута, стены? – засмеялся Ермак и серьезно добавил: – Я старый уже, не сегодня завтра перед Господом предстану! А там не оправдаешься. За грех твой спросят, что ты содеял… Как ты заповеди нарушил. Спрос-то на Страшном судилище с одного идет, с каждого… Там ни державой, ни пользой не отговоришься. Я своего греха боюсь! А и то, – сказал он, как бы заканчивая разговор. – Сколь живу на свете, столь про пользу державе слышу, и всегда-то этой пользой свой грех оправдывают. О себе пекутся.
– Ия, что ли? – вскипел дьяк.
– А хоть бы и ты! – прямо глянув приемышу в глаза, сказал атаман. – Ты – человек казенный, ты присягал крамолу известь, вот ты и стараешься. Вот он – твой интерес и правда! И худого в том нет! И за то, что радением своим ты служишь и за службу пожалован будешь, – без греха. Грех в том, что ты дело свое выше Господня слова поставил.
– Какого слова?
– Заповеди Господней, да и не одной! Первой – «не убий». Куды казаки, мной отданные, пойдут? В казнь лютую! Стало быть, мы с тобой убийцы сделаемся истинные. Как-то навроде топора бесчувственного – на нем греха нет, он не в своей воле. Но мы-то – в своей! С нас и спрос. А вторая заповедь: «Не сотвори себе кумира ложна». Ну-ко, в сердце своем признайся – а не ложному ли кумиру служишь?
Они замолчали, потупясь.
– Я Государю и державе его служу! – сказал, как бы оправдываясь, Урусов.
– А разве может правда Государя против человека государева идти? Ты вот перед каждым делом своим себя заповедями испытывай! Так ли что делаю?
– Эдак я и делать-то ничего не успею, пока размышлять стану да прикидывать, – бледно улыбнулся дьяк.
– Греха не сделаешь лишнего! – не принимая его улыбки, сказал Ермак. И, поднимаясь, добавил: – Вот так-то, сынок! Пойдем-ко на люди! А то скажут опосля: «Дьяк с атаманом сговор имел».
– Ты человек известный! Государю служишь! – сказал, поднимаясь, дьяк.
– Я – казак! А про казака нынче одно говорят, а завтра другое. Нынче – в славе, завтра – в канаве. А за весть – спасибо. Спасибо, что сам приехать не поленился.
– Ты мне, чай, не чужой! – дрогнувшим голосом сказал дьяк.
– И у меня кроме тебя и ближе тебя никого нет, – сказал Ермак, почему-то по-кыпчакски. Хотя весь разговор, который бы и надо скрывать, вели по-русски.
Они обнялись.
– Чего делать-то думаешь, отец? – спросил Урусов.
– Ничего, – спокойно ответил Ермак. – Когда не знаешь, как поступить, ничего не делай! Крепись да Богу молись. Господь вразумит. Чего сейчас попусту голову ломать? Предупредил меня, и хорошо. А чего делать? Когда будет нужно, само явится.
Они спустились к Волге, где у костров сидели казаки, наслаждаясь теплым летним вечером, чувствуя речную красоту и простор, подставляя лица ласковому влажному ветерку, дующему с воды…
– Чего татарин приезжал? – спросил Ермака Иван Кольцо, когда они остановились на ночлег под высоким камским берегом.
– Да так! Это сродственник мой! Попрощаться приезжал! – ответил Ермак.
– А чего с нами прощаться? Мы не на погибель идем.
И вдруг, по-волчьи повернувшись всем корпусом, чуть не клацнув зубами, прошептал:
– Смотри, ежели измену какую задумал, я тебя достану! Из-под земли достану! С того свету приду!
– Да ладно тебе страхи-то на меня пущать! – засмеялся Ермак. – Я не младенец, рыков-то твоих пужаться. Сам себя не пугай…
В соленых вотчинах
По всему выходило: готовит Кучум большой набег на Москву. Как ни удивителен казался его замысел, а Ермак понял – может Кучум-хан Москву взять. Прошлогодние набеги в июле Бегбелея Агтакова на реку Сылву, когда его повстанцы приступили под Сылвенский острожек, под Чусовские городки, – не случайность. Городки он не взял и взять не пытался, потому как воинских людей не имел, а шли с ним бунтовщики – вотяки да остяки. И хоть число их было большое – до семисот окружных людей, а стены для них были неприступны; ино дело – деревни да солеварни беззащитные. Пожгли они села многие, угнали в полон множество русских поселенцев, да и своими же вотяками и остяками не брезговали – много пленников увели в татарские улусы.
Разбили их Строгановы быстро, да и самого Бегбелея в полон взяли. Однако через месяц другой хан, теперь уже из-за Камня, Пелымский князь Абылгерим жег села на Косьве, а потом на Каме, на Обве, на Яйве, пока не вышел на Чусовую.
Это было куда более глубокое вторжение. И здесь шли уже люди воинские, умелые. Потому едва они не взяли Чусовой острог. Заполыхал весь Пермский край. Не случайно умолили Царя Строгановы разрешить звать на помощь казаков. Это была единственная надежда отбиться.
Но Ермак понимал и другое: набеги из-за Камы – не случайность. Еще пойдут, и еще, и еще… И только
потом, подняв все местное население, убедив его в том, что московские вой ничего не могут поделать, не могут защитить вогуличей мирных, остяков и вотяков и местным народам волей-неволей придется выбирать: либо жить при ханах, либо погибать при купцах, – тогда пойдет стремительный конный поход на Москву. Набег будет разрастаться, как степной пожар, – к ядру татарских конниц и Кучумовой гвардии присоединится все, что бродит окружного по окрестностям Казани, все поволжские повстанцы, вся черемиса, прорвутся с юга ногаи; и все это хлынет потоком крови на Русь – в Москву. Где еще и стены все в осыпях проломов и потоках смоляных после набега Давлет-Гирея, где еще не все срубы в посаде под крыши подведены после Крымского разорения!
Об этом не раз говорил Ермак атаманам. Кольцо, как всегда, спорил, не соглашался – где, мол, татарве немытой по Москву ходить. Но остальные помалкивали, чувствуя, что Ермак прав.
– Мало кто тута на городки налетает! – говорил Кольцо. – И через чего ты думаешь, что это все к татарскому набегу дорога? Да в таких местах леших завсегда инородцы на русские крепости набегают!
– Ваня! – отвечал Ермак. – Инородцы – неволей идут! Ты на воев погляди. Ай они тебе незнаемые? Али не таких ты в саратовских степях гонял? Не одного ли это с ногаями поля ягода?
– Хоть бы и так, а чем докажешь, что они к Москве пригребаются?
– А вот так помыслим: сразу Орда в поход не кинется! Она себе дорогу многими набегами мостит. В прошлом году набеги в июле совершались, и нонь – июль! Слышь, атаман, не вогуличи, не вотяки, не иные народцы, а коренные сибирские вой. Набегом татарским. Коли нет – надевай мою шапку!
Ударили по рукам.
– Располагаешь, что мы под набег идем? – спросил Ермака осторожный Мещеряк.
– Как раз под него! – убежденно ответил Ермак. – Не сегодня завтра с татарами столкнемся! И будут это не прошлогодние сибирские люди, а истинная конница татарская. И станет она весь край жечь, чтобы было где при набеге на Москву силы собирать, из-за Камня перешедшие, и с Волги, и с Яика! А вот уж отсюда прямо на Москву мимо Казани пойдут!
Атаманы не спорили, не возражали, понимая, что лучше лишние предосторожности принять, чем потом мертвых собирать. Потому конные разъезды пускали во все стороны на тридцать верст – на дневной переход. Держали у пушек недремные караулы. При ночлегах на стругах на берег сходила только половина гребцов. Да и та спала с оружием в обнимку.
– Робяты, не оплошайте, – говаривал Ермак, когда видел в глазах казаков недоверие и скуку. – Хуже нету, когда не знаешь, где враг. Уж сойдемся лицо в лицо – тогда проще!
По берегам попадались дотла выгоревшие поселки при солеварнях. Буйно затягивал пепелища малиновый иван-чай. Издалека виднелись его пылающие свечи; там под высокими цветами лежали среди обгорелых бревен обглоданные зверьем и дождями человеческие кости мужиков русских, остяков да вогуличей… Попадались среди скелетов и детские, и женские – война никого не щадила.
– Вот тебе и солеварницы! – сказал как-то Яков Михайлов. – А ведь соли этой тут пропасть, на всех бы хватило, когда по уму да по-доброму!
Июль кончался, пали первые росы. По утренней росе и примчался дозорный казак, слетел с коня перед атаманами и, словно боялся, что близкие враги услышат, прошептал:
– Татарва многими силами на броды вышла!
– Кто? – только и спросил Ермак.
– Языка взяли, сказывают, Алея-хана вой. Алея! Он не то сын, не то племяш Кучумов!
– Племяш Кучумов, – засмеялся, ощеря мелкие зубы, Мещеряк, – а супостат – наш!
– Вот тебе, Ваня, мой доказ! – пробегая мимо Ивана Кольца, пообмигнул Ермак. – Давай-ко конно по берегу, а мы на стругах!
Решено было дать Алею войти в реку и, ударив конно и со стругов, постараться побить его в воде, на переправе.
К вечеру выгребли на броды. Большая часть татар уж переправилась, остальные беспечно перевозили на плотах амуницию, стараясь не замочиться, тянули в поводах коней. Кони фыркали, испуганно ржали, теряя под копытами дно, плыли за плотами, тревожно насторожа уши.
Алеевская пехота набивалась на плоты так, что едва не переворачивала их. Страх был совсем утрачен. На плотах стояли смех и шутки.
Лучники толкались, спихивая друг друга в воду у берега. Командиры покрикивали на них. Но видно было, что молодые ребята в войне небывальцы, потому и весь поход, и переправа кажутся им забавою. Видать, им удалось уж разорить какую-то деревню не то солеварню – на нескольких кольях, которые торчали на берегу, уже было насажено с десяток голов.
Старым волчьим обычаем казаки обошли беспечное войско, как загоняют стадо на водопое, и, опять-таки по-волчьи, растянувшись полукольцом, не спеша подошли к переправе. В это время половина гребцов, высадившись на противоположном берегу, плотными рядами подошла на расстояние выстрела. Вровень с ними выгребали струги.
Татары шли настолько беспечно, что даже не выставили боевое охранение. Сторожа закричали, когда струги борт в борт уже шли поперек всей реки.
Ермак поднял и установил на бердыше тяжелую пищаль и без команды, первым, поднес к ней фитиль. Зашипел порох, пыхнуло пламя, и грохнул тяжелый выстрел, пошел с визгом свинец. Ахнуло с берега. Ударом ядра, попавшего точно в толпу на плоту, взметнуло оторванные руки и головы, будто брызги от густой каши. Еще два ядра ударили в лодку и в толпу у воды.
Плоты начали переворачиваться, татары, в большинстве своем не умеющие плавать, хватались за коней, кони бились и давили в ужасе пловцов.
С воем и свистом пошла к переправе конница. Ермак, отбросив пищаль, взялся за самострел и вбивал тяжелые болты в мешанину тел, почти не прицеливаясь, зная, что каждая полуфунтовая стрела-болт прошивает двоих-троих человек!
Татарин в красном архалуке, кружась на дорогом высоком коне, махал нагайкой, выстраивая переправившихся конников для контратаки, но пешие казаки пробежали навстречу ему и с полета шагов, припав на колени, дали второй, плотный и точный, залп.
Опытный Алей не стал испытывать судьбу, а, махнув нагайкой, приказал отходить от переправы, бросив на произвол судьбы пеших и раненых. Увидя, что вся татарская конница, разом повернувшись, пошла от реки, пешие кинулись врассыпную к лесу. Поймать их не было никакой возможности, потому что бежали они налегке, побросав все доспехи и оружие, мгновенно исчезая в густых зарослях.
Народ это был местный, лесной. Все им было тут знакомо и ведомо. Сыскать их, да еще в вечерних сумерках, казаки и не пытались. Раненые же потонули -прежде, чем успели их вытащить из широкой реки.
На стругах протрубили сбор. Собрались на пологом песчаном берегу. Разгоряченные боем, казаки отмывали пороховую копоть, смеялись, обсуждая только что происшедшую стычку.
– А ить мы их не отбили! – сказал атаман Никита Пан. – Оне ить куды хотели, туды и пойдуть!








