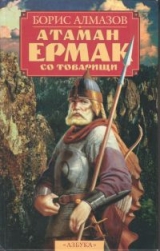
Текст книги "Атаман Ермак со товарищи"
Автор книги: Борис Алмазов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Казаки бились в степи и на реках не за жалование, но жалованием не гнушались, потому как русские казаки без хлеба обходиться не могли. И все степные жители пороха сами не терли.
Однако в царевой службе были свои неожиданности.
Так свято выполнялся приказ-просьба Москвы о том, чтобы с Каспия из ногаев ни конный, ни пеший, ни караван торговый на Русь не шел, что казаки из отрядов Ивана Кольца, Никиты Пана, Богдана Бар-боши и Саввы Сазонова Волдыря тронули караван, идущий к Волге.
Дело было ночью. И проведшие разведку казаки не могли знать, что в караване вместе с лютыми врагами – ногаями возвращается русское посольство боярина Пелепелицина.
Твердо веруя, что действуют по обычаю и государеву попущению, казаки внезапно набросились на караван и разграбили его.
Персидские сардары и ногайские уланы не успели выхватить сабель, как пали, изрубленные казаками. В крике, огне и сутолоке боя казаки так и не поняли, какой грех совершили!
Да был ли грех-то?
Не сработала московская служба связи – казаков не предупредили о посольстве. И они, одержав победу, веруя, что честно и правильно выполнили приказ, тут же отправили легковую станицу на Москву с докладом о победе и частью добычи. Во всяком случае, дорогие вещи, которые казакам были не нужны, они отвезли в Москву. Каково же было их удивление, когда оказалось, что это дары ногайского посольства.
Казаков взяли под стражу. А когда в Москву прибыл Пелепелицин с двадцатью пятью спутниками, уцелевшими от всего каравана, исходя из соображений государственной целесообразности, дабы убедить ногайцев в своем миролюбии и дружестве, казаков предали позорной смерти. Троих повесили. Эта смерть считалась легкою, но позорною, поскольку повешенных, как и утопленных, запрещалось хоронить на общем кладбище.
Неизвестно, как восприняли это известие казаки, которых всегда в Москве хоронили на татарском кладбище, но вот саму казнь они, совершенно справедливо, восприняли как предательство Москвы.
Им дела не было до дипломатии. Казаки не только лишились своих братьев-товарищей, но вместе с известием о казни на Яик прибыл приказ, в котором атаманы Кольцо, Пан, Барбоша и другие участники нападения объявлялись ворами противу Московского царства и на них учинялся сыск.
Оскорбленные, преданные союзниками казаки не замедлили с ответом, тут же подвергнув разграблению русские купеческие струги, что косвенно способствовало восстанию поволжской черемисы.
Так, цепляясь одно за другое, события нарастали стремительно. Волжское восстание потянуло за собой приход огромных сил московских стрельцов на Волгу.
От Казани на Низ, к Ахтубе и Каспию, поплыли плоты с виселицами и подвешенными за ребро бунтовщиками. Корабли, набитые стрельцами, сжигали прибрежные села по подозрению в соучастии и помощи бунтовщикам. Пошли погромы и поджоги, воцарился государственный произвол, к которому после Новгородского разорения, учиненного Иваном-царем, было не привыкать. Окровавились волжские воды, ждал беды и Яикушка.
Три силы с трех сторон сдавили малочисленную казачью общину. Извечный враг – ногаи; пылающее ненавистью, изнемогшее под тяжестью поборов Поволжье, крепко поддерживаемое Крымом и турками; и Москва, которая всеми освобожденными из-под Пскова силами тяжко двинулась на юг и восток.
Кипел и готовился к тяжким боям казачий люд. Теперь, уже не таясь и особо не рассуждая, били казаки и ногаев, и татар, и московских стрельцов, воюя одни – против всех!
Конечно, казаки понимали безнадежность и безвыходность своего положения, но это только придавало им силы.
Когда московские послы увещевали их, когда присланные из Руси священники призывали покаяться и покориться Царю, они яростно кричали в ответ:
– Мы люди решенные! Служим только Господу оружием, а боле над нами власти нет ничьей! Никому мы не покорны!
Старая философская идея о том, что смерть в бою очищает от всех грехов и павший за веру Христову тут же, немедленно, идет в рай, что сами святые угодники Николай, Георгий Победоносец и Иоанн Предтеча будут оправдываться за павшего в сражении казака на Страшном суде, придавала им отчаянную смелость. Возникла иллюзия, что казаки сами, сознательно, ищут смерти, причем чем безнадежнее борьба, чем призрачнее удача, чем страшнее смерть, тем охотнее шли они на нее.
Весть о строгановской наемке взбудоражила Кош-Яик, центр яицкого казачества, и расколола казачий Круг, поскольку мнения вызвала прямо противоположные. Таким и застал его прискакавший неделю спустя после Мещеряка Ермак.
Раскол
Мещеряк скоро понял, что если бы Барбоша и его соратники знали, с какой вестью он едет с Дона и какой раскол пойдет по яицким казакам, они, безусловно, убили бы его до того, как казаки узнали о наемке.
Днем и ночью стоял крик в Кош-Яике. Казаки собирались со всей степи, бросали самые дальние сторожи и бекеты и съезжались под земляные валы городка.
Половина кричала, что надо стоять против ногаев. Тем более что в Ногайской орде пошла какая-то замятия. Мурзы начали дружка дружку резать, и сейчас их следует бить поодиночке, вступая в союз с теми, кто собирается держать руку казаков.
Другие возражали, крича, что при малочисленности казачьих отрядов в степи не устоять.
– Да разуйте вы глаза, полоумные! – кричал громче всех молодой и горячий атаман Кольцо. – Ногаи давят, Волга кипит. Не сегодня завтра Казань подымется да как жиманет нас! Вот тады и повертимся…
– Дак иди в Москву! – кричат со смехом казаки. – Там по тебе петля плачет. Там тебе помянут персидский караван. И тебе, и Пану, и Волдырю.
Мещеряк понял, что назревает тяжелая, может быть, кровавая схватка. Потому все чаще взлетало над возбужденными казаками слово:
– Измена!
Сходилось все к одному – к Большому Кругу всего войска. Его ждали, чтобы внести ясность и дать точный ответ: идут казаки в Сибирь или нет.
Потому, когда ударили заутро тулумбасы, вздохнули с облегчением:
– Ну наконец-то!
На майдане гомонила пестрая толпа казаков. Сермяги здесь соседствовали с персидскими халатами, приспособленными для боя, с отрезанными полами и заправленными под пояса, толстыми стегаными чепанами, с нагольными полушубками и Бог знает каким тряпьем, на котором могло проглядывать золотое шитье. Полное пренебрежение к одежде – вот что отличало казаков, скажем, от стрельцов, свято сберегавших свои кафтаны. Иное дело – оружие. Было оно чуть не со всего света, но все в исправности и порядке.
Казалось, все, что придумано людьми для убийства, собралось здесь. Тяжелые сабли в сафьяновых ножнах, копья, пики, боевые косы, бердыши, пики-багры с урюками, боевые цепы, топоры на длинных рукоятках и совсем небольшие чеканы… Оружие метательное: арбалеты, луки от больших, чуть не двухметровых, до татарских сагайдаков, дробящие нагайки, кистени, калдаши… и почти у каждого – пищаль или рушница… А уж про ножи и говорить нечего: их рукояти торчали за поясами, высовывались из-за голенищ, из зарукавья, метательные висели связками на шеях.
У седел привязанных на длинной коновязи коней были приторочены на татарский манер щиты и арканы.
Гомон стих, когда из крохотной полуземлянки вынесли аналой и три священника положили на него крест, Евангелие и войсковую икону.
Полуголые довбуши ударили в последний раз в тулумбасы и, натягивая кафтаны, смешались с толпой.
Из войсковой избы нарядно одетые казаки понесли бунчуки и знамена и поставили их в центре Круга. Есаулец, назначенный загодя, расставил избранных казаками приставов, чтобы следили за порядком, и звонко выкрикнул:
– Перед батьками атаманами – встать!
Те из казаков, что сидели на траве, поднялись, оправляя оружие. Из избы вышли в накинутых на плечи алых атаманах Богдан Барбоша, Матюша Мещеряк (двойной тезка Мещеряка), Никита Пан, Волдырь, Якбулат Чембулатов, Ермак Петров, Огуз, Зея, Дудак, Иван Кольцо и другие… Матвей Мещеряк стал рядом с ними.
– Шапки долой! На молитву! – звонко выкрикнул есаулец.
Обнажились чубатые, русые и смоляно-черные, седые, кудрявые и начисто бритые головы. Гробовая тишина повисла над майданом, и только когда священники запели «Богородицу», словно волна пронеслась над опущенными головами и грянуло мощно:
Не имамы иные помощи,
Не имамы иные надежды —
Разве Тебе, Владычица!
На Тебя надеемся и Тобою хвалимся,
Есьмы рабы Твоя,
Да и не постыдимся!
Ибо только Божьими, но не человеческими рабами почитали себя эти обездоленные люди, объединенные только горем, злой судьбой, отвагой и верой Христовой. И хоть стояли среди них и державшие басурманский закон, а у половины жены-татарки ухитрялись обрезать сыновей, все же царил и безраздельно властвовал здесь дух жертвенного служения православию.
Но сломалось и раскололось единство, когда пошли атаманы высказывать свои резоны по поводу строгановской службы.
Насмерть стояли Барбоша и Матюшка Мещеряк, грозя скорее в Крым уйти, чем на службу к боярам да купцам, вечным врагам своим!
Иные атаманы не видели прибытку в службе и чаяли свой барыш в грабеже караванов на Волге.
Горячий и взгальный Кольцо сбивчиво кричал, что Волга-де вся государевыми войсками переполнена и прибытка с нее не будет. Что акромя петли да дыбы на Волге никаких барышей.
– Айда на Каспий! – орали казаки.
– А степь ногаям отдадим? – возражали атаманы.
И уже кто-то выкрикнул:
– А что нам ногаи! Наш супостат Москва!
И его поддержали несколько голосов.
– Верно! Верно! Замириться с ногаями, и на Москву – гнездо сатанинское!
«Не будет толку!» – уж было совсем решил Матвей Мещеряк. И пожалел, что приехал в Кош-Яик. Дело, казалось, было безвыходное.
Но ведь каждый из здесь стоящих стоил сотни воинов любого войска. И без них всякий поход, при малых силах, бывших при Ермаке, – был обречен.
Даже реками при таком скоплении людей оружных по берегам и городам двигаться было рискованно. Недостача в людях привела Мещеряка сюда, в ставку казачества яицкого.
«А может, лучше было в Раздоры идти?» – подумалось ему. И тут же он отогнал эту мысль, представив, что было бы там, где собралось Донское Войско, где на Кругу, не как здесь, стояло бы не пятьсот человек, а пять тысяч. Из которых половина, если не две трети, требовали бы смертной казни Ермаку за то, что он без решения Круга поднялся противу Шадры, пролил родную кровь на Старое поле, на казачий при-суд. И там, при пяти тысячах, было бы не объяснить, что только так можно было остановить крамолу и резню между коренными казаками и пришлыми, между разными вежами коренных, мгновенно вспомнивших бы старые обиды и утихнувшую за малолюдием извечную беду степняков – кровную месть.
И здесь уже наливались кровью или начали белеть от злости глаза, и кто-то уже, заходясь в припадке ярости, кричал, путая кыпчакские и русские слова:
– Какие вы казаки! У вас, хамов, еще клетки от лаптей на пятках не отошли! Вам не в степи бои вести, а на Москве портками трясти!
Напрасно кричал есаулец, напрасно махали угрожающе нагайками пристава, а священники умоляюще прижимали руки к груди.
– Видал, паскуда, что ты затеял? – присунувшись к самому лицу Мещеряка, бешено прохрипел Барбоша. – Черт тебя принес!
Мещеряк был не робок, но тут похолодел, чуя неминучую смерть! Тоскливо глянул он поверх голов на коновязи: далеко стоял его конь, не прорваться к нему, не уйти в степь, оголтелая толпа напирала со всех сторон. И вдруг близко от себя, словно остров в бушующем океане, где нет среди волн спасения, он увидел спокойное и властное лицо Ермака.
Атаман стоял в рядах казаков, ничем не выделяясь в старом тегиляе и видавшей виды шапке с выцветшим тумаком, как всегда набычившись и широко расставив крепкие ноги, засунув изрубленные и разбитые кисти рук своих за пояс. Он слушал стихию Круга, и Мещеряк понял – ждет атаман одного ему ведомого поворота событий, и радостно подумал: «Ермак переломит! По-нашему выйдет. Не пойдут казаки в пустую погибель!»
Священник поднял крест. И шум чуть-чуть умолк, но говорить ему не дали! Напрасно пытался прервать он крики, слабо взывая:
– Станишники, охолоньте! Православные, опомнитесь!
Но вдруг словно дрожь прошла по гомонящей и машущей кулаками толпе. Неспешно, все так же глядя в землю, в Круг вошел Ермак.
Замедленно, словно перед дракой, снял с головы шапку. Кинул ее на землю, потянул через голову тяжелый тегиляй, оставшись в нательной белой рубахе, медленно разорвал ворот от шеи до пояса, так что всем стал виден тяжелый с прозеленью медный крест – аджи.
Треск разрываемой ткани слышен был всем. Потому сама собою наступила мертвая тишина.
– Братья казаки! – спокойно сказал Ермак. – Тяжело и срамно слушать вашу нелепицу и грех! Про корысть помните, потому как собаки и грызетесь…
Помышляете о ясаке, о добыче большой, о мирском богачестве… Ежели так, то и не казаки вы вовсе. А орда разбойная, тати, душегубы и христопродавцы.
– Полно тебе ругаться-то! – как провинившийся, сказал Кольцо.
– Откуда ты взялся, чтобы нас хаять, – резко спросил Барбоша. И у Мещеряка екнуло сердце – опять сорвется горластая толпа, и теперь уже остановить ее будет нечем. Но властный бас Ермака словно придавил готовые взметнуться крики.
– Я не взялся! – сказал он. – Я здесь от веку. Мои предки здесь еще с Тимир-Аксаком ратились! Еще черниговских князей побивали. А крестились в Азове, от Кирилла Равноапостольного. Потому я и закон помню и помню, как в поход наши предки шли! Братья казаки! – зычно выкрикнул он. – Я, Ермак, казак станицы Каргальской, атаман станицы Качалинской, сын чиги Тимофея, говорю вам слово, что от веку говорилось: «Кто не хочет быть в куски изрубленным, в смоле сваренным, саблями посеченным, на кол посаженным, на крючья повешенным, распятым или утопленным за веру Христову и народ православный, да идет со мною»!
Дрогнула толпа, словно прошла по ней сладкая судорога, стоном отозвалась, потому как для многих это были именно те слова, коих ждала душа. Ибо никаким барышом, никакой добычей, но только подвигом можно было уравновесить те страдания и ужасы, в коих пребывали степные воины посреди океана врагов.
– Именем Господа и Спаса нашего Иисуса Христа! – закончил древнее обращение Ермак.
– Аминь! – разноголосо выдохнула толпа, сразу перестроившаяся на высокий, торжественный лад.
– Теперь от себя скажу, – просто сказал Ермак. – Я потому с Волги летел, коней загонял, чтобы сказать вам – черемиса восстала! Весь левый берег, ближний к вам, полыхнул. От Казани плывут виселицы на плотах – стало быть, там уже войско московское, и идет оно сюда всею силою, что из-под Пскова освободилась.
И пойдет оно до Астрахани! Так что Волги вам не видать! На Дон не пройти! А на Каспий вас ногаи не пустят. Потому выйти с Яика можно только со мной! И не по-волчьи, не воровским обычаем, а по чести, по закону христианскому. Нам Бог весть подает – идти для обороны Руси православной от супостата сибирского. Нонь басурмане из-за Камня на Москву метят!
– А и хрен с ней! – крикнул кто-то из толпы.
– Чей голос?! – прогремел Ермак. – По глупости твоей – прощаю! А вы, казаки, подумайте: как падет Москва, что с вами будет? Как пойдут басурмане отовсюду да с латинами стакнутся, где мы, народ православный, окажемся?
– Известно где! – сказал, улыбаясь, Никита Пан. – У турка на галере, с веслом да железным ошейником.
– Мы здесь не прохлаждаемся! – сказал Барбоша. – Мы и тута басурман бьем!
– Разве я вас всех зову? – сказал Ермак. – Скоро сюды рать московская придет, и кто с ней заедино стоять может и вин у него нет – пущай стоит! А ну-ко здесь дьяк да бояре сыск учинят? Истинно говорю вам – за мною дверь узкая, врата не широкие, и не сегодня завтра оне захлопнутся. А покамест выйти можно, и не тишком, а на славное дело!
– Ты нас не пужай! Ты не пужай! – закричал, подскакивая к Ермаку, Барбоша. – Кто тебя знает, речистого, в какую погибель да муку ты нас заманиваешь?
– Вот моя голова на кону! – Ермак показал на брошенную оземь шапку.
– Да наши головы все немного стоят! – огрызнулся Барбоша.
– Не скажи, – как всегда улыбаясь, сказал Пан. – Голова Ермака Тимофеевича и в золоте польском, и в динарах басурманских счет имеет, а для казаков она и того больше стоит. Я с тобой, Ермак Тимофеевич.
– Шкуру спасаешь! Рати московской испугался! – закричал-завизжал Якбулат Чембулатов.
– Нет, – спокойно ответил за Папа Ермак. – Мы не на сытую городовую службу идем. Это не крепостная служба! Места нами незнаемые. А испугался точно! Боюсь – дуриком голову подставлять! Да без славы на Страшном судище ответ держать.
– Боярам да Царю-антихристу служить? Он, сказывают, сына свово убил! – сказал задумчиво Якуня Павлов.
– У нас служба не царская! – и ему ответил Ермак. – У нас наемка купеческая. Но и не купцам мы служить идем, а заступить дорогу на Русь.
Круг, словно сорвавшись после долгого молчания, загудел, раскололся.
– Вы бы посадили казаков, – присоветовал атаманам и есаульцу Ермак. – Чего люди стоят? Хай сядут, подумают спокойно.
Есаулец было поднял нагайку, чтобы крикнуть: «Садись!» Но Богдан Барбоша закричал, чувствуя, что теряет власть над Кругом:
– Станишники! Кто со мной и атаманами верными пойдет ногаев бить – кройсь!
Две трети присутствующих надели шапки.
– Видал? – торжествующе закричал яицкий атаман.
Но надевали казаки шапки по-разному: одни сразу, не раздумывая, привычно сбивая папаху на бровь и откидывая тумак на спину. Другие – медленно, двумя руками, задумчиво поправляя ее на голове. Третьи, надев, тут же неуверенно снимали…
Чувствуя, что таких, кто сначала, повинуясь общему порыву, покрыл голову, а теперь, видя, что не все согласны с Барбошей, передумали, становится все больше, яицкий атаман, опасаясь потерять Круг, что следовал за ним более по привычке, закричал:
– Вот весь мой сказ! Неча тут головы туманить! Хто со мной – айда!
– Что ж ты их с Круга-то уводишь? Дай людям подумать! – закричал Ермак.
Но Барбоша, а с ним Якбулат, Павлов и другие атаманы решительно пошли сквозь толпу к коновязям, уводя за собою большую часть Круга.
Они вскакивали на коней, безлошадные хватались за стремена и, широко шагая, выходили в распахнутые ворота крепости.
– Зря он людей увел! – сказал Никита Пан. – Пропадут они тута.
– А мы тама! – хмыкнул Кольцо. – Но я с тобой пойду. Меня в стрелецкую петлю не манит! Я лучше сам уйду и своих казаков уведу. А то учинят сыск – воистину завертишься тута.
Ермак выбил пропылившуюся шапку об колено. Надел тегиляй и сказал:
– Надо не мешкая к Волге идти! Не ровен час, стрельцы ее перекроют.
– Это верно! – согласились атаманы.
К вечеру, пересчитавши людей, твердо решивших идти с Ермаком, убедились, что их полторы сотни. Человек пятьдесят остались в крепости, а двести пятьдесят ушли с Барбошей.
– Возвернутся! – уверенно сказал Пан. – Куда им деваться? Возвернутся. Весь припас тута!
В дорогу взяли по совести – ровно столько, сколько на полторы сотни припадало при дележке. Никто чужого нитки не взял – потому хоть дороги казаков разошлись, а оставались здесь свои. Братья!
Заутро отслужили молебен и двинулись. Но не на запад, к Волге, как предлагал Иван Кольцо, а на север, к Иргизу-реке. Где в потаенных местах стояло несколько стругов и откуда вниз по течению легко было спуститься на Волгу ближе к Самарской дуге.
Скакать обратно и вывести струги к месту встречи взялся неутомимый Мещеряк.
По пути как-то само собой сталось, что казаками служилыми и коренными атаманит Ермак, а воровскими – Кольцо. Никто его на эту роль не выбирал – само собой сложилось, что, как самый горластый и решительный, он верховодил над другими атаманами. Никита Пан предпочитал вперед не высовываться и сзади не оставаться. Хитроват был, дальновиден, не больно храбр, если храбростью считать бесшабашную удаль Кольца.
Все прикидывал Пан, все примеривался. А потом выходило, что вся слава Кольцу, но и все шишки, рубцы да покойники – его же, а у Пана все казаки целы, и весь барыш – его. А славы он не искал и, когда его кликали есаулом-помощником, не спорил и не чванился атаманством. Под стать ему был и Савва Волдырь.
Вот уж воистину «болдырь» был изрядный. Говорил и по-русски, и по-кыпчакски, и по-ясски… На любом языке как на родном. Потому был болдырь истинный: мать не то татарка, не то буртаска, бабка – ясыня, так что слились в нем многие степные крови. Был Болдырь рассудителен, спокоен. Как попал он в воровские казаки, было непонятно, и, когда Ермак спрашивал его об этом, он только головой крутил:
– Кисмет.
Как непонятно было и пребывание в воровских, а не вольных казаках Ермака Петрова. Так велел он себя прозывать, чтобы не путали с Ермаком Тимофеевым. Был он тоже чига, станицы Каргалинской, и как попал на Яик – неведомо. Не принято было расспрос учинять. Знали только, что чиги храбрости немыслимой и своих не выдадут.
Дела строгановские
Путь был неблизкий, строгановский наемщик – разговорчив, а Ермак умел молчать и слушать. Тянули бечевой струг казаки, шлепая по самой кромке воды. В полуверсте маячили оберегавшие их конные, а наемщик строгановский, довольный тем, что нашелся хороший слушатель, рассказывал про все строгановские дела чуть не за сто лет.
– Откуда пошел род Строгановых – не ведаю, и про то мне покойный мой родитель, что у Строгановых приказчиком служил, не сказывал. Потому скажу, что сам видел.
Основатель рода Аника Строганов поднялся при нонешнем Царе Иване Васильевиче. И, полагаю, был он из роду невысокого, потому привычен к скудости, к воздержанию. Одежами всегда скромен, каждую копейку берег. А ворочал-то пудами золота. Сказывают, богаче него на Руси только Царь.
Я Анику помню – строгий был старик! В хлопотах сам от зари до зари и другим спуску не давал. Потому и поднялся. Завел торговые конторы по всей Руси. Под старость цельные флотилии гонял, для казны брал хлебные подряды, пушниной сибирской, что из-за Камня тамошние людишки выменивали, торговал. Но пуще всего поднялся от соли.
Отчина строгановского корня – Соль Вычегодская. Но Аника первый догадался, что соли Пермского края – богаче. И стал думать, как бы ему это богачество себе прибрать.
Вот раз понадобился гагачий пух – Аника тут же достал, добыл, как прежде соболей да каменья для казны поставил. А на Москву послал своего сына – Григория, чтобы тот добился приема у Царя.
Григорий Аникеевич к Царю попал и просит: «На Каме-де места пустые, речки и озера дикие, а всего пустого места сто сорок шесть верст, и в казну с того места пошлина никакая не бывала».
Государь назначил по сему делу розыск… Уж сколько мы поминок дьякам перевозили, дак страх и ужас сказать. Но на одних писарей да дьяков вера мала. Надобно и самим в разуме быть. Так вот старый Аника что удумал: казначеи царские дали знать, что в Москву приезжает пермитин Кодаул с данью от Пермской земли. Мы этого Кодаула чуть не золотом обсыпали. Призвали казначеи оного Кодаула к себе в приказ и выспросили, что за места, кои Григорий Аникеич просют. Кодаул поклялся, что места искони вечно лежат впусте и у пермич-де в тех местах нет урожаев никоторых.
– Царя омманул? – ахнул Черкас, который всегда и неотступно ходил за Ермаком.
– Зачем омманул! Как можно! – хитро прищурился наемщик. – Спрашивали-то пермича, а что он в землях понимает? Охота в тех местах – как везде, а то и скуднее, и рыбы не боле, чем в других реках. А пермичи пашни те держат, а уж рудознатцев среди них и вовсе нет.
Григорий Аникеич выпросил у Государя разрешения леса сечь в диких местах, крестьян созывать, окромя беглых и разбойников.
– Да кто это окромя решенных людей на новое место пойдет от родительских могил? – засмеялся Черкас.
– А кто ж его разберет, какой он, – захихикал наемщик. – Это что же, за каждого черносошного мужика в столицу ездить, приказной розыск учинять? Живут и живут, землю пашут, в рудниках копаются да солеварни ставят…
– Не мешай человеку сказывать… – мягко остановил Черкаса Ермак, – мы ведь к этим людям едем… Слушай да на ус мотай.
С берега закричали бурлаки, попросили смены со струга. Поменялись. Те, что тянули, сразу повалились на струге спать, а свежие потянули бечевою струг дальше. И снова все пошло прежним порядком.
– Вот ты говоришь, «омманул Государя», а Государя не омманешь. Он свою выгоду строго блюдет. У него в указе прямо сказано, – наемщик прикрыл глаза морщинистыми тонкими веками и прочел по памяти: – «А где буде найдут руду серебряную или медную или оловянную, и Григорию тотчас о тех рудах отписати нашим казначеям, а самому тех руд не делати без нашего ведома».
– Да какой же Строгановым барыш, ежели искать, а самим не делать? – не утерпел Черкас.
– Да что ты! Что ты, мил человек! Да окромя этих руд в землях полученных столько всего, что сам не бедней Царя сделаешьси…
– Да, на Руси все земли изобильны… Работать война не дает, – сказал Ермак.
– Ну, у нас не в пример как все же потише, – сказал наемщик. – Да Аника и при войнах-то сидел смирно. И грамоту первую исхлопотал через несколько месяцев, никак не раньше, когда Сибирский хан Едигер себя московским данником признал… Стало быть, энтот в августе, а Строгановы аккурат в апреле… Чуть не через год. Так что аккурат сначала Большая Ногайская орда в покорность пришла и на Каму набегать перестала, а уж потом Едигер – куды ему без ногаев ходить из-за Камня. Так что тратиться на войну не пришлось.
А ради военного опасения получили Строгановы от Государя льготу неслыханную на двадцать лет от всяких пошлин! Да при такой льготе да без войны сто городов построить можно и в богачестве жить!
Первую грамоту Строгановы получили двадцать пять лет назад. Дак с той поры столько всего поста-пили. Первым делом срубили Конкой – городок на Каме. Но строили его еще в сомнении, да и не умели его как надо поставить. Потому отдали его монахам! А выстроили другой, в пятнадцати верстах от прежнего, Каргедан-крепость, или Орел-городок. Вот куда мы и следуем.
– Ну ладно, – сказал Черкас. – Стены поставили, людей назвали, а обороняться чем?
– Да у нас оружия – как у дурака семечек! – захихикал наемщик. – Из Москвы пушки возить далеко, а смысла нет… Руды кругом полно. Железо мы сами плавим, и медь, и олово… Тем более что на Руси нестроение, а мы Государем в опричнину были взяты, и у нас тишь и порядок.
Так что господа мои Строгановы городами владеют. А это только удельным князьям позволено да двум-трем боярам… Да и у князьев и у бояр по город очку, а господа мои Строгановы четыре городка выстроили! Вот и понимай, кто выше!
За десять лет варницы соляные поставили от Соли Вычегодской до Перми!
Сильно Государь Анику любил. Незадолго как Анике преставиться, еще и жалованную грамоту дал на земли по Чусовой!
Аника двенадцать лет тому преставился, вотчины свои сыновьям передал – Якову Аникеевичу да Григорию Аникеевичу, и так его Господь помиловал, что сыны в отца удались. Яков-то Аникеевич – пятый городок поставил! Вот тебе и роду не знатного, а простых людей… Вотчины-то и не вотчины, а, почитай, держава! И так-то все шло хорошо: Ногайская орда Царю покорна, пятый городок над Сылвою поставили, да и шагнули за Камень, поставили в Зауралье слободу на Тахчеях. Таково складно да понятно, что Государь всех, кто по этой дороге ехал да за Камнем селился, от всех пошлин и даже от суда освободил…
Вот от рекомых бы Тахчей на Тобол да в Зауралье, а там и Ханство Сибирское…
– Да куды им столько? – не стерпел Черкас. – Широко шагают, кабы портки не лопнули…
– А что ж, Мил человек, земле впусте пропадать? Сколько добра господа мои делают – от суда, от муки каторжной людей слободят…
– Да в свою каторгу загоняют! – сказал безносый казак, который, казалось, спал, умаявшись на бечеве.
– А ты что не спишь? – засмеялся Ермак. – Спи, сны посматривай!
– Знаем мы эту строгановскую волю! – проворчал казак, пряча безносую голову под локоть…
«Уж не в наших ли вотчинах ты нос свой оставил?» – хотел съехидничать наемщик, да поостерегся. Воробей он был стреляный, да и казаков опасался не без причины.
– Не допустил Господь по замыслам господ моих… – сказал он примирительно. – Взбунтовались богопротивныя черемиса, да… – Хотел сказать «татарва поганая», да осекся. Половина казаков говорила меж собою по-татарски, – кто знает, не было ли их среди тех, что с остяками местными да с башкирами приступали десять лет назад к Кардегану да Канкопу.– Пока мы от них в осаде отсиживались, Сибирский хан Кучум, который мирного Едигера зарезал, Тахчеи вся и все тамошние племена примучил, а как примучил, так и от русского Государя отложился.
Тахчейские остяки у Строгановых помощи просят. Государь велит сибирских людей воевати! А Господь не попускает. В какой мы силе были десять лет назад! Набрали казаков тыщу человек с пищалями, а не помогло…
– Ну-ка, ну-ка?.. – спросил Ермак, потому что наемщик, горестно вздыхая, умолк. – Ну-ка, тыща казаков с пищалями – войско изрядное, куды ж оно подевалось?
– Да никуды! – всполошился наемщик. – Никуды, которые у нас и по сю пору служат. Спервоначалу думали, они в Сибирь пойдут. Господа мои Строгановы испросили грамоту царскую – крепости ставить на Тоболе, на Иртыше, на Оби…
– Через чего ж не поставили?
– Да как-то не случилось… Нестроение пошло. Старый Аника все в одном кулаке держал. Сыновья у него по струнке ходили.
– Ишо как! – подсказал безносый. – Собственную дочь в Вычегду кинул.
– Наветы! Наветы! – закричал наемщик. – Не было того! Колокол льют! Пустобрехи!
– Сам ты пустобрех, – отмахнулся казак и повернулся на другой бок, чтобы и не видеть наемщика.
– Ладно вам! – цыкнул Ермак. – А ты спишь, дак спи, а то ежели не устал – иди бечеву тяни. Что дальше-то было?
– Дальше хоть плачь! – сказал наемщик. – Григорий с Яковом капиталы поделили, вот сразу силы-то и поубавилось. А три года назад срок льготы истек – пообложили нас налогами да пошлинами. Вот денежки-то и стали таять… Аника-то умножал, а Григорий с Яковом расточают и не по своей вине ничего стяжать не могут, потому пришла и в наши Палестины война.
Мы бы уж к ежегодной подати притерпелись, так ведь кроме них срочные идут! А доходы падают. Стоят на Каме двадцать семь варниц соляных. Плати подать со всех, а из них половина не работает. А те, что работают, не сегодня завтра станут. Потому что набеги пошли один другого страшнее.
Наши вогуличи уж на что тихие были, чего, бывало, с ними ни вытворяют, они только молчат да терпят. А тут как сбесились! Поднялись на бунт. А подбил их безбожный мурза Бегбелей Агтаков. Ровно год назад собрал семьсот воинов да и напал на Чусовские городки – безвестно, украдом! Сколько народу посекли, сколько в плен побрали – страх и ужас!
– А что ж казаки-то ваши? – спросил Черкас. – Ты ж сказывал, их с тысячу было.
– Так только благодаря им полон и вернули. Кинулись казаки за ними вдогон и, благодарение Богу, всех побили и полон вернули. И мурзу этого Бегбелея в плен взяли. Только мы, значит, Бегбелея привели в покорность, новая беда: Кучумов князек Абылгерым Пелымский через Камень семь сотен воинов привел.








