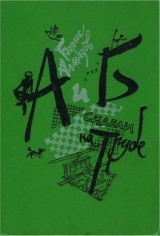
Текст книги "А и Б сидели на трубе"
Автор книги: Борис Алмазов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Борис Александрович Алмазов
А и Б сидели на трубе



«Умпа-ра-ра!..»


Эти истории произошли почти тридцать пять лет назад. Другая тогда была жизнь. Ещё во всём чувствовалась недавно окончившаяся война. Город был разбит, изуродован блокадой. Плохо было с едой и уж совсем плохо с игрушками. Какие там игрушки, когда у первоклассников был один букварь на пятерых!
Вечерами часто гасло электричество – не хватало угля и торфа для электростанции, – и наша огромная квартира, где в двенадцати комнатах проживало пятнадцать семей, погружалась в темноту.
«И у вас нет света? Это надолго! Теперь до утра…» – слышались в длиннющем коридоре голоса соседок.
Не сговариваясь, жители нашей коммуналки зажигали керосиновые лампы, свечки, а ещё чаще коптилки, сохранившиеся с блокадных времён, и, натыкаясь на многочисленные шкафы, сундуки, ящики с картошкой, что громоздились у каждой двери, шли на кухню. Там было и теплее, и светлее. И конечно же, мы, ребятишки, вымаливали позволения нести светлячки коптилок на кухню, а потом, затаившись, чтобы не погнали спать, сидели тихонечко, слушая взрослые разговоры о жизни, о войне, о судьбе, о надеждах…
Особенно мы любили сидеть на ещё тёплой огромной плите, среди погашенных примусов и керогазов. В живом свете коптилок кухня не казалась огромной и пугающе голой. По стенам её двигались волшебные тени, в удивительные узоры складывались трещины и пятна отвалившейся штукатурки на потолке.
И вот сначала тихонечко, будто сама собой запевалась песня.
На позицию девушка провожала бойца…
Эта песня была про нашу жизнь. Каждая женщина из нашей квартиры провожала кого-то на фронт: мужа, сына, брата, жениха, отца…
Провожали все – встречали немногие. Потому и другая песня, старинная, была тоже про нас:
Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…
Мы сползали с плиты и прижимались к матерям, к их худеньким плечам. Натруженные мамины руки только в эти минуты вынужденного бездействия не были заняты работой, и потому можно было прижиматься к ним щеками, водить пальцем по жилочкам, гладить шершавую кожу ладоней…
Мы всё понимали, потому, наверно, и старались подпевать взрослым – чем ещё мы могли поддержать их, подбодрить?..
И всё-таки, когда я вспоминаю то время, на ум приходят чаще весёлые, смешные истории. Может, потому, что при всех неприятностях детство – хорошее время? А может, потому, что мы были детьми Победы.
Мы сильно отличались от нынешних мальчишек. Во-первых, внешне! До четвёртого класса нас стригли «под ноль», и то, что мой сосед и приятель Серёга отрастил чёлку, было очень смелым поступком!
Он вообще был очень смелым. И не упускал случая свою смелость потренировать. Например, из всех видов транспорта он предпочитал трамвайную «колбасу»!
Да, я совсем забыл, что нынешние ребята не знают, что это такое. Во времена нашего детства у разболтанных шустрых трамваев с раздвижными тяжеленными дверями, деревянными сиденьями и бубликами «держалок», которые болтались, как цыганские серьги, из-под вагона торчала штанга, которая скрепляла вагоны между собой. И поскольку у последнего вагона к ней ничего не крепилось, мы пользовались ею для бесплатного проезда, что очень не одобряли наши родители, учителя и милиционеры.
И в самом деле, со штанги было очень легко сорваться. Спасала трамвайная «колбаса» – толстая резиновая кишка с проводами, что свисала из задней стенки вагона. За неё можно было уцепиться мёртвой хваткой и катить через весь город – и бесплатно, и на свежем воздухе.
И школьная форма у нас была совсем другой: мы носили вельветовые курточки с отложным белым воротничком, который ужасно пачкался, и его нужно было каждый вечер менять. Что, кстати, мы делали сами, без помощи мамы. Худо-бедно, а с иголкой и ниткой управлялись не хуже, чем солдаты. Мы носили короткие штаны с манжетой и пуговицей у колена. Длинные брюки – это было событие! «Варёные» джинсы или «бананы» – нынче куда меньшая редкость.
А сами мы были ужасно деятельные. Круглые сутки в наших бритых головах роились какие-то идеи, изобретения… Наверно, и у современных мальчишек голова работает не хуже! Но мы постоянно свои замыслы воплощали в жизнь – неслись куда-то, хлопотали, мастерили, совершали поступки… Правда, мы их сначала совершали, а уж потом, иногда в кабинете директора, а частенько и в детской комнате милиции, шмыгая носами, задумывались о последствиях.
Сейчас-то вспоминать об этом весело, а вот тогда…
Впрочем, расспросите своих родителей, дедушек и бабушек – они вам расскажут много такого, что сегодня, глядя на них, таких серьёзных и строгих, даже трудно предположить! Я думаю, что истории из их детства не уступят тем, что я хочу вам рассказать.
Произошли они, как я уже говорил, тридцать пять лет тому назад в одном большом прекрасном городе, сильно израненном войной, с двумя самыми обыкновенными мальчишками средней величины.
Кое-что из случившегося произошло со мной и моими друзьями, кое-что рассказали мои сверстники… В общем, как пелось в одной песенке нашего детства:
Хочешь – верь, а хошь – не верь!
Умпа-ра-ра!..
Нечётный закон
Настоящий футбольный мяч с покрышкой и с камерой стоил безумные деньги. Но дело было не только в деньгах! Деньги бы мы всем классом накопили – мяч для нас был самой необходимой вещью!
Просто его негде было купить!
Сколько раз мы с Серёгой ходили барахолку, где продавалось всё: от трофейного аккордеона до иглы для чистки примуса! Там можно было купить даже «неизвестно что», и притом целый мешок, и всего за рубль!
Этот мешок «неизвестно с чем» продавал немыслимого вида цыган. Мешок можно было щупать, поднимать, пробуя на вес, но развязывать не разрешалось. Около этого цыгана всегда толпился народ. Правда, я ни разу не видел, чтобы этот мешок «неизвестно с чем» кто-нибудь купил.
На барахолке продавались пиджаки и патефоны, гипсовые кошечки-копилки, мраморные слоники и картины, нарисованные тут же при нас на старой клеёнке, где по желанию заказчика могла быть изображена тройка с лихим ямщиком, уносившаяся в зимнюю лунную ночь, лебеди на пруду, русалки или красавицы в шароварах, возлежащие на коврах.
Одним словом, на барахолке можно было купить всё. Всё, кроме футбольного мяча. То ли мы были такие невезучие, то ли действительно он был страшной редкостью, но, сколько мы ни ходили по набережной Обводного канала в гудящей, вороватой и густой толпе продавцов и покупателей, мы ни разу не видели мяча в продаже.
Поэтому нам приходилось гонять по пустырю пустую консервную банку. Особенно скверно приходилось мне: я был вратарём и хватать консервную банку руками было не особенно приятно.
И вдруг Серёга достал мяч. Настоящий! Пахнущий кожей, звонко бумкающий под ударами!
– На три часа! – сказал Серёга, бледный от гордости. И мы ринулись на пустырь.
Пустырь был большой, основательно вытоптанный, ограниченный с одной стороны железнодорожной насыпью, с другой – забором из колючей проволоки, за которым пленные немцы строили дом, и глухим забором с третьей.
С некоторых пор в этом глухом заборе пропилили калитку и повесили вывеску, которая относилась к высокому кирпичному зданию за забором: «НИИ». По утрам в это самое НИИ шли разные тётеньки в шляпках и дяденьки с рулонами чертежей. Иногда подкатывала машина, и тогда из калитки выбегал старый толстый охранник и отдавал приехавшим честь. Чаще всего на чёрной легковой машине приезжала тётенька в офицерской шинели с полковничьими погонами. Она курила папиросы «Казбек» и носила очки. Она всегда махала на охранника рукой, но он всё равно почтительно открывал перед нею калитку, суетился и вообще мешал пройти!
Он был противный, потому что нас с пустыря гонял, хотя мы ему ничего дурного не делали. Ну, подумаешь, консервная банка в забор попадает, если мне забивают гол, так что? Что, забор сломается, что ли?
Но он обязательно выскакивал и начинал орать:
– Прекратите немедленно! Вы мешаете научной работе! Вы мешаете товарищам научным работникам.
Иногда мы видели, как в окне второго этажа появлялась эта очкастая, только она была не в шинели, а в белом халате, как доктор. Она смотрела на нас сквозь свои огромные очки и курила. Мы её побаивались.
Но в этот день мы о ней даже и не вспомнили, а сразу разделились на две команды и начали играть! Но играть-то настоящим мячом оказалось совсем не просто! Мяч – это не консервная банка! По нему чуть стукнешь, он на сто километров летит. Мы его сразу же за колючую проволоку загнали, на стройку к немцам. Ещё хорошо, что никто не заметил. Серёга быстро, как ящерица, под проволокой пролез и принёс мяч обратно.

Мы решили играть в одни ворота. Ну в те, где забор, где я стоял! Раза два мяч саданул в забор, и сразу выскочил охранник и начал на нас орать.
Но мы на него – ноль внимания. Чего он сделает: нас много – он один. Он покричал-покричал, побегал и потом пригрозил:
– Ну, погодите! Вот перелетит мячик через забор, я вам его проколю, ей-богу, проколю!
Тут у нас как раз сложилась такая ситуация, что надо бить одиннадцатиметровый! И выпало бить Серёге.
Он отсчитал одиннадцать метров, разбежался.
Ребята из другой команды стали стенкой передо мной, чтобы ворота прикрыть. (Поскольку идёт игра в одни ворота, то я для обеих команд вратарь.) Выстроились они стенкой, и мне сразу стало не видно, что там Серёга делает. Но даже если бы я видел, то ничего изменить бы не смог. Потому что у Серёги пушечный удар! Он так и говорит: «У моей правой – удар пушечный, а у левой – смертельный!»
Я, правда, не видел, какой он ногой бил. Но удар» действительно, оказался пушечным. Мяч ударил в игроков, двое сразу же на землю повалились. А мяч взмыл под самое небо и потом, как по ниточке, покатился… покатился… И прямо в окно этого НИИ! Окно было открыто, и стекло осталось целым, и что расколотил мяч, когда в комнату попал, нам не было видно!
– Ага! – закричал охранник, выскакивая из проходной. – Понаделали делов, голубчики!
Мы бросились кто куда! Собрались уже по другую сторону насыпи.
На Серёгу было страшно смотреть.
– Мне же его под честно-пречестное на три часа дали! – шептал он.
– Надо идти просить, чтобы мяч отдали! – сказал Коля Осташевский.
– Вот ты, такой умный, и иди! – сказали другие мальчишки.
– Кто забил, пусть тот и идёт! – сказал Коля, поглядывая на Серёгу. Да было и так ясно, что идти Серёге.
Серёга встал, пошмыгал носом и пошёл к проходной, где его уже поджидал ухмыляющийся охранник.
И тут я не знаю почему, но я вдруг пошёл по травянистому откосу насыпи и бросился за Серёгой. Вообще-то я думал, что все мальчишки побегут за мной… Но никто не побежал. И даже кто-то сказал:
– Во Пифагор – лопух! Сам на рожон лезет!
Я догнал Серёгу и пошёл с ним рядом.
– Ага! – ухмыльнулся охранник, блеснув металлическими зубами.
– Чего «ага»-то? – смело глядя ему в глаза, сказал Серёга.
– А вот сейчас отведу тебя к учёному секретарю – тогда узнаешь!
– Да хоть к печёному, хоть к мочёному! – бесстрашно ответил Серёга.
Я, конечно, молчал, но не отставал от Серёги ни на шаг! Охранник даже растерялся.
– Ага! – сказал он. – Ага! Храбрые какие! Сейчас посмотрим, какие вы храбрые!
И он цепкими железными пальцами вдруг схватил нас за уши и поволок по коридору, а потом по лестнице на второй этаж.
– Ну, ты! – кричал Серёга. – Отпусти ухи! Отпусти!
А я всё никак не мог так извернуться, чтобы укусить его за руку. Прихохатывая, охранник втолкнул нас в комнату, и мы услышали строгий голос:
– Что это такое! Я спрашиваю, что это такое!
– Вот! – сказал охранник. – Футболисты! Те самые!
– Я не о том! Немедленно отпустите их уши!
Охранник разжал пальцы, и мы увидели комнату, всю заставленную какими-то приборами, и тётеньку – ту самую, в очках!
– Тётенька! – закричал Серёга. – Отдайте мяч! Я вас очень прошу, и вот он тоже, и мы все!
– Вас же предупреждали, что здесь играть не положено, – сказала она.
– Мы больше не будем! – заныл Серёга. – Это не наш мячик, отдайте, пожалуйста.
И тут я увидел на большом письменном столе, заваленном разными бумагами, наш мячик! Я увидел его и прикинул, как бы так его схватить и выкинуть в окно нашим ребятам. А с нами пусть что хотят потом делают.
И ещё я увидел на письменном столе фотографию какого-то солдата – совсем мальчишки.
– Пифагор! – закричал Серёга. – Ну хоть ты скажи! Пусть мячик отдадут. Он же не наш.
– Как? – вдруг заинтересовалась строгая тётенька. Она даже перестала что-то писать на листках бумаги. – Как он тебя назвал?
– Пифагор, – пояснил Серёга. – Сокращённо Пифа…
– Вы хоть знаете, кто это был? – спросила она, поворачиваясь к нам на стуле и пристально глядя сквозь свои огромные очки.
– Математик, – сказал я. – Древнегреческий. Что мы, вообще, что ли, серость? Мы уже в третьем классе.
– Я не о том! – сказала она, доставая коробку «Казбека». – К тебе-то он какое отношение имеет?
Я пожал плечами.
– Я спрашиваю, – сказала очкастая, – почему тебя называют Пифагором?
– Дураки! Вот и называют! – сказал я, глядя в пол.
– Сам ты дурак! – сказал Серёга и заискивающим голосом объяснил: – Он, тётенька, думает, что открыл нечётный закон!
– Кто думает?
– Пифагор!
– Настоящий или вот этот фрукт? – сказала тётенька. – Совсем вы меня заморочили.
– Наш, – сказал Серёга. – Тётенька, отдайте, пожалуйста, мячик.
А я всё стоял и прикидывал, как бы так метнуться, чтобы схватить мячик – и в окно! Тем более что окно открыто.
– Отстань ты со своим мячиком! – заругалась на Серёгу тётенька. – Ты что, серьёзно предполагаешь, что открыл математический закон?
– Чего мне предполагать! – сказал я, глядя в её круглые очки. – Я не предполагаю! Я открыл!
– Посмотрите какой! – удивилась очкастая. – Прямо Галилео Галилей. «И всё-таки она вертится!»
– Тётенька, – заныл опять Серёга, пытаясь выдавить слезу, – отдайте мячик!
– Отстань ты со своим мячиком! – цыкнула на него тётенька. – Ну и в чём же, Пифагор, сущность твоего закона?
– Чего?
– Я спрашиваю: о чём твой закон?
– Трудно объяснить.
– Нет уж, пожалуйста… Я обещаю тебе постараться понять. Соблаговолите уж объяснить!
– Тётенька! Отдайте мячик! – опять заныл Серёга.
Тётенька вдруг схватила его за плечи, вытолкнула в коридор и закричала там:
– Демидыч! Демидыч! Выведи его! Не даёт работать! За уши не смей! Слышишь, не смей делать ему больно!
Она вернулась в комнату и села передо мной.
А я стоял как дурак и проклинал себя, что не выкинул мяч в окно, пока её не было. Но что-то меня удерживало.
– Тётенька! – раздался Серёгин голос из-за забора. – Будьте человеком, отдайте мячик.
– Это чёрт знает что! – закричала тётенька и суетливо закрыла окно.
– Послушай, Пифагор! У меня полно дел! Ты отнимаешь у меня время! – сказала она, беря меня твёрдыми руками за плечи.
– Отдайте мячик, и я уйду! – сказал я.
– Ты меня не так понял, – сказала тётенька. – Быстро излагай свой закон. И не торгуйся! Торгуется тут, понимаешь!
Я молчал.
Тогда она схватила мячик и выкинула его в раскрытую форточку.
– Спасибо! – заорали за окном мальчишки.
– Ну! – сказала тётенька.
– Если много разных цифр складывать, то можно, не считая, отгадать, какой будет ответ, чётный или нечётный!
– Так! – и она вдруг улыбнулась. – Каким образом?
– Нужно сосчитать, сколько в примере нечётных чисел…
– Нечётных, так! А чётные?..
– Если нечётных чисел чётное количество, значит, и ответ будет чётный! Вот и весь закон, – сказал я. – Мне можно идти?
– Погоди! Погоди! – сказала тётенька.
Стуча сапогами, она подошла к доске – в комнате висела школьная доска, только не как у нас, не разлинованная. И стала быстро писать целую колонку чисел, даже шестизначных и восьмизначных…
Кто-то сунулся в дверь, но она так на него закричала: «После! После!», что я даже не успел рассмотреть, кто там за дверью испарился!
– Ну, – сказала она, закончив писать и поглядывая на меня, как мышка из норки.
Я сосчитал нечётные.
– Ответ будет нечётный!
– Так! – закричала она, стирая цифры. – А если я напишу так:
а+а+b+а+b+b+b+а=?
– Мы алгебру ещё не проходим, – сказал я.
– Это не разговор! Думай!
Я смотрел-смотрел на доску и вдруг сообразил:
– А какие буквы нечётные?
– Умница! Умница! – Тётенька рассмеялась и сразу стала молодой.
Она подбежала к доске и написала:
при а – чётн. b – нечётн.
– Ответ будет чётным! – сказал я.
– Механику! Механику давай! – Тётенька обхватила меня за плечи.
– Мы механику не проходим! – сказал я.
– Пифагор! – сказала усталым голосом она и сняла очки. – Пифа! Ну что ты всё «проходим, не проходим», – она подавила ладонями глаза. – Ты что, не задумывался, отчего так происходит? Что ты торчишь как столб. Садись! Вот погоди.
Она порылась в ящике стола, вытащила открытую плитку шоколада. Отломила кусок и прямо затолкала мне в рот.
– Ешь! Чаю хочешь?
– Хочу! – сказал я. И, прожевав шоколад, сказал: – Вообще-то задумывался!
– Ну! Ну?! – допытывалась она, заглядывая в самые глаза.
– А вы смеяться не будете?
– Над чем? – растерялась тётенька. И я понял, что она смеяться не будет. – Послушай, у тебя какие-то странные представления… Над чем смеяться?
И тогда я тоже придвинулся к ней и сказал тихо:
– Все числа чётные!
– Как это? – шёпотом спросила тётенька.
– Все чётные! Только некоторые из них лишнюю единицу прихватывают!
– Зачем?
– Не знаю, – сказал я, – может, от жадности. И становятся нечётными!
– А может, не прихватывают, а теряют… От безалаберности… А? И становятся нечётными, а?
Я подумал и сказал:
– Может быть! Но мне лучше думать, что у них эта единица – лишняя.
– То есть, – сказала тётенька, – если мы все числа обозначим буквой «а», то а+1 = b. Так или не так? – она писала с такой скоростью, что я за ней едва глазами-то поспевал. Мелок по доске так и прыгал. – Я правильно поняла?
– Угу! – сказал я, потому что тоже понимал, что она пишет. – Вот эти-то единицы и складываются. От них ответ и зависит.
– Блестяще! – сказала она, откинула со лба прядь волос и засмеялась.
– И ничего смешного нет! Я когда в классе рассказал, то все тоже ха-ха-ха! А что смешного?!
– Ну что ты! Что ты! – растерялась тётенька. – Я же не в смысле ха-ха-ха! Я просто радуюсь тому, как ты хорошо всё продумал! Я радуюсь – понимаешь? Так как же ты до этого догадался?
– А… так… – сказал я.
– Ну всё же! А? В углу стоял! Да?
– Стоял, – сознался я.
– За что?
– Ел. На уроке.
Она вдруг прижала меня к себе.
– Господи, – говорит, – какой же ты маленький!
– Ну почему! – сказал я. – Ещё и меньше есть. Я третий от конца!
– Послушай, Пифагор, – сказала она, пытаясь пригладить мне волосы. – А как тебя зовут на самом деле?
Я сказал.
И тётенька вдруг побледнела.
– Боже мой! – прошептала она. – Всё повторяется!
И почему-то на глазах её показались слёзы.
– Не надо, – сказал я. – Не плачьте.
– Нет-нет, – она виновато помотала головой, стряхивая с глаз слёзы.
– Я не плачу! Это так…
И тут в окно ударил камень. Она ойкнула от неожиданности. Хотя камень был маленький и стекло не разбилось.
Она распахнула окно, и я услышал Серёгин голос:
– Ты! Очкастая! Отпусти Пифагора! А то мы вам сейчас все стёкла высадим! Отпусти!
– Вы что, с ума сошли! – закричала тётенька. – Вот он, ваш Пифагор, что я, съем его, что ли?
И она поставила меня на подоконник.
Я видел, что на пустыре стоят человек пятьдесят мальчишек, и не только из нашего класса, но почти все с нашей улицы. В руках у них были камни, а у Серёги – рогатка.
– Отпусти Пифагора! – кричал он. – Не посмотрим, что вы учёные! Всё тут разнесём! Нет такого закона, чтобы детей арестовывать!
И другие мальчишки тоже орали и готовились швыряться камнями.
И тогда она вдруг свистнула в два пальца, переливчато и отчаянно.
Мальчишки разом замолчали.
– Ну вот! Так-то лучше. Сейчас он к вам придёт, – и закрыла окно.
Она повернулась ко мне.
– Тётя! – сказал я. – Я вам халат испачкал ботинками.
– Ничего! – сказала она. – Я его постираю. Ничего. Доедай шоколад!
– А вам? – спросил я.
– Мне ещё дадут. Говорят, шоколад укрепляет мозги! Вот и ешь! – И она ещё раз взъерошила мне волосы. – Господи! До чего же маленький!..
Через неделю охранник с металлическими зубами вынес нам новый кожаный мяч, а ещё через неделю на пустыре появились футбольные ворота, а на окнах НИИ защитные сетки.
И когда мы играли в футбол, я нет-нет да и поглядывал на эти окна под тёмными сетками. Иногда мне казалось, что я вижу за ними тётеньку в белом халате, в очках и с папиросой «Казбек» в тонких, испачканных мелом пальцах… И она смотрит на нас…
Чтобы помнить всю жизнь!
До третьего класса мы учились отдельно: мальчишки в нашей – мужской школе, а девчонки в школе через дорогу. Но потом поползли упорные слухи, что раздельное обучение отменяется и с будущей осени мальчишки и девчонки станут учиться вместе.
Серёга по этому поводу ужасно волновался.
– Ты представляешь, если нас в бабскую школу переведут, – говорил он мне.
– Почему это нас должны перевести?
– Ну как же! Пятнадцать мальчишек в ту школу, а пятнадцать девчонок к нам. Во позорище, если нас переведут!
Я никакого позорища в этом не видел. Что нас, в платья оденут и бантики носить заставят, что ли?! Но уходить из своей школы мне не хотелось: я за два года к ней привык. Хотя, если бы на переменках старшие мальчишки меньше пихались, было бы гораздо лучше. А то бежит такой здоровила из четвёртого или даже из шестого класса и – р-р-раз – тебе в лоб щелбана! Чего хорошего!
– А представляешь, если кого-нибудь из нас двоих переведут, а кого-нибудь из нас двоих оставят? Выходит, дружбе конец?!
Из-за этого я тоже расстроился. Мы с Серёгой давно дружили – с детского сада. Мы с ним живём в одном доме и даже на одной площадке – в соседних квартирах. И я даже не представляю, как это можно в разных школах вдруг оказаться!
– Нужно что-то предпринимать! – говорит Серёга. – Нужно так себя показать перед учителями, чтобы они с нами ни за что расставаться не захотели!
И целое лето, вместо того чтобы гонять в футбол или там на речку, мы ошивались в школе. Помогали подоконники красить… И другое… Да всего и не вспомнишь… Вот, подоконники красили… Сначала мы с них пыль стирали тряпкой, а старшеклассники красили… Но и мы тоже… Один раз… Я так вообще почти что целый подоконник выкрасил! Меня один из четвёртого класса даже похвалил. «Ну, – говорит, – ты намалевал! Айвазовский!» Это художник такой был в дореволюционное время.
И нас все хвалили. Иван Лукич, который по труду, так прямо и сказал:
– Большое вам спасибо. Теперь отдыхайте. Таких работников нужно беречь! – и все ребята из четвёртого класса, которые подоконники красили, с ним согласились.
А ещё мы Марь Санне из биологии целую банку лягушачьей икры насобирали, для опытов. Она говорит:
– Раздобыли бы вы мне икринку – в микроскоп рассматривать.
А нам что, жалко, что ли? Мы ей целую банку.
В общем, помогали!
Так что мы были почти уверены, что нас в бабскую школу не переведут. Мы тут нужны!
И не ошиблись! Нас не перевели. И вообще никого не перевели. Только из нашего второго класса сделали два: 3-й «а» и 3-й «б». Но мы с Серёгой в 3-м «а» остались! Вместе. Нас даже рассаживать не стали!
А первого сентября эти явились! Ну, из женской школы – девчонки. Расфуфыренные! С бантиками! Смотреть противно. А одну так вообще бабушка до самого класса вела – Ирину. Я её сразу прозвал Мальвина. Ну как из «Золотого ключика», потому что воображает. Она в нашем доме живёт – недавно переехала откуда-то.
Бабушка её всё как курица переживает:
– Как у вас школа далеко! Целых три трамвайных остановки!
А чего далеко-то? Остановки короткие: контролёр войдёт, ещё у половины вагона билеты не проверит, а ты уже выскочил! А можно вообще на «колбасе» ездить. Но её всё равно бабушка каждый день в школу за ручку водит, и из школы тоже! Смотреть противно! Это в третьем-то классе?! Как же она в пионеры вступать собирается, если её бабушка за ручку водит? Я на эту Ирину-Мальвину – ноль внимания, а Серёга извёлся весь. Потому что влюбился.
Вообще-то он не признавался. Я его прямо спрашивал: «Ты что, дурак, влюбился, что ли?»
А он сразу начинал кричать: «Кто? Я?! Да что я, рыжий, что ли?!»
В том смысле, что не влюбился.
А вообще-то он рыжий на самом деле. Раньше это не очень заметно было, но теперь он чёлку отрастил, чтобы Ирине-Мальвине понравиться. Так сразу стало видно – рыжий.
Мне-то всё равно, какого он цвета, – друг и всё, но Серёга переживал, что он – рыжий. Он носил с собой зеркальце – чтобы зайчиков пускать (так он мне говорил), но всё время в это зеркальце смотрелся. Сдвигал брови, хлопал поросячьими своими ресницами и вздыхал: «Тебе-то хорошо. Ты – блондин. А мне всю жизнь не везёт».
Но чёлку свою рыжую не состригал.
Один раз мы отвечали на вопросы: кем вы хотите стать и почему? Мы в «Родной речи» про всякие профессии читали. Серёгу вызвали, а он ни бэ, ни мэ, ни кукареку… Не успел придумать. Меня спросили – я говорю:
– Хочу быть моряком, – чтобы от меня отстали. – Плавать в дальние страны и защищать морские рубежи нашей Родины.
Мне пятёрку поставили.
Вообще-то я хочу быть клоуном. Ну, который в цирке. И дома, когда никого нет, потихонечку перед зеркалом тренируюсь, но об этом нельзя в классе сказать – засмеют. Тоже, скажут, выбрал профессию! Вот я и сказал «моряком», да и все мальчишки – тоже. Некоторые, правда, сказали, что хотят быть лётчиками, как Чкалов. Но было видно, что они всё врут. Во-первых, что они, дураки, что ли?! Если все в лётчики пойдут или в моряки, то ни самолётов, ни пароходов не хватит. А во-вторых, кто это так, с бухты-барахты, скажет, про что он мечтает?! «Мечта, – как говорит наш сосед дядя Толя, – это личное дело каждого! И нечего в душу лезть!»
Но Ирина-Мальвина встала, побледнела и говорит:
– Моя самая заветная мечта – стать врачом и спасать жизнь людям!
И было видно, что не врёт. Все даже притихли.
Мы с Серёгой всегда домой пешком ходим. И не потому, что два раза пешочком прошёлся, и, пожалуйста, как раз на пирожок или ещё на какую-нибудь полезную вещь! Не в этом дело! Мы не крохоборы, просто нам интересно домой не торопясь идти и обо всём разговаривать. Так вот, в тот день Серёга мне все уши про Ирину-Мальвичу прожужжал. Что с него возьмёшь – влюбился.
Я, конечно, верю, что она собирается быть врачом, но только сомневаюсь, что у неё это получится. Потому что врач должен ничего не бояться – даже покойников, а её бабушка из школы встречает. Я так прямо и сказал. Он взбеленился, но ничего путного мне возразить не смог.
А на следующий день подходит ко мне – прямо лица на нём нет.
– Представляешь, – говорит, – у неё скоро день рождения.
– Ну и что? – говорю.
– Как что? Надо же что-то подарить! А что?
– Подари, – говорю, – цветы или торт мороженый.
– Нет, – отвечает, – цветы завянут, а торт съедят и забудут про подарок. Нужно такое подарить, чтобы всю жизнь помнили.
– Подари цветы в горшке! Пусть всю жизнь растут. Посмотрит на цветок в горшке и сразу тебя вспомнит.
– Да? – Серёга даже прищурился со злости. – Умный какой нашёлся. Гений в трусиках! А ты знаешь, сколько такой цветок может стоить? Я что, деньги рисую?
– Сам ты, – говорю, – гений! Давай у Марь Санны в биологии попросим. Там цветов дополна! Она не откажет! Мы ей вон сколько лягушачьей икры насобирали!
– Это хорошая мысль! – сказал Серёга. – Айда в биологию.

В кабинете биологии шла генеральная уборка: большая куча поломанных чучел и мятых восковых яблок, битых цветочных горшков лежала прямо на полу. А над всем этим мусором, приготовленным на свалку, возвышался скелет. Серёга его как увидел, даже побледнел.
– Марь Санна! – прошептал он. – Отдайте его мне! Я вас очень прошу, я вас просто умоляю! Одна моя знакомая хочет быть врачом… И ей надо привыкать! Это такое пособие!
– Бери… – рассеянно сказала учительница биологии. – Только вы его в газету заверните, что ли… А то вас в трамвай не пустят.
Какой трамвай! Серёга обернул скелет мешковиной и помчался к нашему дому. Скелет был старый. Все проволочки, которыми он был скреплён, проржавели, и кости развалились. Мы его долго собирали в тёмном парадном.
– Как же ты его так, с бухты-барахты, подаришь, – взяло меня сомнение. – Она же ещё ничего про свой день рождения не говорила. Нас же ещё никто не приглашал!
– Вот подарим – сразу пригласит! Вынуждена будет пригласить.
Это меня устраивало. Я люблю ходить в гости. Но всё-таки что-то меня смущало.
– А сейчас-то мы что скажем?
– Ничего не скажем! – бормотал Серёга как в лихорадке. – Это – сюрприз! Не ожидаешь и вдруг – ба-бах! Повесим на шею ему поздравительную открытку и поставим к двери.
Так мы и сделали…
– Давай ставь к двери! Звони! Звони! – шипел Серёга. – И прячься! Быстро! Прячься!
Загремел дверной крюк, лязгнул замок… И гробовая тишина повисла над площадкой.

«Ы-ы-ых-х-х!» – сказало что-то в квартире и грузно упало. Скелет покачался, словно раздумывая, что бы такое предпринять, и тоже рухнул в коридор.
И тогда раздался душераздирающий крик.
Когда мы выскочили из укрытия, то увидели ужасную картину. В коридоре лежала Ирина бабушка. Рядом с ней, рассыпавшись на мелкие косточки, белел скелет, а череп медленно и величественно катился вдаль по тёмному коридору.
В конце коридора стояла Ирина-Мальвина и кричала так, словно у неё в горле была сирена «скорой помощи».
Что было дальше, страшно рассказывать. Но одного мы достигли: этот подарок Ира помнит всю жизнь.








