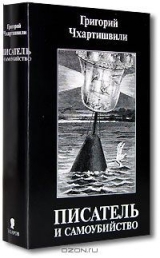
Текст книги "Писатель и самоубийство. Том второй."
Автор книги: Борис Акунин
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Раздел II. Не как у людей
Творческий кризис…И поступают люди так большею частью
в самый лучший период жизни, когда
силы души находятся в самом расцвете,
а унижающих человеческий разум
привычек еще усвоено мало. Я видел,
что это самый достойный выход, и
хотел поступить так.
Л.Н. Толстой. «Исповедь»
В главе «Юность» я коротко коснулся темы возрастного кризиса, который свойствен всем людям, но у человека творческого имеет несколько иную хронометрию и совершенно специфическую окрашенность. Обычный человек переживает пору психологической и мировоззренческой ломки сначала перед двадцатилетним рубежом, затем перед пятьюдесятью (так называемый midlife crisis) и еще раз на пороге старости, которая, как известно, у всех наступает в разные сроки. Этот трехпиковый кризис соответствующим образом отражается на суицидной статистике. Трижды на протяжении жизненного пути происходит опасное соединение разноприродных факторов, заставляющих человека взглянуть на свое существование новыми глазами и часто прийти к неутешительным выводам. Физиологический стресс (половое созревание, преодоление пика телесного развития, гормональное увядание) накладывается на психологический (взросление, осознание своей смертности, осознание близости финала) и экономический (бедность и зависимость юности, крах надежд на благополучие среднего возраста, беспомощность и нищета старости).
Всем этим общечеловеческим напастям в полной мере подвержен и художник, но у него к перечню уязвимых участков прибавляется еще один, возможно, самый болезненный – творческая потенция. Художник всю жизнь испытывает страх однажды проснуться и вдруг ощутить, что волшебный дар, составлявший главное содержание его бытия, безвозвратно ушел. Когда творческий человек попадает в один из вышеназванных возрастных капканов, страх этот многократно усиливается: художник, чувствуя, что в нем происходят перемены, боится, что одновременно с физической метаморфозой произойдет и креативная: вдохновение останется по ту сторону – в миновавшей юности, молодости, поре расцвета, что оно не преодолеет этого барьера.Отличие человека искусства от обычных людей тут состоит еще и в том, что кризис середины жизни у творца происходит лет на десять раньше, с окончанием телесной и ментальной молодости – так называемый «синдром 37 лет». Именно этот рубеж становится для литераторов главным возрастным испытанием.
Но прежде чем разобраться, почему именно порог сорокалетия так обилен писательскими самоубийствами, попытаемся разобраться в самой природе «творческого» суицида. Мне кажется, что суть этого трагического происшествия почти всегда – в отсутствии смирения и истинной религиозности, то есть в сознательном или неосознанном соперничестве художника с Богом.
У литератора это происходит так. Все, что он изображает при помощи слов, субстантивируется, превращается в вещь, в прикнопленный к бумаге предмет. В работе «Литература и право на смерть» Морис Бланшо пишет, что, сделав своей задачей подмену реальных вещей словами, литература не может остановиться, пока не изгонит бытие из всего мира, пока не добьется его тотального разрушения. Я бы сформулировал эту мысль несколько иначе: начав подменять реальные вещи словами, литература не остановится, пока не назовет все вещи словами, то есть пока не создаст полную копию реального мира. Так возникает иллюзия власти над миром. Флобер писал, что автор творит свой собственный мир подобно Богу. Что ж, писатель и в самом деле властелин в созданной им вселенной, он там – всемогущий творец, и как таковой вступает в соперничество с тем Творцом, который придумал мир, где существует сам писатель. Вот почему писатели так любят сочинять романы о писателях: автор сам становится Творцом, дергающим за ниточки другого творца – вымышленного писателя, и, должно быть, при этом воображает, что Бога, его собственного Творца, тоже вполне может дергать за ниточки некий еще более могущественный Писатель.
Для человека искусства самоубийство часто становится попыткой сравняться с Творцом, отнять у него главную власть – власть над своей жизнью. «Если кто-то сумеет обладать собой вплоть до смерти, сквозь смерть, – пишет Бланшо, – то он возобладает и над тем всемогуществом, что настигает нас в смерти, сделает его не более чем мертвым всемогуществом. Таким образом самоубийство Кириллова оказывается смертью Бога». Я бы даже сказал – убийствомБога.
«Если я совершу самоубийство, то не для того, чтобы себя разрушить, а для того, чтобы себя собрать. Самоубийство станет для меня единственным средством насильно отвоевать себя, грубо вторгнуться в мое естество, предварить неизбежное приближение Бога».
Антонен Арто
Богоборческая подоплека мук творческого кризиса не всегда осознается самим писателем, и тогда он определяет мотивацию своего суицидального намерения иначе. Он пишет и говорит о желании «убежать от мук творчества», жалуется на смертельную усталость от иссушения души. Насчет души проверить трудно, но мозг творческого человека, кажется, и в самом деле может преждевременно стариться. Вскрытие тела Байрона обнаружило в его мозгу и сердце явные признаки старения – это в 36-то лет.
Когда Дар покидает художника или пугает, что хочет покинуть, откуда ни возьмись возникает воспетый Брюсовым «Демон самоубийства» (обратим внимание на многозначительную датировку этого стихотворения: «Ночь 15/16 мая 1910»).
…Он в вечер одинокий – вспомните, —
Когда глухие сны томят,
Как врач искусный в нашей комнате,
Нам подает в стакане яд.
Он в темный час, когда, как оводы,
Жужжат мечты про боль и ложь,
Нам шепчет роковые доводы
И в руку всовывает нож…
В лесу, когда мы пьяны шорохом
Листвы и запахом полян,
Шесть тонких гильз с бездымным порохом
Кладет он молча в барабан…
Только демон этот вовсе не похож на воспетого Брюсовым черноглазого «пленительного юношу» со «странно-длительной улыбкой» – это для молоденьких, чувствительных поклонниц вроде Надежды Львовой (1891–1913), с которыми мэтр играл в демонизм.
Писательский демон самоубийства некрасив, неулыбчив, полубезумен, с воспаленными от бессонницы глазами. Это другая ипостась демона творчества, пришедшего получить причитающееся по счету.
Иногда расплата наступает очень рано, в самом начале жизненного пути: у бурно расцветшего таланта дыхание оказывается жарким, но коротким. Литераторы-«спринтеры» (чаще всего поэты), исчерпавшие свой дар прежде, чем вошли в зрелую пору, воспринимают творческий кризис не так уж болезненно. Талант не был выстрадан ими, а достался как бы сам собой; еще не прожитая, едва пригубленная жизнь, кажется, таит столько иных, не менее острых, чем творчество, ощущений! Восемнадцатилетнему Рембо или девятнадцатилетнему Дюпре, должно быть, мнилось, что они вполне смогут прожить и без поэзии. Но это, увы, иллюзия – для «нормальной» жизни рано отцветшие дарования обычно оказываются совершенно непригодны: не так, как все, живут, не так, как все, умирают.
Тристан
Кто взглянул на красоту однажды,
Предан смерти тайно и всецело;
Будет изнывать от вечной жажды,
Но страшиться смертного удела —
Кто взглянул на красоту однажды.
Боль любви в нем будет вечно длиться,
Ибо лишь глупца надежда манит,
Что желанье это утолится.
Тот, кто красоты стрелою ранен —
Боль любви в нем будет вечно длиться.
Как родник по капле иссякает,
Пьет отраву в дуновеньи каждом,
Смерть из каждого цветка вдыхает:
Кто взглянул на красоту однажды —
Он, как ключ, по капле иссякает.
Август фон Платен
И все же самоубийства из-за творческого кризиса у литераторов-«спринтеров» крайне редки. Как, впрочем, и у «стайеров», которым дара хватило почти до самой финишной черты – вдохновение окончательно ушло лишь в старости, когда главное уже написано и сделано.
Самая многочисленная категория «самоубийц от творчества» – это, если продолжить спортивную метафору, бегуны на среднюю дистанцию. Те, кого Муза соблазнила и покинула посреди жизненной дороги. На этом рубеже творческая потенция иссякла у многих людей искусства, и вовсе не только из литературного цеха. Разумеется, не все они сунули голову в петлю. Подавляющее большинство жили дальше и даже пытались творить, но все созданное ими было лишь бледной тенью прежнего волшебства. Кольридж, например, перестал писать в тридцать, а прожил до шестидесяти пяти. У Уордсворта промежуток между творческой и физической смертью растянулся больше, чем на сорок лет.
Но истощение дара – это не преждевременный выход на пенсию, как у 35-летней балерины, а страшная трагедия для того, кто поставил на карту творчества всю свою жизнь. Симптомы недуга удручающе одинаковы.
«…Меня мучает ужасная мысль, что каждый день надо писать и писать», – сказано в предсмертной записке 35-летнего японского драматурга Като Митио.
36-летний Леонид Андреев жаловался в письме: «Началась бессонница. Все не сплю – в голове клейстер. Вдруг сразу начинает отказываться вся машина. Видимых причин как будто и нет. Невидимые – где-то глубоко в душе. Все болит, работать не могу, бросаю начатое». После этого прожил еще 12 лет, но «машина» так и не заработала.
«Вся машина разладилась. Боюсь утратить желание к работе», – гласит последняя записка венесуэльского поэта Х.А. Рамоса Сукре (1890–1930), который предпочел простою проклятой «машины» добровольную смерть.
Денис Иванович Фонвизин, утратив способность писать, стал инвалидом в самом буквальном смысле слова – заболел, лишился способности ходить и несколько лет спустя умер. «Разбитого параличом Фонвизина возили в колясочке, – рассказывает М. Зощенко в книге „Возвращенная молодость“, – причем он не раз приказывал лакею остановить свою коляску на набережной, около Академии наук, и, когда студенты выходили из университета, Фонвизин махал рукой и кричал им: „Не пишите, молодые люди, не пишите. Вот что сделала со мной литература“».
Ярчайший пример того, как демон творчества полностью подчинил себе писателя, высосал из него все жизненные соки, а потом оставил, тем самым приговорив к отчаянию, сумасшествию и самоистреблению – Акутагава Рюноскэ (1892–1927). По этому японцу вообще можно изучать типические черты, характерные особенности и повадки особого подвида homo sapiens под названием homo scribens [9]9
Человек пишущий (лат.).
[Закрыть]– во всем его блеске и нищете, со всеми симптомами профессиональной болезни. Не случайно Акутагава упоминался и в главе о безумии, и в главе об акцентуированных личностях (а следовало бы еще и в главе о токсикомании) – все это в нем было, но прежде всего он – классическая жертва творческого кризиса.
У Акутагавы есть новелла «Нос», навеянная одноименной повестью Гоголя. Только японец повернул сюжет иначе: как быть человеку, у которого нос не пропал, а наоборот, слишком уж явно присутствует – торчит на целых пять сунн? [10]10
Это очень много.
[Закрыть]
Монах Дзэнти, обладатель этого анатомического излишества, всю жизнь мечтает избавиться от уродства, сделать нос нормальным. В конце концов, после многолетних ухищрений, ему это удается, но, странная вещь, жизнь с нормальным носом вдруг оказывается лишенной смысла и даже невозможной. 24-летний автор смешной новеллы, очевидно, еще не предполагал, что тень «носа длиной в пять сун» накроет всю его последующую судьбу, став безжалостной притчей о самом себе. Писательский талант очень смахивает на монументальный нос монаха Дзэнти – это тяжкое бремя, мешающее наслаждаться радостями обычной человеческой жизни. Множество творческих людей, вслед за Вагнером, мечтавшим о тихой семейной жизни вдали от искусства, или Булгаковым, воспевшим прелести «вечного дома с венецианским окном и вьющимся виноградом», тосковали по неаномальной, нормальной жизни. Не чужд был подобным грезам и Акутагава. Герой новеллы «Ду Цзы-чунь» получает от старца-даоса в награду за перенесенные испытания не богатство и не славу, а «маленький домик на южном склоне горы Тай-шань», где персики в полном цвету. Однако, когда на середине четвертого десятилетия Акутагаве показалось, что «нос длиной в пять сун» может вот-вот отвалиться, писатель пришел в ужас и жить без этого безобразного нароста не захотел.

Что же произошло?
Стало все труднее браться за перо. С каждым днем нарастала беспричинная, необъяснимая тревога. Акутагава вдруг стал бояться, что сойдет с ума, как в свое время сошла с ума его мать. Что-то страшное, гнетущее таилось в глубинах подсознания: «Та часть, которую я не сознаю, Африка моего духа, простирается беспредельно. Я ее боюсь. Там, во тьме, живут чудовища, каких на свету не бывает». Он очень много пишет, но все чаще возникает ощущение, что дару конец, что больше писать он не сможет. Это был еще даже не творческий кризис, а панический ужас перед неотвратимостью творческого кризиса. Можно сказать, что Акутагава умер от страха – той его разновидности, которая для людей искусства опасней всех иных страхов.
Разумеется, тут как тут объявилась бессонница, вечная спутница издерганных нервов и творческого тупика. Дозы снотворного постоянно увеличивались, одуряющее воздействие лекарств не рассеивалось и днем. «У него дрожала рука, державшая перо, – пишет о себе в третьем лице Акутагава. – Хуже того – изо рта капала слюна. Голова бывала ясной не более, чем полчаса в день, после пробуждения от сна, который приходил лишь после большой дозы веронала. Теперь он жил в вечных сумерках».
Гордый, импозантный Демон Творчества, с которым Акутагава прежде любил пообщаться на равных (в новеллах «Муки ада» или в «Диалогах во тьме»), вырождается в пошлого, мелкого беса, вроде того «хилого чертенка с жабьей кровью», что, по словам Набокова, мучил угасающего Гоголя. У Акутагавы герой автобиографической новеллы «Зубчатые колеса» открывает «Братьев Карамазовых» и пугается: «…Не прочитал и одной страницы, как почувствовал, что дрожу всем телом. Это была глава об Иване, которого мучил черт… Ивана, Стриндберга, Мопассана или меня самого в этой комнате».
Для Акутагавы, утверждавшего, что человеческая жизнь не стоит одной строчки Бодлера, мысль о том, что вдохновение уходит, оставляет его наедине с жизнью, была невыносима. Дальше нужно будет жить как все, без «носа в пять сун», обычным кормильцем семьи, отцом троих детей. «В конце концов я сам не более чем мсье Бовари среднего уровня…», – с горечью написал Акутагава, и в его устах не могло быть худшего самоуничижения: не просто посредственность, а посредственность в квадрате, пошлейшая из пошлостей. В предсмертном письме писатель дает своим детям совет, который нечасто можно услышать от родителя: «Если и вы потерпите поражение в жизненной борьбе, тоже уйдите из жизни сами, как это сделал ваш отец».
В «Письме к другу», уже приняв окончательное решение, Акутагава подробно (и крайне невнятно) излагает причины самоубийства. Ему, писателю до мозга костей, важно все написать про себя самому, не оставить простора для домыслов и интерпретаций. Он даже зачем-то пространно объясняет резоны, которыми руководствовался при выборе способа смерти:
«Первое, о чем я подумал, – как сделать так, чтобы умереть без мучений. Разумеется, самый лучший способ для этого – повеситься. Но стоило мне представить себя повесившимся, как я почувствовал переполняющее меня эстетическое неприятие этого. (Помню, я как-то полюбил женщину, но стоило мне увидеть, как некрасиво пишет она иероглифы, и любовь моментально улетучилась.) Не удастся мне достичь желаемого результата и утопившись, так как я умею плавать. Но даже если паче чаяния мне бы это удалось, я испытаю гораздо больше мучений, чем повесившись. Смерть под колесами поезда внушает мне такое же неприятие, о котором я уже говорил. Застрелиться или зарезать себя мне тоже не удастся, поскольку у меня дрожат руки. Безобразным будет зрелище, если я брошусь с крыши многоэтажного здания. Исходя из этого я решил умереть, воспользовавшись снотворным. Умереть таким способом мучительнее, чем повеситься. Но зато не вызывает того отвращения, как повешение, и кроме того не таит опасности, что меня вернут к жизни; в этом преимущество такого метода…»
Себя Акутагаве было не жалко, скорее он вызывал у себя чувство презрения – не Бог, каким он мечтал стать когда-то, а ничтожный «мсье Бовари», человекоподобная обезьяна. И традиционное трехстишье, которым Акутагава прокомментировал свой грядущий уход, подчеркивает жалкую и смешную незначительность этого события. Если мартышка не смогла удержаться на набухшей весенними почками ветке творчества, стало быть, туда ей и дорога. Ну, чуть покачнется ветка, не более.
Эмиграция
Подрагивает весенняя ветка.
Мгновение назад
С нее упала мартышка.
Причиной склонности к самоубийству в
эмиграции является не только материальная
нужда, необеспеченность будущего, болезнь,
но еще более ужас, что всегда, до конца дней,
придется жить в чужом и холодном мире и
что жизнь в нем бессмысленна и бесцельна.
Н. Бердяев. «О самоубийстве»
Первым из литераторов, не вынесшим жизни вдали от родины, был древнегреческий философ Менедем Эретрийский (ок.339–265 до н. э.). Проиграв в политической борьбе, он был вынужден бежать из родного полиса в Азию, но питаться хлебом чужбины не стал – в прямом смысле: уморил себя голодом.
Эмиграция для любого человека – испытание тяжелое, но не такое уж суицидоопасное. В конце концов, отъезд на чужбину, да еще, как правило, сопряженный с немалыми усилиями, свидетельствует об активности и воле к жизни: в основе сего перемещения в пространстве лежит желание либо спастись от опасности (то есть выжить), либо обрести лучшую жизнь (то есть опять-таки не умереть, а жить). Конечно, кто-то из эмигрантов, остыв после адреналиновой атаки бегства или не найдя в новообретенном рае того, чего искал, накладывает на себя руки, но причина суицида в этом случае подпадает под хрестоматийные дюркгеймовские законы: социальная дезадаптация, резкое изменение экономического положения и прочее.
Если я отношу эту главу к разделу, посвященному типично писательским мотивациям самоубийства, то лишь потому, что оторванный от родины литератор убивает себя не по Дюркгейму. Для пишущего человека эмиграция во много раз опаснее и смертоноснее, чем для человека иной профессии. Обычный эмигрант помучается с незнакомым языком, поругает чужбину-мачеху, да и худо-бедно приспособится. Некоторые из людей искусства эмиграцию могут и вовсе не заметить, потому что истинная родина художника – мир цвета и линии, а истинная родина композитора – музыка. Но для писателя-то родина – слова и междометия, подслушанные обрывки фраз и неповторимые интонации. Утратив соприкосновение с родной языковой средой и перестав питаться ее соками, литератор – тривиальное, но точное сравнение – превращается в выдранное с корнем растение, которому суждено засохнуть. Исключения вроде Набокова или Бродского, сумевших трансплантировать свой дар в другую почву, крайне редки. О мучительности этого превращения сдержанный Набоков (который, не будем забывать, с детства в совершенстве владел английским) пишет так: «Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, – и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставания с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться: скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня».
Следует оговориться, что речь в этой главе идет не об экспатриации, т. е. добровольном отрыве от родины, а именно об эмиграции – разрыве вынужденном, без возможности вернуться. Писавшие за границей Гоголь и Тургенев эмигрантами не были и в любой момент могли вернуться. Писателю важно жить там, где ему необходимо. Если это невозможно, он перестает писать или пишет гораздо хуже, чем прежде.
В редких случаях утрата родины и ностальгия дают новый импульс творчеству (Бунин, Хласко), но созданные в изгнании произведения окрашены в специфические тона тоски и безысходности. Спасением для писателя, вынужденно покинувшего родину, может стать только особая ситуация, когда эмигрантская колония создает собственный оазис родной литературы – как это произошло в 70-е и 80-е годы с «третьей волной» русского эксодуса.

Правда, этот феномен не вполне типичен, поскольку для многих советских эмигрантов отъезд стал выбором добровольным и оттого гораздо менее травматическим. В любом случае существование некоей «литературной колонии» в иноязычной среде – явление временное. Колонисты либо возвращаются в лоно отечественной словесности, что и произошло с русской «третьей волной», либо просто вымирают, не дав новых всходов, что случилось с литературой первой русской диаспоры. Иногда эмигрантские дети, выросшие и сформировавшиеся вдали от родины, предпринимали попытки (бывало, что и весьма яркие) писать на старом языке, но конец обычно получался тупиковый и мрачный – как у поминавшегося уже Бориса Поплавского или другого поэта, Юрия Одарченко (1903–1960). Он попал в Париж подростком, но не ассимилировался, а продолжал жить русским языком – писал для самого себя странные стихи, сочетавшие японскую лапидарность с образностью детских «ужастиков»:
Мальчик смотрит, улыбаясь:
Ворон на суку.
А под ним висит, качаясь,
Кто-то на суку.
Поплавский убил себя молодым, Одарченко сделал то же самое в зрелом возрасте. Оба, по сути дела, были никому не нужны.

Эмиграция для писателя – это упорствование в никому не нужной профессии со всеми вытекающими отсюда последствиями: нищетой, изолированностью, безысходностью. Или же нужно решительно менять ремесло, то есть идти на творческое самоубийство. Многие ли из людей искусства способны на такое? Физическое самоубийство дается им легче.
И еще о ненужности.
В этой главе не будет трогательных или романтических историй, потому что участь писателя в эмиграции некрасива и скучна, а одинокая смерть жалка и бесшумна: до чуждой родины весть о ней не доходит, а для равнодушных туземцев умерший иммигрант никакой не писатель – у них, слава Богу, есть собственные писатели.
Нужда, утраты, болезни, пьянство – вот обычные спутники писателя-эмигранта, совершающего самоубийство. Какой из этих факторов был главным, а какой второстепенным, определить бывает трудно. Но общий лейтмотив все тот же – ненужность.
Поэтесса Нина Петровская, о которой я уже писал, была нищей и никому не нужной. Выбросилась из окна.
Писатель Иван Болдырев (1903–1933) совершил невозможное – проявил чудеса смелости и находчивости, бежал из нарымской ссылки в Париж. Там жил в крайней нужде, болел, никому не был нужен. Отравился снотворным.
Борис Поплавский был наркоманом и писал талантливые, никому не нужные стихи. Отравился героином.
И так далее – вплоть до литераторов-самоубийц «третьей волны», последним из которых, уже в постсоветское время, стал живший в Гамбурге поэт Евгений Хорват (1961–1993).
Об эпидемии самоубийств среди немцев в 30-е и 40-е годы я писал в главе «Политика». Эти люди, которым хватило энергии, предприимчивости и жизненного инстинкта вырваться из лап гестапо, в относительном благополучии и несомненной безопасности эмиграции гибли один за другим.
Назову лишь нескольких, из наиболее именитых.
Меньше всех в эмиграции продержался Курт Тухольский (1890–1935). Нацистский режим числил его среди самых непримиримых своих врагов и лишил немецкого гражданства одновременно с Генрихом Манном и Лионом Фейхтвангером. Книги Тухольского сгорели в кострах, песни были запрещены. Писатель развелся с оставшейся в рейхе женой, чтобы избавить ее от преследований. Жил в Швеции. Писать не мог. В то, что немцы образумятся, не верил.
В одну и ту же майскую неделю 1939 года покончили с собой австрийский классик Йозеф Рот (1894–1939) и немецкий драматург-экспрессионист Эрнст Толлер (1893–1939). Йозеф Рот был католиком и ностальгировал по габсбургской империи. Толлер был марксистом и другом СССР. Ничего общего кроме времени и обстоятельств смерти между двумя этими литераторами не было. Рот бедствовал в Париже, лишенный средств к существованию и возможности писать; его жена сошла с ума; он отравился. Толлер бедствовал в Нью-Йорке, был уверен, что его пьесы никому не нужны; жена его бросила; он повесился.
Кроме двух главных эмигрантских потоков – бежавших от Гитлера немцев и бежавших от Ленина-Сталина-Брежнева русских – были в XX веке и иные, не столь массовые исходы, увлекшие за собой литераторов и погубившие некоторых из них.
Испанский философ и эссеист Эухенио Имаз (1900–1951), республиканец, ученик Хайдеггера, после победы франкистов нашел убежище в Мексике. Казалось бы, жизнь в стране, пусть с другой культурой, но все же говорящей на том же языке, для литератора должна быть менее мучительной, однако Имаз вдали от Испании выжить не смог. Он совершил самоубийство в состоянии раптуса: во время обеда с друзьями внезапно встал, извинился, вышел в другую комнату и повесился в шкафу на собственных подтяжках.
Польский поэт Ян Лехонь (1899–1956) выбросился из окна нью-йоркского небоскреба. Он был эмигрантом вдвойне – и от фашистов, и от коммунистов. Для него, приверженца Пилсудского, 1945 год стал лишь сменой одного «анти» на другое: из «антинацистского» эмигранта Лехонь превратился в «антикоммунистического».
Другой поляк, Марек Хласко (1934–1969) был далек от политики. Ему просто хотелось жить не по социалистическим, а по собственным законам. «Выбрав свободу», Хласко скитался по разным странам и нигде не смог прижиться. «Мир состоит из двух половин, – писал он, – в одной из которых невозможно жить, а в другой – невозможно выдержать». Это был тот случай, когда литератор на чужбине мог писать, но не мог жить. Много пил, принимал наркотики. Умер от того, что проглотил целую склянку снотворного. На могиле Хласко высечена надпись, повторяющая название его повести: «И все отвернулись».
Венгерский писатель и поэт Шандор Марай (1900–1989), уехавший накануне коммунистического переворота, прожил в изгнании много лет. Он покончил с собой, совсем немного не дожив до краха коммунистического режима. Марай так и не простил свою страну, хотя венгерские власти неоднократно пытались приручить маститого литератора.
Эмиграция – это когда родина прокляла писателя, но и писатель проклял родину. Ему без нее жить невозможно. Ей без него вроде бы и ничего – мало ли их, писателей?
Но в том-то и дело, что мало.
И все ж тоска неодолимая
К тебе влечет: прими, прости.
Не ты ль одна у нас родимая?
Нам больше некуда идти.
Так, во грехе тобой зачатые,
Должны с тобою погибать
Мы, дети, матерью проклятые
И проклинающие мать.
(Д. Мережковский. «Возвращение»)








![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)